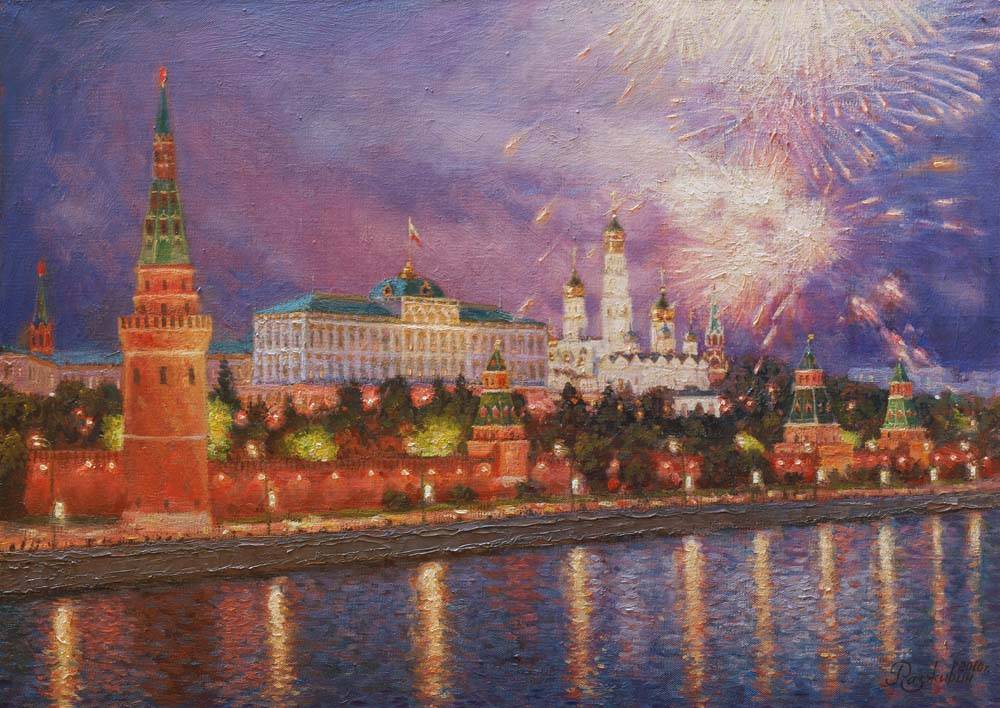–Т–∞—Б–Є–ї—М –Ґ–Ї–∞—З—С–≤. –¶–Є–Ї–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ ¬Ђ–Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ —Н—Е–Њ –≤–Њ–є–љ—Л¬ї (—В—А–µ—В—М—П –њ—А–µ–Љ–Є—П)
–Т–∞—Б–Є–ї—М –Ґ–Ї–∞—З—С–≤. –¶–Є–Ї–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ ¬Ђ–Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ —Н—Е–Њ –≤–Њ–є–љ—Л¬ї (—В—А–µ—В—М—П –њ—А–µ–Љ–Є—П)

09 –Љ–∞—П 2015
2015-05-09
2017-04-20
207
–Ґ–Ї–∞—З—С–≤ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З
–І–ї–µ–љ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є. –Р–≤—В–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –њ—А–Њ–Ј—Л –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е. –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В –њ—А–µ–Љ–Є–Є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –Ј–∞ –Ї–љ–Є–≥—Г –њ—А–Њ–Ј—Л ¬Ђ–°–љ—Г–Ї–µ—А¬ї (—А–Њ–Љ–∞–љ, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л). –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В –њ—А–µ–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Т–∞—Б–Є–ї—П –Т–Є—В–Ї–Є –Ј–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Є —О–љ–Њ—И–µ—Б—В–≤–∞ –Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ. –С–Њ—П–љ–∞.
.

–Ґ–Ї–∞—З—С–≤ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ѓ—А—М–µ–≤–Є—З.
–І–ї–µ–љ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є. –Р–≤—В–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –њ—А–Њ–Ј—Л –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е. –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В –њ—А–µ–Љ–Є–Є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є –Ј–∞ –Ї–љ–Є–≥—Г –њ—А–Њ–Ј—Л ¬Ђ–°–љ—Г–Ї–µ—А¬ї (—А–Њ–Љ–∞–љ, –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л). –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В –њ—А–µ–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Т–∞—Б–Є–ї—П –Т–Є—В–Ї–Є –Ј–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Є —О–љ–Њ—И–µ—Б—В–≤–∞ –Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ. –С–Њ—П–љ–∞.
.
–Ф–Њ—Б–Ї–Є
.
–Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М, —З—В–Њ —Б–µ–ї–Њ –Ь–∞–і–Њ—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ—А–Є—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–µ. –С—Г–є–љ–Њ —Ж–≤–µ–ї–Є —Б–∞–і—Л, –Є —Е–∞—В—Л, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Г—В–Њ–љ—Г–ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –±–µ–ї–Њ-—А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –±—Г–Ї–µ—В–µ. –Ґ—Г–і–∞-—Б—О–і–∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –Є —Г–ї–Њ—З–Ї–∞–Љ –ї—О–і–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—А–Є–Ї–Є –Є —А–µ–±—П—В–Є—И–Ї–Є: –≤–Њ–є–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б–µ–ї–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е, –∞ –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –Љ–Њ–≥ –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–і –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ—С–љ–∞ вАУ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –†–Њ–і–Є–љ—Г.
–Э–∞–і –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–Ї–Њ–µ–Љ –Є —В–Є—И–Є–љ–Њ–є –≤—Л—Б–Є–ї–∞—Б—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Х–µ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞ –±—Л–ї–Є –≤–Є–і–љ—Л –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞, –Є –±–Њ–є—Ж—Л –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ –Є ¬†–ѓ–Ї—Г—И–µ–љ–Ї–Њ ¬†–њ–Њ –љ–Є–Љ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М: —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М —В–∞ —Б–∞–Љ–∞—П –Ь–∞–і–Њ—А–∞, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Є –Є –і–µ—А–ґ–∞—В –њ—Г—В—М. –Э–µ –Њ—И–Є–±–ї–Є—Б—М. –Ш–і—Г—В –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г—В—А–Њ–Љ –±–Њ–є—Ж—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ–Њ–ї –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞, –≥–і–µ –±—Г–і–µ—В —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ —И—В–∞–± –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞, –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї. –° –љ–Є–Љ–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л –±—Л—В—М –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –У—Г—Б–µ–≤, –љ–Њ –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П вАУ –і–Њ–±—Л–≤–∞–µ—В –≥–і–µ-—В–Њ –≥–≤–Њ–Ј–і–Є, –Њ–±–µ—Й–∞–ї –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г —П–≤–Є—В—М—Б—П ¬Ђ–Ї—А–Њ–≤—М –Є–Ј –љ–Њ—Б—Г¬ї, –∞ –±–Њ–є—Ж—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л—В—М вАУ —В–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ–Ї—А–Њ–≤—М –Є–Ј –љ–Њ—Б—Г¬ї вАУ –і–Њ—Б–Ї–Є. –Э–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤—Б—О —Н—В—Г —В—А–Њ–Є—Ж—Г, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ю—Б–Њ–Ї–Є–љ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї: ¬Ђ–У–і–µ —Е–Њ—В–Є—В–µ, —В–∞–Љ –Є –і–Њ–±—Л–≤–∞–є—В–µ –і–Њ—Б–Ї–Є! –£ –Љ–µ–љ—П –љ–µ—В—Г! –ѓ—Б–љ–Њ? –Р –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј вАУ –њ–Њ–є–і–µ—В–µ –њ–Њ–і —В—А–Є–±—Г–љ–∞–ї!¬ї
–Ч–і–∞–љ–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ, –±–Њ–є—Ж—Л —Н—В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –њ–Њ —В–µ—Б–Њ–≤—Л–Љ –±—А–µ–≤–љ–∞–Љ, –Є —Е–Њ—В—П –љ–∞ –і–≤–µ—А–Є –±–Њ–ї—В–∞–ї—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞–Љ–±–∞—А–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Г—Е–Є—В—А–Є–ї—Б—П –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М –њ–Њ–ї –Є —Г–љ–µ—Б—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –Њ–Ї–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –≤—Б–µ –і–Њ—Б–Ї–Є. –Т—Б–µ –і–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–є. –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ –Є –ѓ–Ї—Г—И–µ–љ–Ї–Њ, –њ—А–Є–ї—М–љ—Г–≤ –Ї –Њ–Ї–љ–∞–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ ¬†—А–µ—И–Є–ї–Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, —Г ¬†–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ї–ї—О—З –Њ—В –Ј–і–∞–љ–Є—П. –Я–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ: –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Б–∞–Љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ї ¬†–љ–Є–Љ —Б—В–∞—А–Є–Ї –®–Є—И, –њ–Њ–ґ–∞–ї –±–Њ–є—Ж–∞–Љ —А—Г–Ї–Є, –і–µ–ї–Њ–≤–Є—В–Њ –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П:
вАУ –° –Ї–∞–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О, –Њ—А–ї—Л, –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є?
–£–Ј–љ–∞–≤, –≤ —З–µ–Љ –і–µ–ї–Њ, –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї:
вАУ –Ъ–ї—О—З-—В–Њ –±—Л–ї —Г –Я–µ—В—А–∞ –Ъ–Њ–≤–∞–ї–µ–≤–∞, —Г –њ—А–µ–і–∞, –љ–Њ –Њ–љ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –ї–µ—Б—Г —Б –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ–Є. –Р –Ї—В–Њ —Б–≤–Њ—А–Њ–≤–∞–ї –і–Њ—Б–Ї–Є вАУ –њ–Њ–і–Є –Є—Й–Є. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞—И–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ—Б–µ–і–Є. –Ч–∞ –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–µ —Г—Б–ї–µ–і–Є—И—М. –Э–Њ –≥–і–µ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞–±–µ—А–µ—В–µ—Б—М –≤—Л –і–Њ—Б–Њ–Ї –љ–∞ –њ–Њ–ї вАУ –Њ–є, –±—А–∞—В—Ж—Л, –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В–µ?
вАУ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј, вАУ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ.
вАУ –°–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О —П –≤–∞–Љ, –љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—В–∞—А–Є–Ї –Є –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –Є–і—В–Є, –љ–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –±–Њ–є—Ж–∞—Е. вАУ –Я—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—П —Е–Њ—В—П –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П? –Р –љ–µ —В–Њ, —В–∞–Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В–µ –Ї–Њ –Љ–љ–µ вАУ –љ–∞–Ї–Њ—А–Љ–ї—О –Ї–∞—А—В–Њ–њ–ї–µ–є —Б –Ї–∞–њ—Г—Б—В–Њ–є. –°–њ—А–Њ—Б–Є—В–µ –і–µ–і–∞ –®–Є—И–∞. –Ь–µ–љ—П –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ј–љ–∞–µ—В. –Ш –Њ–љ –Ј–∞—И–∞–≥–∞–ї –њ—А–Њ—З—М.
вАУ –Ф–µ–і –®–Є—И!вАУ –Њ–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ.
вАУ –І–µ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ? вАУ ¬†–њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б—В–∞—А–Є–Ї.
вАУ –Ы–Њ–Љ–Є–Ї –њ—А–Є–љ–µ—Б–Є—В–µ... —Н—В–Њ, –∞–≥–∞, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤–Њ–ї–љ—Г—П—Б—М, –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ.
вАУ –Ы–∞–і–љ–Њ.
–Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ –Є –ѓ–Ї—Г—И–µ–љ–Ї–Њ, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ, —А–µ—И–Є–ї–Є —Б—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М: —В–∞–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –і–Њ—Б–Ї–Є. –У–і–µ –ґ –µ—Й–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —В–∞–Љ? –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –Њ–љ–∞ —А—П–і–Њ–Љ, –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–љ–Є–±—Г–і—М —Б—В–∞ –Љ–µ—В—А–∞—Е. –°—В—А–∞–љ–љ–Њ, –і–≤–µ—А—М –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –љ–µ –Ј–∞–њ–µ—А—В–∞, –∞ –≤ –≤–љ—Г—В—А–Є вАУ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –°–Њ–ї–і–∞—В–Є–Ї–Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є—Б—М. –Ґ–∞–Ї –Є –µ—Б—В—М вАУ –≤–Њ—В –Њ–љ–Є, –і–Њ—Б–Ї–Є. –Я–Њ–ї –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є, –і–Њ—Б–Ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –Є –љ–Њ–≤–∞—П. –Я–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ-—В–Њ –Ї–∞–Ї, –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ!
вАУ –Р –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Љ—Л –±–µ–Ј –ї–Њ–Љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–Є? вАУ –њ–Њ–ґ–∞–ї –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –ѓ–Ї—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. вАУ –С–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ –Є —В—Г—В, –≤ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –љ–µ –Њ–±–Њ–є–і–µ–Љ—Б—П. –Ч–љ–∞—З–Є—В, —В–∞–Ї: —П –Ї –і–µ–і—Г –®–Є—И—Г, –∞ —В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –і–Њ–ґ–і–µ–Љ—Б—П вАУ —А–∞–Ї –љ–∞ –≥–Њ—А–µ —Б–≤–Є—Б–љ–µ—В! –Я—А–Є—И–ї–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ –Є –Љ–Њ–ї–Њ—В–Ї–Њ–Љ.
вАУ –Ш –±–µ–Ј –≥–≤–Њ–Ј–і–µ–є, вАУ —Е–Љ—Л–Ї–љ—Г–ї –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ.
–°—В–∞—А–Є–Ї –®–Є—И –±–µ–Ј—А–Њ–њ–Њ—В–љ–Њ –і–∞–ї —Б–Њ–ї–і–∞—В–Є–Ї–∞–Љ –ї–Њ–Љ, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї, –≥–і–µ –Њ–љ–Є —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –±—А–∞—В—М –і–Њ—Б–Ї–Є, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–≤, –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–ї—Б—П, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, —Б—Г—А–Њ–≤–Њ –≥–ї—П–љ—Г–≤ –љ–∞ –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, —Б —Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–Њ–є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:
вАУ –Р –С–Њ–≥–∞ –љ–µ –±–Њ–Є—В–µ—Б—М?
–Х–Љ—Г –љ–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є.
вАУ –Я–Њ–±–Њ–є—В–µ—Б—М –С–Њ–≥–∞, –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є.
вАУ –Р —И—В–∞–± –Ї—Г–і–∞ вАУ –љ–∞ –Њ–±–ї–∞–Ї–∞? вАУ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї –љ–∞ –љ–µ–±–Њ –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ.
вАУ –≠—В–Њ –ґ–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М! –С–Њ–≥ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В! –Ю–љ –≤—Б—С –≤–Є–і–Є—В!..
–®–Є—И, –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –Љ–∞—Е–љ—Г–≤ —А—Г–Ї–Њ–є, —Г—И–µ–ї. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л —Б–∞–Љ —Г—И–µ–ї –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В –≥—А–µ—Е–∞.
–Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–ї, –∞ –ѓ–Ї—Г—И–µ–љ–Ї–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї –і–Њ—Б–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–≤–Њ–ї–Њ–Ї –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –і–Њ—Б–Ї—Г –Ї –Ј–і–∞–љ–Є—О —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В–∞, —В–Њ —З—Г—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –і–∞—А —А–µ—З–Є: —В–µ—Е, –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –і–Њ—Б–Њ–Ї, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М. ¬Ђ–І—Г–і–µ—Б–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ!¬ї –Я–Њ–±–µ–ґ–∞–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О —Б —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–Љ. –Э–µ –і–Њ–±–µ–ґ–∞–ї вАУ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –µ–Љ—Г –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П –љ–µ–Љ–Њ–є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –ґ–µ—Б—В–Є–Ї—Г–ї–Є—А—Г—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї, –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–≤–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—О—В –±–Њ–є—Ж—Л:
вАУ –Р-–∞-–∞! –£-—Н-—Н-–∞! –Р-–∞-–∞! –£-—Н-—Н-–∞!
–Э–∞ —И—Г–Љ –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤–µ—Б—М –њ–Њ—В–љ—Л–є –Є –≤ –њ—Л–ї–Є –ѓ–Ї—Г—И–µ–љ–Ї–Њ. –Ю–љ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В —Г–±–µ–ґ–∞–ї, –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ –љ–µ—А–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є–ї —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О:
вАУ ¬†–Ю–і–љ–Є –љ–µ –і–∞—О—В, –і—А—Г–≥–Є–µ вАУ –≤–Њ—А—Г—О—В! –Э—Г, —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М?!..
–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –і–Њ—Б–Ї–Є –±–Њ–є—Ж—Л –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–ї–Є, –љ–µ–Љ–Њ–є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є—Е –љ–µ —Г–≤–Њ–ї–Њ–Ї: –Њ–љ–Є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –≤–Њ —А–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Ј–∞ –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В–∞. –Я—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –Є—Е –љ–∞–Ј–∞–і, –њ—А–Є–Ї–Є–љ—Г–ї–Є: –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –і–Њ—Б–Њ–Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Е–≤–∞—В–Є—В—М. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Њ вАУ –ґ–і–∞—В—М —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Г –У—Г—Б–µ–≤–∞ —Б –≥–≤–Њ–Ј–і—П–Љ–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —В–Њ—В, –і–Њ–ї–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—П, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г —Н—В–Є –≥–≤–Њ–Ј–і–Є, –≥–Њ—А–µ–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Є —Б–Є–љ–Є–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ!
–Ъ —Г—В—А—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –±—Л–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ. –Р –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞–і –Ь–∞–і–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї ¬Ђ–Ѓ–љ–Ї–µ—А—Б¬ї –Є —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–Љ–± –љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А —Б–µ–ї–∞. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В–∞. –°–µ–ї—М—З–∞–љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –≤ –љ–µ–±–Њ, –≤–Ј–і—Л–±–Є–≤—И–Є—Б—М, –≤–Ј–ї–µ—В–∞–ї–Є –і–Њ—Б–Ї–Є... –£—Б–њ–µ–ї–Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ъ—А—Г–њ—П–љ–Ї–Њ, –ѓ–Ї—Г—И–µ–љ–Ї–Њ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –У—Г—Б–µ–≤ вАУ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є. –Ф–∞–ґ–µ —Б—В–∞—А–Є–Ї –®–Є—И. –Ю–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї, —Б—В–Њ—П –≤–Њ–Ј–ї–µ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є:
вАУ –ѓ –ґ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є–Љ, –љ–µ—Б–ї—Г—Е–Є!... –ѓ –ґ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є–Љ!..
.
–†–∞–± —И–Љ–µ–ї—П
.
–Р–љ—В–Њ–љ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є—Е, —З—В–Њ–± –µ–Љ—Г –њ–µ—А–≤–Њ-–љ–∞–њ–µ—А–≤–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –њ—Г—И–µ—З–Ї—Г, –Њ–љ–∞ –ї–µ–ґ–Є—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–≥–Њ —П—Й–Є–Ї–∞ —Б—В–Њ–ї–∞. –Ґ–∞–Љ вАУ —И–Љ–µ–ї—М. ¬Ђ–Я–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –µ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П, –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –µ–Љ—Г, –Њ–Ї–∞—П–љ–љ–Њ–Љ—Г, –≥–ї—П–љ—Г—В—М¬ї. –°–њ–µ—А–≤–∞ –Њ–љ, —И–Љ–µ–ї—М, –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –±–µ–ї–Њ–Љ —Б—В–∞—А–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –Љ–∞–Љ–Є–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—В–Ї–µ, —Б—А–∞–Ј—Г –≤–њ–Њ–њ—Л—Е–∞—Е –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–µ–љ—М–Ї–Є–є —Г–Ј–µ–ї–Њ–Ї вАУ –њ—Г—Б—В—М –Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–Ј–∞–µ—В —В–∞–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–≥–Њ–Љ–Њ–љ–Є—В—Б—П. –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є, —И–Љ–µ–ї—М, —Г —В–µ–±—П —Б—Г–і—М–±–∞ —В–∞–Ї–∞—П... –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є...
–С—Л–ї–Њ —Н—В–Њ –µ—Й–µ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї –Ї—Г—А–Є—В—М, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Њ —И–Љ–µ–ї–µ –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –µ–≥–Њ, —Б—Г—Е–Њ–≥–Њ, –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—Г—И–Є–љ–Ї–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ вАУ —Б –ґ–µ–ї—В—Л–Љ–Є –њ–Њ–і–њ–∞–ї–Є–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–і –Ї—А—Л–ї—Л—И–Ї–∞–Љ–Є вАУ –≤ —Б–њ–Є—З–µ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–Њ–±–Њ–Ї: –ї–µ–ґ–Є –Ј–і–µ—Б—М, –њ–Њ—З—В–µ–љ–љ—Л–є. –Х—Й–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї—Г—О –ї–∞–≤–Ї—Г –Ј–∞–≤–µ–Ј–ї–Є –Љ–Њ–љ–њ–∞–љ—Б—М–µ –≤ –ґ–µ—Б—В—П–љ–Ї–∞—Е, —В–Њ, –Њ–њ–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–≤ –Є—Е, –і–µ—В–Є –Ј–≤–µ–љ–µ–ї–Є –Љ–µ–і—М—О –Є –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–µ—В–Њ–є, –∞ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є–ї–Є —В–µ –ґ–µ—Б—В—П–љ–Ї–Є, –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Е –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –њ—Г—И–µ—З–Ї–Є, –њ–Њ–і —Б–∞–Љ–Њ—Б–∞–і, –љ–Є—В–Ї–Є, –Є–≥–Њ–ї–Ї–Є –Є –њ—Г–≥–Њ–≤–Є—Ж—Л. –Р–љ—В–Њ–љ –ґ–µ, —В–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ–Є–Ї, –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Б–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —И–Љ–µ–ї—П: –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–ї–µ–ґ–Є –Ј–і–µ—Б—МвА¶ –Ј–і–µ—Б—М —В–µ–±–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–ЊвА¶
–Я–Њ–Ї–∞ –ґ–Є–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞, —И–Љ–µ–ї—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ вАУ –≤ —Б—Г–љ–і—Г–Ї–µ, –≥–і–µ –±—Л–ї–∞ —Б–њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤—Б—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–љ–Є-–њ–Њ–і–Њ–і–µ—П–ї—М–љ–Є–Ї–Є. –Ь–∞–Љ—Л –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ—В, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ї—Г–і–∞ –Ј–∞–і–µ–≤–∞–ї—Б—П –Є —Б—Г–љ–і—Г–Ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Р–љ—В–Њ–љ –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ, –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ –Є —Й—Г–њ–ї—Л–є —Б—В–∞—А–Є—З–Њ–Ї —Б –њ—А—П–Љ—Л–Љ –Є —З—Г—В—М –Ј–∞–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–Њ—Б–Њ–Љ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞, –Ј–∞–≥–љ–∞–≤ —И–Љ–µ–ї—П –≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї –Њ–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є —А–∞–Љ—Л, —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М: ¬Ђ–Ф–µ—А–ґ–Є –µ–≥–Њ!.. –Ы–Њ–≤–Є!.. –Ы–Њ–≤–Є, —И–Ї–Њ–і–Њ–±—Г!.. –£–±–µ–ґ–Є—В!.. –Р–≥–∞, –њ–Њ–њ–∞–ї—Б—П, —В—Г—В–∞-–∞!..¬ї –Р —В–Њ–≥–і–∞, –Ј–∞–≤—П–Ј–∞–≤ —И–Љ–µ–ї—П –≤ —В–Њ—В –±–µ–ї—Л–є —Б—В–∞—А–µ–љ—М–Ї–Є–є –њ–ї–∞—В–Њ–Ї, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ —Г–ї—Л–±–∞—П—Б—М, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —Б—Л–љ—Г: ¬Ђ–Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є, –Р–љ—В–Њ–љ: –µ—Б–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —И–Љ–µ–ї—П, —З—В–Њ –≤–µ—Б–љ–Њ–є –Ј–∞–ї–µ—В–Є—В, –Ј–∞—Б—Г—И–Є—В—М –Є –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –і–Њ–Љ–µ, —В–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –љ–µ –Њ–±–Њ–є–і–µ—В —В–µ–±—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г—И–Ї–Њ–є, –±—Г–і–µ—И—М –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ –Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ. –Э–∞, —Б–∞–Љ —Б–њ—А—П—З—М —Н—В–Њ—В —Г–Ј–µ–ї–Њ–Ї. –Ю–љ —В–≤–Њ–євА¶¬ї
–®–Љ–µ–ї—П, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї, –Р–љ—В–Њ–љ—Г –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ—Г –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є. –Я–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ—Г—И–µ—З–Ї—Г –љ–∞ ¬†—В—Г–Љ–±–Њ—З–Ї–µ, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –і–∞ –Є –њ–Њ—И–ї–Є: –і–µ–ї, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –і–Њ–Љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Э–µ–Ї–Њ–≥–і–∞. –Р —Б—В–∞—А–Є–Ї –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ, –љ–∞—Ж–µ–ї–Є–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ–Њ—В–Њ–ї–Њ–Ї –Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤—Б—В–∞—В—М, –∞ –Ї–∞–Ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ вАУ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Ј–љ–∞–ї: –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Є–ї—Л –њ–Њ—З—В–Є —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ, —В–µ–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ—Л–Љ, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї —Е–Њ–і–Є—В—М –і–∞–ґ–µ –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Г—О. –Х–і—Г –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—В –≤ –њ–∞–ї–∞—В—Г, —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–Ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –µ–Љ—Г –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П, —В–Њ–њ—З–µ—В –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ—Г –њ–Њ–і—Г—И–Ї—Г, –Є –Р–љ—В–Њ–љ ¬†–Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б –љ–µ–є, —Б –µ–і–Њ–є-—В–Њ.
–Р —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –µ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–і–Њ –≤—Б—В–∞—В—М. –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, –≤—Б–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є, –Є –Њ–љ –Њ–і–Є–љ –≤ –њ–∞–ї–∞—В–µ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї–Є, –Є —И–Љ–µ–ї—П. –°–∞–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б—Г–і–∞—З–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ, —Б –≥–ї–∞–Ј—Г –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј. –С—Г–і–µ—В –ї–Є –µ—Й–µ –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В? –Ф–∞–≤–∞–є, –і–∞–≤–∞–є, –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ, —Б–Њ–±–µ—А–Є –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О —Н–љ–µ—А–≥–Є—О, –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –≤–Њ–ї—О –Є —Б—В—А–∞—Б—В—М –≤ –Ї—Г–ї–∞–Ї, —Б—В–Є—Б–љ–Є –Ј—Г–±—Л вАУ –Є –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є, –±—А–∞—В–Ї–∞!.. ¬†–®–Љ–µ–ї—М –ґ–і–µ—В. –Ґ—Л –ґ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ, ¬†—В–∞–Ї —З—В–Њ вАУ –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞!..
–Ш –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—ПвА¶ –Љ–Њ—А—Й–Є—В—Б—П –Њ—В –±–Њ–ї–ЄвА¶ –Ї—А—П—Е—В–Є—В... —Б—В–Њ–љ–µ—В... –≤—Л—А—Г–≥–∞–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ –Љ–∞—В–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –Њ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–євА¶ –Є, –Њ–њ–µ—А—И–Є—Б—М –љ–∞ –ї–Њ–Ї–Њ—В—М, –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –±–Њ–Ї, —Б–≤–µ—Б–Є–ї –љ–Њ–≥–ЄвА¶ –Ъ–∞–Ї –љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–∞–±–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б—В–∞–≤–∞—В—М –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є –љ–µ —Б—В–∞–ї: —Г–і–∞—З–љ–Њ, —А–µ—И–Є–ї, –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ, —З—В–Њ –Є —В–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –°–Є–і–µ—В—М вАУ –љ–µ –ї–µ–ґ–∞—В—М: –≤—Б–µ –ґ–µ –њ–Њ–ї–µ–≥—З–µ ¬†—А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М –±—Г–і–µ—ВвА¶
вАУ –Э—Г, –≥–і–µ —В—Л, —И–Љ–µ–ї—М? вАУ –і—А–Њ–ґ–∞—Й–µ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ –≤–Ј—П–ї –њ—Г—И–µ—З–Ї—Г, —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї –µ–µ, –Ј–∞—В–µ–Љ –і—А–Њ–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї —Б—Г—Е–Њ–є вАУ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П! вАУ —И–Љ–µ–ї—М: –±–µ–Ј –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–Є –Њ–љ –±—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї—Б—П –≤ –њ—Л–ї—М, –Ї–∞—В–∞—П—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–µ. вАУ –≠—В–Њ —П, –Р–љ—В–Њ–љ. –Ш–Ј –У—Г—В—Л. –£–Ј–љ–∞–ї? –Э–µ –њ—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞–є—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ—ВвА¶ –Т—Б–µ —В—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, –≤—Б–µ —В—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—МвА¶ ¬†–Р —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–є –Љ–µ–љ—П, –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б —В–Њ–±–Њ–є –ґ–∞–ґ–і—Г! вАУ –Я—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ, ¬†–њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –Ї –≥–Њ—А–ї—Г, —Б–њ–µ—А –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ, –Њ–љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–∞—Г–Ј–∞; –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –≤—Л—В–µ—А –Є –≤–ї–∞–≥—Г –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е: вАУ –Ґ–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М!.. –І—В–Њ –ґ —Н—В–Њ —В—Л, —И–Љ–µ–ї—М, –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, —А–Њ–ї–Є?.. –Ѓ–ї–Є–ї, —Г—Б—В—А–∞–љ—П–ї—Б—П, –∞?.. –Э–µ—В, —В—Л –љ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є, —З—В–Њ —П —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —В–µ–±—П, –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї—Б—ПвА¶ –Љ–Њ–ї, –њ—Г—Б—В—М –Њ–љ–Њ –≥–Њ—А–Є—В –≤—Б–µ —Б–Є–љ–Є–Љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ, –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ—И–µ–≤–µ–ї—О, –Є–±–Њ –Љ–љ–µ —И–Љ–µ–ї—М –і–µ–љ–µ–≥ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Є –Ї–∞—И–Є –љ–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В. –Х—Б–ї–Є –±—Л —В–∞–Ї! –°—В–∞—А–∞–ї—Б—П –ґ–Є—В—М, –≤—Б–µ —Б–Њ–Ї–Є –≤—Л–ґ–Є–Љ–∞–ї –Є–Ј —Б–µ–±—П, –љ–∞–і–µ—П—Б—М –Є –љ–∞ —В–µ–±—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –Є–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є –њ—И–Є–Ї, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ –њ—А–∞–≤–і–µ. –Ґ—Л –њ–Њ–≥–ї—П–і–Є, –њ–Њ–≥–ї—П–і–Є ¬†–љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –љ–∞ –Ї–Њ–≥–Њ —П –њ–Њ—Е–Њ–ґ?.. –Р –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М –ґ–µ –≤—Б–µ —В–∞–Ї —Е–Њ—А–Њ—И–ЊвА¶ –Т–Є–і–∞—В—М, —В–∞–Љ –Є —В—Л –њ–Њ–і–Љ–Њ–≥... –Р –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–њ—А–Є–Ј–љ–Є—З–∞–ї. –І—В–Њ —Д–∞–Ї—В, —В–Њ —Д–∞–Ї—В. –Ъ–∞–Ї –±—Л —В–∞–Љ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –∞ –љ–∞ —В–µ–±—П —П —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤ –Њ–±–Є–і–µ, —И–Љ–µ–ї—М. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ-–Њ!.. –Э–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї —В—Л –Љ–∞–Љ–Є–љ—Л—Е –љ–∞–і–µ–ґ–і, –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ –Њ–љ–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–є–Љ–∞–ї–∞ —В–µ–±—П, –∞ —П –љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П —Б –Ї–Њ—А–Њ–±–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є-–њ—Г—И–µ—З–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Б –њ–Є—Б–∞–љ–Њ–є —В–Њ—А–±–Њ–є, –Є –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –і–∞–є –њ–∞–Љ—П—В–Є, –±—Л–ї —В–≤–Њ–Є–Љ —А–∞–±–Њ–Љ. –Э–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ. –Ш –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г —В–µ–±—П –±—А–∞–ї, —А—Г–Ї—Г –≤–Њ—В, –і–∞, –њ—А–∞–≤—Г—О, –Љ–Њ—О —А–∞–±–Њ—З—Г—О, –Њ—В—В—П–њ–∞–ї–Є... –Э–µ —Б–њ–∞—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤... –Т–Є–і–Є—И—М? –Я—Г—Б—В–Њ–є, –њ—Г—Б—В–Њ–є —А—Г–Ї–∞–≤... –Т–і–Њ–±–∞–≤–Њ–Ї –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї –±–µ–і—А–Њ —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–Є–ї... –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є —Е—А–Њ–Љ–∞—О –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М... –Р –≤–Њ—В –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Л –љ–µ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —П —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –њ–Њ—Ж–∞–њ–∞–ї—Б—П, –Ј–∞ –Ї–∞–Ј–∞—Е–∞ –®–∞–Ї–Є—А–∞ –С–∞—Е—В—Л–±–∞–µ–≤–∞ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї—Б—П: –Њ–љ –µ–≥–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–Љ –Њ–±–Њ–Ј–≤–∞–ї... –Є —З–µ–Љ –µ—Й–µ вАУ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О... –і–∞–≤–љ–Њ –±—Л–ї–Њ... ¬†–Р —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М!.. –Э–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–є, –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ —П –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ї–∞—О—Б—М, —И–Љ–µ–ї—МвА¶ –Ш —Г–ґ–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В—А–µ–Ї—Г—Б—М: –љ–µ—В –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–ЄвА¶–љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—МвА¶
–Ъ—В–Њ-—В–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –і–≤–µ—А—М –≤ –њ–∞–ї–∞—В—Г –Є —В—Г—В –ґ–µ –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ –µ–µ –њ—А–Є—В–≤–Њ—А–Є–ї. –Ґ–Њ—В –Ї—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ вАУ –Є –≤—А–Њ–і–µ –µ–Љ—Г –љ–µ —Б –Ї–µ–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М, –∞ –Њ–љ, –≥–ї—П–љ—М—В–µ, —А–∞–Ј–Ј–∞–і–Њ—А–Є–ї—Б—П вАУ —В—А–µ—Й–Є—В –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–ґ —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А, –љ–µ —Г–Љ–Њ–ї–Ї–∞—П. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –Ї—В–Њ-—В–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤ –њ–∞–ї–∞—В–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, —А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П ¬†–Є –њ—А–Є—В–≤–Њ—А–Є–ї –і–≤–µ—А—М: —Б –љ–Є–Љ –≤—Б–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ!.. –°–Є–і–Є—В –Є ¬†—Б–∞–Љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤–µ–і–µ—В –±–µ—Б–µ–і—Г вАУ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ–і–Є, —Г–љ—П—В—М –≤—Б–µ —А–∞–Ј–±—Г—И–µ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –љ–µ–Љ —Б—В—А–∞—Б—В–Є. –Т –µ–≥–Њ –≥–Њ–і—Л –±—Л–≤–∞–µ—В. –Ы—Г—З—И–µ –љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤–∞—В—М!..
–Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ –ґ–µ, –Њ—В–Ї–∞—И–ї—П–≤—И–Є—Б—М –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—М. –Ф–∞–ї–µ–µ —И–Љ–µ–ї—О –љ–µ–±–µ–Ј—Л–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М –њ—А–Њ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, –Ј–∞–њ—Г—В–∞–љ–љ—Г—О –Є –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Г—О, –Є –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–≤ –Є —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, —З—В–Њ —А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј ¬†—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є ¬†–µ–≥–Њ, —В—А–Њ–њ–Ї–Є-–і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–Є ¬†–±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–є–і–µ–љ—Л —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–µ–ї–Њ—Б—М –Є —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М, –Є –≤ —В–µ—Е –њ—А–Њ—А–µ—Е–∞—Е, –љ–∞ –і—Г–Љ–Ї—Г —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞, –±—Л–ї –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В –Є —И–Љ–µ–ї—М. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–є!.. –Р, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і —И–Љ–µ–ї–µ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і –Ї–µ–Љ. –Р –µ–Љ—Г —В–∞–Ї —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ–≥–Њ! –Ш, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Ј–і–µ—Б—М —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М, —Б–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ –і–≤–∞ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П.
вАУ –Р —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ, —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б ¬†–љ–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М —Б–µ–ї—М—З–∞–љ–µ, –њ–Є–ї–Є –Ј–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є–ї–Є. –Ю–љ–Њ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ: —А–∞–і–Њ—Б—В—М-—В–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П! –Я–Є–ї –Є —П, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, –Ї–∞–Ї –≤—В—П–љ—Г–ї—Б—П. –Р —В—Л, —И–Љ–µ–ї—М, –≥–і–µ –±—Л–ї, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–њ—А–Є–і–µ—А–ґ–∞–ї –Љ–µ–љ—П, –∞? –•–Њ—В—П ¬†–Є —А–∞–љ—М—И–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ, –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ—М—И–µвА¶ –Т—Б–µ –≤–µ–і—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ –њ–Њ —Б—В–Њ –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Є вАУ —З—В–Њ–±—Л, –Ј–љ–∞—З–Є—В, —Б—В—А–∞—Е —Г–±–Є—В—МвА¶ –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ —Б—В—А–∞—Е —П —Г–±–Є–≤–∞–ї вАУ —Б–µ–±—ПвА¶ –Я—А–Њ–Ї–ї—П—В—Г—Й–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞!.. –Ф–∞, –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Љ—Л —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ–Ј–µ—А–∞, –∞ –љ–µ–Љ—Ж—Л –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–ЉвА¶ –Ш –≤–і—А—Г–≥ –Љ—Л –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–µ—В—М!.. ¬†–Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ –±—Л–ї–Њ... –Ш —В—Г—В –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ—В –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –ї–Њ–і–Ї–∞... –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ? –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Ј–∞–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞? –Ф–∞ –љ–µ—В, –Ј—А—П –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–Њ—Е —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є: –≤ –ї–Њ–і–Ї–µ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–і–Ї–∞ вАУ –≥–Њ–љ–Њ—А–∞—А –Њ—В –≤—А–∞–≥–∞ –Ј–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –њ–µ—Б–љ–Є.... –Э—Г, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Љ—Л –Є –љ–∞–ї–µ–≥–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–µ, –љ–∞ –≤–Њ–і–Ї—Г-—В–Њ... –ѓ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –љ–∞–њ–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –Є —Г—Б–љ—Г–ї... –Р —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М!.. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –Љ–љ–µ –∞—Г–Ї–љ—Г–ї–∞—Б—М вАУ –±—Г–і—М –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–∞!.. –Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–µ –Є –њ–Њ—И–ї–Њ –≤—Б–µ –љ–∞–њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б—П–Ї, —Б—З–Є—В–∞–є...
–Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–Ї–µ –Ю–ї—М–≥–µ, –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ –≤—Л—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г, –≤ –Ю–±–Є–і–Њ–≤–Є—З–∞—Е –і–µ—В–Є—И–µ–Ї —Г—З–Є–ї–∞. –°–Њ—И–ї–Є—Б—М, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ–∞—З–∞–ї–Є –ґ–Є—В—М. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –і–µ–љ—М–≥–Є —Г –љ–µ–µ –±–µ–Ј —Б–њ—А–Њ—Б–∞ –≤–Ј—П–ї, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л–њ–Є—В—М, –Є –Њ–љ–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞ –њ—А–Њ–њ–∞–ґ—Г, —В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ–±—Л —Г–±–Є—А–∞–ї—Б—ПвА¶ –љ–µ–≥–Њ–ґ–µ, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ —Б –њ—М—П–љ–Є—Ж–µ–є –ґ–Є—В—М. –Я–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ вАУ –і–∞-–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ!.. –Р —Г–ґ–µ —Б—Л–љ–Њ–Ї –±—Л–ї —Г –љ–∞—Б, –Т–∞—Б—М–Ї–∞вА¶ –±—А–∞—В –Љ–Њ–є —Б—В–∞—А—И–Є–є –љ–∞ ¬†—Д—А–Њ–љ—В–µ –њ–Њ–≥–Є–±, –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ–≥–ЊвА¶ –≤ —З–µ—Б—В—М –±—А–∞—В–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є... –Т–Њ—В —В–∞–Ї, —И–Љ–µ–ї—М!.. –Р —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М!.. –Ъ –±–∞–±–Ї–µ –≤ –Ч–Є–Љ–љ–Є—Ж—Г –Љ–µ–љ—П –Љ–∞—В—М —Б–≤–Њ–і–Є–ї–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ ¬†–µ–µ —И—Г—И—Г–Ї–∞–љ—М—П –њ–Њ—И–ї–∞ —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞: —Г—З–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є. –Э–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ъ–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—О, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Љ–µ—А—В–µ–є –њ–Њ–≤–Є–і–∞–ї, –љ—Г –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≤—Л–њ–Є—В—М, –∞, —И–Љ–µ–ї—М? –Ь–Њ–ї—З–Є—И—М. –Ґ–µ–±–µ-—В–Њ —З—В–Њ!.. –≠—Е, –µ—В–Є—В—В–≤–Њ—О –Ї–Њ—З–µ—А—Л–ґ–Ї—Г!.. –Ґ—Г—В –Ю–ї—М–≥–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж: –Є —Б–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–Є–Љ–Є, –Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–µ–ї–∞ —Б–µ–±—ПвА¶ –Ї–∞–Ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–ЊвА¶ –Р —В–Њ–≥–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –±–µ–і–∞ —Б–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М: –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є. –Э–∞ —Б–µ–Љ—М –ї–µ—В. –І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ –Љ–Њ–µ–є –≤–Є–љ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л —П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–Є—В–µ–ї—О –Ј–∞–≥–љ–∞–ї —В–Њ–љ–љ—Г –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –Ј–∞–≥–љ–∞–ї... –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –Љ—Г—Е–Њ–є –±—Л–ї. –°—Г–і–Є–ї–Є –≤ –Ц—Г—А–∞–≤–Є—З–∞—Е. –Т—Л–µ–Ј–і–љ–Њ–є —Б—Г–і –±—Л–ї. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є. –Ю–ї—М–≥–∞ –Т–∞—Б—М–Ї—Г –љ–∞ —Б—Г–і –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—П –≤ ¬Ђ–≤–Њ—А–Њ–љ–Њ–Ї¬ї –≤–µ–ї–Є, —Б—Л–љ–Њ–Ї –њ–ї–∞–Ї–∞–ї вАУ –ґ–∞–ї–µ–ївА¶ —А–Њ–і–љ–∞—П –ґ–µ –Ї—А–Њ–≤—М, —З—В–Њ –љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є. –Ґ–∞–Ї —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Њ–є—В–Є—Б—М —Б –Ю–ї—М–≥–Њ–є, –∞ —П –ї—О–±–Є–ї –µ–µ, —Е–Њ—В—М –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є —Б –Ї–Њ–љ–Њ–њ–∞—В—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–ЉвА¶ –Р –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Б–∞–Љ–∞—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П: –≥–ї–∞–Ј–∞ –≥–Њ—А–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Г —Ж—Л–≥–∞–љ–Ї–Є. –Ш –і—Г—И–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П. –Ъ–∞–Ї —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М: –Ю–ї—М–≥–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –≤—Л—И–ї–∞ вАУ –Ј–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї—П, –µ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–Њ—О –±–µ–і—Г –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї–Є –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г. –Ш —З—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –±–µ–Ј —А—Г–Ї–Є, –љ–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –µ–µ –љ–µ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ, –Ї–∞–Ї —П, –∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—А–µ–≤—Г—И–Ї–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –±—Л–ї –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ –Љ–∞–ї—М—Ж–Њ–Љ: –њ—А–Є–љ—П–ї –≤–Ј—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—М –Ј–∞ —А—Г—З–Ї—Г, –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ–µ... –Ю–љ, —П—Б–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї, —А–∞–Ј –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г –љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є. –≠—В–Њ —П –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–∞ –Ю–ї—М–≥–Є –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г. –Э—Г, —В—Л –њ–Њ–љ—П–ї, —И–Љ–µ–ї—М.
–Ш–Ј —В—О—А—М–Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —А–∞–љ—М—И–µ, –њ–Њ–њ–∞–ї –њ–Њ–і –∞–Љ–љ–Є—Б—В–Є—О, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ–µ—Е–∞—В—М –Ї—Г–і–∞-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є вАУ –Њ—В —Б—В—Л–і–∞ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ вАУ –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Т–∞—Б—М–Ї–∞ –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї: –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–≤–µ—В–ї–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П вАУ —Е–Њ—В—М –Є –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–ЄвА¶ –Ч–∞–≤–µ–ї –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї –љ–Њ–≤—Г—О —Б–µ–Љ—М—О вАУ –ґ–Є—В—М –Њ–њ—П—В—М –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —В–µ–Љ –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ, –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Њ–і –±–∞–±–∞, –Њ—В—Б—Г–і–Є–ї–∞ –≥—Г–Љ–љ–Њ —Г –Њ—В—Ж–∞вА¶ –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —П, –µ—Б–ї–Є –Є –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Њ–≤–µ—В–µ. –Р –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П, –љ–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З–∞—Б—В–Њ. –Я–Њ–Ї–∞ –Ь–∞—А—Г—Б—О –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї, —В–∞ —А–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ –і–≤—Г—Е –і–Њ—З–µ–Ї –Є —Б—Л–љ–∞вА¶–Я–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і–µ—В–Є –Є —Г –Ю–ї—М–≥–ЄвА¶ –Ч–і–µ—Б—М —В–∞–Ї–∞—П –Ї–∞—В–∞–≤–∞—Б–Є—П, –±—А–∞—В–Ї–∞ —И–Љ–µ–ї—М, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—МвА¶ –Т–∞—Б—М–Ї—Г –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –љ–∞ –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Г —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О, –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Љ—Г–ґ–∞вА¶ –£—З–Є—В–µ–ї—П –ґ–µ: –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є вАУ –Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–ЄвА¶ –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—Л–љ —И–Ї–Њ–ї—Г –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї, –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤, –Є –µ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —В–Њ –Ї–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М: –Њ–љ –ґ–µ, –Т–∞—Б—М–Ї–∞, –љ–∞ –Љ–Њ–µ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В—Б—ПвА¶ –±–µ–Ј –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—ОвА¶ –Х–Љ—Г –љ–µ—В —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–ЄвА¶ –Э–µ—Б–Љ—Л—И–ї–µ–љ—Л—И, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, —З—В–Њ —Б –љ–µ–≥–Њ –≤–Ј—П—В—М-—В–Њ... –Ш –Ї–Њ –Љ–љ–µ, –Ј–љ–∞—З–Є—В: –љ–∞–њ–Є—И–Є, –Р–љ—В–Њ–љ, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤. –Ґ–∞–Ї –і–ї—П –Т–∞—Б—М–Ї–Є –ї—Г—З—И–µ –±—Г–і–µ—В вАУ —В—Л –ґ–µ —Б–Є–і–µ–ївА¶ –Э—Г, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–і–Є –Т–∞—Б—М–Ї–Є. –°–і–∞–ї—Б—П, —Е–Њ—В—М —Б–њ–µ—А–≤–∞ –Є —В–Њ–њ—Л—А–Є–ї—Б—П: –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ!.. –Р ¬†–Т–∞—Б—М–Ї–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ —З–Є—В–∞—О—В, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї—П—О—В, —В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –∞ —П-—В–Њ –Ј–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї–∞—П –Њ–љ–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—ПвА¶ –Ш —Е–Њ—В—М –њ–ї–∞—З—М –Љ–љ–µ, –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–∞–ґ—ГвА¶ –Ь–Њ–≥–ї–∞ –± –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞—И–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П, –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ—Л –Љ—Л, –∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –і—А—Г–≥–∞—П, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –Т–∞—Б—М–Ї–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –љ–∞—И–µ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, —В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—В–Њ, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–љ—П—В—М: —В–∞–Љ –ґ–µ, –≤ –У—Г—В–µ, —В–∞–Ї–Є—Е –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –љ–µ—В—Г –±—Г–і—В–Њ? –Ю—В–Ї—Г–і–∞ —В–∞–Љ –≤–Ј—П–ї—Б—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М?.. –Ю—В –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ —В–∞–Љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П?.. –Т –Ї–∞–њ—Г—Б—В–µ, —З—В–Њ –ї—М, –љ–∞—И–ї–Є?.. –Ш–ї–Є, –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –∞–Є—Б—В —В–Њ—В –њ—А–Є–љ–µ—Б?..
–Ю—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П —П. –Ш–Ј–≤–Є–љ–Є, —И–Љ–µ–ї—М. –Ю –і–µ—В—П—Е. –ѓ –љ–∞—З–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є –Ю–ї—М–≥–∞. –Я–Њ –љ–Є–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ–∞ –Љ–µ–љ—П –њ–µ—А–µ–њ–ї—О–љ—Г–ї–∞, —Е–Њ—В—М —П –Є –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–Ј –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П, –∞ –≤—Б–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –і–≤–Њ–є–љ—О –і–∞–ї–∞. –Э—Г –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М –С–Њ–≥—Г!..
–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞, —И–Љ–µ–ї—М, –Ї–∞–Ї —В—Л –њ–Њ–љ—П–ї –Є –Ј–љ–∞–µ—И—М, —П –љ–µ –љ–∞–ґ–Є–ї. –Ш –Ї–∞–Ї –љ–∞–ґ–Є–≤–µ—И—М, —Б –Ї–љ—Г—В–Њ–Љ —Е–Њ–і–Є–≤—И–Є –Ј–∞ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ—Л–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –ї—О–і—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–∞–і–Њ–Љ? –≠—Е, –і–∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ!..
–Р –Т–∞—Б—М–Ї–∞ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј. –° –ґ–µ–љ–Њ–є, —Б —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є. –Ц–µ–љ–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П ¬†вАУ –Њ—В–Ї—Г–і–∞-—В–Њ —Б –£—А–∞–ї–∞, —З—В–Њ –ї–Є. –®–∞–њ–Ї–∞ —Г –Т–∞—Б—М–Ї–Є –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї —Г –С—А–µ–ґ–љ–µ–≤–∞. –Х—Б–ї–Є –µ—Й–µ –Є –љ–µ –ї—Г—З—И–µ. –Ъ–љ–Є–≥—Г –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї. –Ф–∞–ї –і–µ–љ–µ–≥ –љ–∞ –≤–Є–љ–Њ, —Н—В–Њ —П –њ–Њ–Љ–љ—О —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Є —В–∞–Ї –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г –±–µ–ї–Њ–є –њ—А–Є–≤–µ–Ј. –Ъ –љ–µ–Љ—Г –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –њ—А–∞–≤–і–∞, —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї—Б—П: –љ–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П... –†–∞–Ј —Г –љ–µ–≥–Њ –і–≤–∞ –Њ—В—Ж–∞, —В–Њ —Г–ґ —В–Њ—В –њ—Г—Б—В—М –µ–Ј–і–Є—В, —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є—В. –Я–Њ –Љ–љ–µ —В–∞–Ї. –Р–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ –Т–∞—Б—М–Ї—Г, –≤–Њ, —З—Г—В—М –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–µ–±–µ, —И–Љ–µ–ї—М, —Б –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—А–∞–ї–Є. –Р —Б —З–µ–≥–Њ –ґ –±—Л–ї–Њ –±—А–∞—В—М, —Б —З–µ–≥–Њ, —И–Љ–µ–ї—М, —В—Л –≤–Њ—В —Б–Ї–∞–ґ–Є –Љ–љ–µ? –° —В—А—Г–і–Њ–і–љ–µ–є? –Ю–љ–Є —В–Њ–≥–і–∞, —Г—З–Є—В–µ–ї—П, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –ґ–Є–ї–Є. –Э–∞ –Љ–Њ–µ –љ–µ –Ј–∞–Љ–∞—Е–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М. –•–Њ—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ, —В—Л —Б–ї—Л—И—М!.. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В —Г —В–µ–±—П, —И–Љ–µ–ї—М, –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ, –љ–µ –Њ—В–ї–∞–≥–∞—П: –≥–і–µ –Њ–љ–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ, —В–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ? –У–і–µ –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ—А—П—В–∞–љ–Њ, —В–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В–∞–Ї –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П? –Э–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М? –Ь–Њ–ї—З–Є—И—М, —П–Ј—Л–Ї –њ—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–ї, –і–∞-–і–∞!..
–ѓ –ґ–µ, —И–Љ–µ–ї—М, –ґ–Є–ї –Є –≤–µ—А–Є–ї: –Ј–∞–≤—В—А–∞ –Ј–∞–ґ–Є–≤—Г –ї—Г—З—И–µ, –≤–Њ—В —Г–≤–Є–і–Є—В–µ!.. –Э–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–Њ ¬†–Ј–∞–≤—В—А–∞, –љ—Г –Є —З—В–Њ —Б —В–Њ–≥–Њ? –Р —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М!.. –°–ї—Л—И—Г, —Г—В–µ—И–∞–µ—И—М: —В–∞–Ї –Т–∞—Б—М–Ї–∞ –ґ–µ —Г —В–µ–±—ПвА¶ –љ–∞ –≤–Є–і—Г –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—ПвА¶ –£—В—О–≥ –≤–Ї–ї—О—З–Є вАУ –Є –µ–≥–Њ —Г–≤–Є–і–Є—И—М –Є —Г—Б–ї—Л—И–Є—И—МвА¶ –≠—В–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—МвА¶ –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–є, —З—В–Њ –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л –љ–µ –њ–ї–∞—В–Є–ї... –Э–Њ –Є —Г –Љ–µ–љ—П –ґ–µ, —З–µ—А—В –њ–Њ–±–µ—А–Є, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л—В—М, –µ—Б–ї–Є –≤–µ—А–Є—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є, —Б–≤–Њ—П, –ї–Є—З–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М!.. –С–Њ–≥–∞—В–∞—П –Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞—П! –Ґ—М—Д—Г-—Г —В—Л!..
–Э–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М.
–•–Њ—В–µ–ї —П —Г–њ—А–µ–Ї–љ—Г—В—М —В–µ–±—П, —И–Љ–µ–ї—М, –Њ—В—З–Є—Е–≤–Њ—Б—В–Є—В—М –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ, –љ–Њ –Є—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–Є—И—М, –і—Г—Е.
–Ш –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—МвА¶
–•–Њ—В—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, –Њ—В—З–µ–≥–Њ –ґ–µ: –±—Л–ї –±—Л —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Љ—П–≥–Ї–Є–є, –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —В—Л –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Љ–Њ–≥, —И–Љ–µ–ї—М... –Ю—И–Є–±–∞—О—Б—М, —Б–Ї–∞–ґ–Є?.. –Р —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М!.. –Ф–∞ –µ—Й–µ –Є —В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї, –љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г—И–Ї—Г. –Я–Њ —А—Г–Ї–µ-—В–Њ –ґ–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ...
.
***
.
–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –Р–љ—В–Њ–љ –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Є–љ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є. –Э–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –ї—О–і–µ–є –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≥—Г—Б—В–Њ, –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —В–Є—Е–Њ, –±–µ–Ј —А–µ—З–µ–є. –Ъ–Њ–µ-–Ї—В–Њ –≤—Б–њ–ї–∞–Ї–љ—Г–ї. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є, –Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П. –Ф–Њ –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–Є. –Ш–Ј –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –і–µ—В–µ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П вАУ –µ–Љ—Г –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є: –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ—В–µ—Ж —В–Њ—В, –Ї—В–Њ –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї –Є –њ–Њ–Є–ї. –Э–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–ї, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –Р–љ—В–Њ–љ.
–Ь–µ–і–∞–ї—М ¬Ђ–Ч–∞ –Њ—В–≤–∞–≥—Г¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Њ–љ —Б –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–і—М...
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М—Й–Є–Ї–Є –≤–Ј—П–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–µ–љ–љ—Г—О –Ї –±–µ—А–µ–Ј–µ –Ї—А—Л—И–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л ¬†–Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –≥—А–Њ–±, –њ–Њ–і–∞–ї–∞, –≤—Б—В—А–µ–њ–µ–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б–Њ—Б–µ–і–Ї–∞ –Я–µ—В—Г—И–Є—Е–∞:
вАУ –Я–Њ–≥–Њ–і–Є—В–µ –ґ–µ! –ѓ –ґ –Ј–∞–±—Л–ї–∞!.. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї–Њ!.. –Ш –Ї–∞–Ї –ґ–µ —П?!..
–Ш –Њ–љ–∞ –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞ –Ї–Њ—Д—В—Л –њ—Г—И–µ—З–Ї—Г, –≤–њ–Њ–њ—Л—Е–∞—Е –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї–∞ –µ–µ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї—Г –Є, —Б—В–Њ—П ¬†—Г –≥—А–Њ–±–∞, –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ —В—А–µ–Љ—П –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є:
вАУ –Я—А–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ—Б–µ–і!.. вАУ –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞ –Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ –±—Л—Б—В—А—Л–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤, —В–Є—Е–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: вАУ –Я—А–Њ—Б–Є–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Љ–Є—А–∞–ї... –Ь–Њ–ґ–µ—В, —Е–Њ—В—М —В–∞–Љ –µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–Ј–µ—В, –Р–љ—В–Њ–љ—Г –Р–≤–≥–µ–Є—З—Г...
.
–†—Н–±–∞
.
–Х–і–≤–∞ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –†—Н–±–∞ –≥–ї—П–љ—Г–ї –љ–∞ –Љ–∞—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–Њ–њ—В–∞–ї–∞—Б—М —Г –њ–µ—З–Є, –Є —Б —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї:
вАУ –Я–Њ—Е–Љ–µ–ї—П–є, –Є–љ–∞—З–µ —Б–Њ–ґ–≥—Г —Е–∞—В—Г!
вАУ –Я–Њ–і–ґ–Є–≥–∞–є, –±—Г–і–µ—И—М –≤ —Б–∞—А–∞—О—И–Ї–µ –ґ–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є –µ—Й—С –Є –µ–≥–Њ –Њ–≥–Њ–љ—М –њ–Њ–Љ–Є–ї—Г–µ—В, вАУ ¬† –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –Љ–∞—В—М, –Ј–∞–і–≤–Є–≥–∞—П —Г—Е–≤–∞—В–Њ–Љ –≤ –њ–µ—З—М —З—Г–≥—Г–љ–Њ–Ї. вАУ –Ь–љ–µ —Г–ґ–µ –Є –ґ–Є—В—М... –Ь–Њ–ґ–µ—В, –Є ¬†–љ–µ –њ–µ—А–µ–ї–µ—В–∞—О. –Я–Њ–і–ґ–Є–≥–∞–є, –њ–Њ–і–ґ–Є–≥–∞–є, —Б—Л–љ–Њ–Ї, —Е–∞—В—Г. –°–њ–Є—З–Ї–Є –і–∞—В—М?
–†—Н–±–∞ —А—Л—З–∞–ї, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л–є –Љ–µ–і–≤–µ–і—М, –њ–Њ–і–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞–ї, –њ–Є–љ–∞—П –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –њ—Г—В–Є, —А–∞—Б—Б—Л–њ–∞–ї –Љ–∞—В—Л, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–µ–Є–≤–∞–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–Ї–Є —Б—Г—Е–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є:
вАУ –Я–Њ—Е–Љ–µ–ї—П–є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї!..
вАУ –Р —Б–Ї–Њ—А–µ–є –±—Л —В—Л —Б–і–Њ—Е, вАУ —В–Є—Е–Њ, –љ–µ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –±—Л —Б—Л–љ, –њ—А–Њ—И–µ–њ—В–∞–ї–∞ —Б—В–∞—А—Г—Е–∞ –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М. вАУ –Я–Њ–њ–ї–∞–Ї–∞–ї–∞ –±—Л —А–∞–Ј, –і–∞ –Є –Ј–∞–±—Л–ї–∞. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є–≤—Г, —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Љ—Г—З–∞—О—Б—М. –≠—В–Њ ¬†–љ–µ–Љ–µ—Ж ¬†–њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—Л–є, –Є—А–Њ–і!.. –≠—В–Њ –Њ–љ, –≥–∞–і –ї—Г–њ–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л–є! –Ы—Г—З—И–µ –±—Л —Г–±–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ!.. –ѓ –±—Л –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є...
–°—В–∞—А—Г—Е–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Б–µ–љ–Є, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М —Б –љ–∞—З–∞—В–Њ–є –±—Г—В—Л–ї–Ї–Њ–є, –љ–∞–ї–Є–≤–∞–ї–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ –≤ –Ї—Г–±–Њ–Ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П –†—Н–±–∞, –љ–µ —В—А–µ–њ–∞–ї –љ–µ—А–≤—Л, –Є –Њ–њ—П—В—М –њ—А—П—В–∞–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ. –†—Н–±–∞ –ґ–µ, –њ—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–≤ –Њ–і–љ–Є–Љ –Љ–∞—Е–Њ–Љ –Ј–µ–ї—М–µ, —В—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П—Б—М –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ. –Ш —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –ї—О–і–µ–є –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–Њ ¬†–љ–µ –±—Л–ї–Њ, –±—А–∞–ї –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А –љ–∞ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ, —Е–Њ—В—М —В–Њ—В –±—Л–ї –µ—Й–µ –Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ ¬†–љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –µ—Б—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ: –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є—Б–µ—Б—В—М, –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М. –Ю–љ –Є —Б–Є–і–µ–ї. –Ш–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї –°—В—С–њ–Ї–∞, –Њ–љ –ґ–Є–≤–µ—В –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞, –Њ–Ї–љ–∞ –≤ –Њ–Ї–љ–∞, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —Б–Є–і–µ–ї–Є –≤–і–≤–Њ–µ–Љ, –Ї—Г—А–Є–ї–Є –Є –њ–Њ–і–ґ–Є–і–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—А–≤–∞—В—М –љ–∞ –≤—Л–њ–Є–≤–Ї—Г. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В—Б—П –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ, —В–∞–Ї –µ—Б—В—М –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ —В–Њ—З–Ї–Є, –≥–і–µ –њ—А–Њ–і–∞—О—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ, –љ–Њ –Є –≤–Њ–і–Ї—Г. –Ф–µ–љ—М–≥–Є, –і–µ–љ—М–≥–Є –љ—Г–ґ–љ—Л!..
–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –†—Н–±–∞ —Б–Є–і–Є—В –Њ–і–Є–љ, –°—В—С–њ–Ї–Є —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–∞—В—М. –•–Њ—В—М –Ї—А–Є–Ї–љ–Є вАУ –≤–Њ–љ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –†—Н–±–∞ –љ–µ —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П, –±–Њ–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –≤—Л—Б—Г–љ–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –°—В—С–њ–Ї–Є–љ–∞ –ґ–µ–љ–∞, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є—Й–Є –і–Њ–±—А–∞: —И—Г–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –≤—Б—О –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М. ¬Ђ–°–њ–Є—В, –≥–∞–і!¬ї вАУ –і—Г–Љ–∞–µ—В –†—Н–±–∞ –Є –ґ–∞–ї–µ–µ—В, —З—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –°—В—С–њ–Ї–∞, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ—Б—Б–Њ—А–Є–ї—Б—П —Б –ґ–µ–љ–Њ–є, –∞ —В–Њ –±—Л–ї –±—Л —В—Г—В –Ї–∞–Ї —В—Г—В.
–†—Н–±–∞ –њ—А–Є—Б–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П —Б–њ–Є–љ–Њ–є –Ї –і–≤–µ—А—П–Љ –Є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –≤ —Б–Њ–љ. –Х–Љ—Г –њ—А–Є—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –±—Г–і—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –≥—А–Є–±—Л, –Є –±—Л–ї–Њ –Є—Е —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–∞—А—В–Њ—И–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ—В—А—Г—Б–Є–ї–Ї–Є¬ї –љ–∞ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ. –Ф–Њ–ї–≥–Њ –Њ–љ –і—А–µ–Љ–∞–ї –Є–ї–Є –љ–µ—В вАУ ¬†—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–Њ —Б–Њ–љ –њ—А–Њ –≥—А–Є–±—Л –µ–Љ—Г –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П, –Є –Њ–љ –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —А–∞—Б—В–Њ–ї–Ї–∞–ї ¬†–°—В—С–њ–Ї–∞.
вАУ –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В? вАУ –≤–Є—Б–µ–ї–∞ –µ–≥–Њ –ї–Њ—Е–Љ–∞—В–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞–і –ї—Л—Б–Њ–є –†—Н–±–Њ–≤–Њ–є.
вАУ –Э–µ—В—Г, вАУ –Њ–±—А–µ—З—С–љ–љ–Њ ¬†–Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –†—Н–±–∞.
вАУ –Ш —Г –Љ–µ–љ—П,вАУ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї ¬†–°—В—С–њ–Ї–∞ –Є —Б–µ–ї —А—П–і–Њ–Љ. вАУ –Р –њ–µ–љ—Б–Є—О —В–≤–Њ—О –Љ–∞—В—М —З—В–Њ, –≤—Б—О –Њ—В–±–Є—А–∞–µ—В?
вАУ –Я—Г—Б—В—М –±–µ—А–µ—В, вАУ —В—А–µ–Ј–≤–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–ї –†—Н–±–∞. вАУ –ѓ –ґ–µ –њ—А–Њ–њ—М—О —Б —В–Њ–±–Њ–є, –∞ –ґ—А–∞—В—М —В–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ? –Э–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Њ–њ–Њ—Е–Љ–µ–ї—П–µ—В. –Я—А–Є–њ—Г–≥–љ—Г, —З—В–Њ —Е–∞—В—Г –њ–Њ–і–Њ–ґ–≥—Г, —В–∞–Ї –Є –љ–∞–ї—М–µ—В.
–°—В—С–њ–Ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –і–µ–ї–Њ–Љ:
вАУ –Я–µ—А–µ–і —В–Њ–±–Њ–є, –†—Н–±–∞, –љ–µ–Љ—Ж—Л –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥—Г. –Т –љ–µ–Њ–њ–ї–∞—В–љ–Њ–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В—Л –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–∞—Г—З–Є—В—М—Б—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ—А—Л–±–∞¬ї. –Ю–љ –ґ–µ —В–µ–±—П, –љ–µ–Љ–µ—Ж, –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–љ—Г–ї –њ–Њ –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–µ –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ.
вАУ –°–і–Њ—Е —В–Њ—В –љ–µ–Љ–µ—Ж –і–∞–≤–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –љ–µ —Г–±–Є–ї–Є –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –љ–∞—И–Є...
вАУ –Р –Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Љ—Ж–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М —В–Њ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–Є–≤–µ—В. –ѓ –љ–µ –њ—А–∞–≤, —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М. ¬†–Х–≥–Њ —Б—Л–љ, –±—А–∞—В, –∞?
вАУ –Ь–Њ–ґ–µ—В, вАУ –†—Н–±–∞ –Ј–µ–≤–љ—Г–ї. вАУ ¬†–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–є... —Н—В–Њ... –≤–Њ–є–љ—Г. –Э–µ –љ–∞–і–Њ.
вАУ –ѓ –±—Л, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –љ–Њ –Њ–љ–Є –ґ–µ, –љ–µ–Љ—Ж—Л, —Б–∞–Љ–Є –њ—А–Њ —Б–µ–±—П –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –љ–∞—И—Г –і–µ—А–µ–≤–љ—О –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О—В –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж—Л.
вАУ –Ґ–∞–Ї —В–µ –ґ –±–µ–Ј –Њ—А—Г–ґ–Є—П... вАУ –≤—В—П–љ—Г–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ –њ–ї–µ—З–Є –†—Н–±–∞. вАУ –Ґ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –љ–µ–Љ—Ж—Л. –Ш—Е –ї—О–±–Є—В—М –љ–∞–і–Њ.
вАУ –Ы—О–±–Є. –Ґ–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Э–Њ –Њ–љ–Є –ґ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б–Ї–Њ—И–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Е–Њ—В—М —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ–і —В–Њ–±–Њ–є. –Э–∞ –Љ–∞—А–Ї–Є. –•–Њ—В—П –Ј–∞—З–µ–Љ –љ–∞–Љ –Љ–∞—А–Ї–Є. –Ч–∞ –љ–Є—Е —Г –љ–∞—Б –љ–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—И—М... –Я—Г—Б–Ї–∞–є —Е–Њ—В—М –њ–∞—А—Г –±—Г—В—Л–ї–Њ–Ї —И–љ–∞–њ—Б—Г –і–∞–і—Г—В вАУ ¬†–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Д–Њ–Ї—Г—Б–Њ–≤. –Т–Њ–љ, –≤–Њ–љ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б... –Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤—Л–µ. –Х–і—Г—В, –µ–і—Г—В –љ–µ–Љ—Ж—Л. –Ы–µ–≥–Ї–Є –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–µ. вАУ –°—В—С–њ–Ї–∞ –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–і—В—П–љ—Г–ї—Б—П –∞–ґ –љ–∞ –љ–Њ—Б–Ї–∞—Е —Б–∞–њ–Њ–≥, —З—В–Њ–±—Л –≤–Є–і–µ—В—М, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–і–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—П. вАУ –Т –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Г. –Э–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ! –Э–∞–є–і–µ–Љ –Є —В–∞–Љ! –Э–∞–є–і–µ–Љ! –Я–Њ—И–ї–Є, –њ–Њ—И–ї–Є, –†—Н–±–∞, –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–µ–є!
–†—Н–±–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –°—В—С–њ–Ї—Г. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –≤–Њ–є–љ—Г. –Ш–Ј –≤—Б–µ–є —В–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Њ–і–љ–Њ вАУ –Ї–∞–Ї —Г–і–∞—А–Є–ї –µ–≥–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж. –Ф–ї—П –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М —Н—В–Є–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–Љ. –Р —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г, —В–Њ –љ–∞—Г–Ї–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ—И–ї–∞, –Ј–∞—В–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–∞—Е.
вАУ –Ґ–∞–Ї —В—Л –Є–і–µ—И—М –Є–ї–Є –љ–µ—В? вАУ¬ђ –љ–∞–і—Г–ї—Б—П –°—В—С–њ–Ї–∞.
–†—Н–±–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ—А—З–∞–ї —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–≤–љ—П—В–љ–Њ–µ —Б–µ–±–µ –њ–Њ–і –љ–Њ—Б, –љ–Њ –≤—Б—С –ґ–µ –≤—Б—В–∞–ї, —Б—В—А—П—Е–љ—Г–ї –њ—Л–ї—М —Б–Њ —И—В–∞–љ–Њ–≤, –Є —З–∞—Б—В–Њ –Ј–∞—В—А—П—Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є:
вАУ –Э–µ—В, –љ–µ—В, –љ–µ—В! –ѓ –±–Њ—О—Б—М –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤... –Э—Г –Є—Е!
вАУ –Ґ–∞–Ї —Н—В–Њ –ґ–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ, —Б–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –љ–µ–Љ—Ж—Л.
вАУ –Т—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –±–Њ—О—Б—М.
вАУ –≠—Е, —В—Л, —А–∞–Ј–Љ–∞–Ј–љ—П! вАУ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї –°—В—С–њ–Ї–∞, –Љ–∞—Е–љ—Г–ї —А—Г–Ї–Њ–є –Є —Б–µ–ї –љ–∞ —В–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї –†—Н–±–∞. вАУ –Р —П –і—Г–Љ–∞–ї, —В—Л —Б–Љ–µ–ї—Л–є... –Ф—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Г –љ–µ–≥–Њ, —Д—А–Є—Ж–∞, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—О –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М. –Р —В—Л!.. –Ф—Г–Љ–∞–є —В–Њ–≥–і–∞, –≥–і–µ —А–∞–Ј–±–Њ–≥–∞—В–µ—В—М –љ–∞ –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г.
вАУ –Ь–љ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –і–∞—Б—В,вАУ —Б–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П –†—Н–±–∞. вАУ –Ь–∞—В–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї–∞ –ї—О–і–µ–є, —З—В–Њ–± –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є. –Ч–ї–Њ–є —П, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–њ—М—О—Б—М. –Т—А–µ–і–љ—Л–є. –Р —А–∞–Ј–≤–µ –ґ –Ј–ї–Њ–є —П, –°—В—С–њ–Ї–∞
вАУ –Ч–ї–Њ–є –љ–µ –Ј–ї–Њ–є, –∞ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–Њ—Е–Њ–≥–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М –Є –њ–Њ–Љ–љ—О, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї, вАУ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°—В—С–њ–Ї–∞ –Є –Є–Ї–љ—Г–ї. вАУ –Т–Њ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В. –Ч–Є–љ–Ї–∞, –Ї—В–Њ –ґ –µ—Й–µ. –°–µ–є—З–∞—Б –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є—В –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є–Ј –Њ–Ї–љ–∞ –і–∞ –≥–∞—А–Ї–љ–µ—В, —З—В–Њ...
–°—В—С–њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї вАУ –Є–Ј-–Ј–∞ —Г–≥–ї–∞ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Я–∞—Е–Њ–Љ—З–Є–Ї, —Б—В–∞—А—Л–є —Е–Њ–ї–Њ—Б—В—П–Ї, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Ю–љ —А–∞–Ј–Є–љ—Г–ї —А–Њ—В, –±—Г–і—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ –†—Н–±—Г –Є –°—В—С–њ–Ї—Г.
вАУ –Р –Ј–∞–≥—А—Л–Ј—В—М –µ—Б—В—М —З–µ–Љ? вАУ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞—И–µ–ї—Б—П –Я–∞—Е–Њ–Љ—З–Є–Ї –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г. вАУ –Ъ–∞–Ї –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Л —В—Г—В. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —П –≤–∞—Б —Г–≥–Њ—Й–∞—О, –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤—Л –Љ–µ–љ—П.
вАУ –Ю —З–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–µ—З—М! вАУ –Ј–∞—Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ—Б—М –ї–Є—Ж–Њ —Г –°—В—С–њ–Ї–Є.
–†—Н–±–∞ –ґ–µ —Б—В–Њ—П–ї –≤—Б–µ –µ—Й–µ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Е–Љ—Г—А—Л–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–µ–љ—М –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ–Є.
вАУ –Р–є–і–∞ –Ј–∞ —Г–≥–Њ–ї! вАУ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Я–∞—Е–Њ–Љ—З–Є–Ї.
–Ч–∞ –љ–Є–Љ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–њ–∞–ї–Є. –Ґ–∞–Љ, –Љ–µ–ґ –Ї–Є—А–њ–Є—З–µ–є, –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–њ—А—П—В–∞–љ–∞ —Б—В–Њ–њ–Ї–∞, –≤ –њ–Њ–ї–Є—Н—В–Є–ї–µ–љ–Њ–≤–Њ–Љ –њ–∞–Ї–µ—В–Є–Ї–µ –ї–µ–ґ–∞–ї ¬†–Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї ¬†—Е–ї–µ–±–∞. –Т—Л–њ–Є–ї–Є. –•–ї–µ–± –≤—Л—Б–Њ—Е, –љ–µ –ї–Њ–Љ–∞–ї—Б—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –°—В—С–њ–Ї–∞ –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї –Ї –і–Є–Ї–Њ–є —П–±–ї–Њ–љ–µ, —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞–і–∞–љ—Ж–µ–≤. –Ю–љ–Є –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ—В —З–µ—А—Б—В–≤—Л–є —Е–ї–µ–±. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ –Ј–∞–ґ–µ–≥ –≤–љ—Г—В—А–Є –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї–Є, –°—В—С–њ–Ї–∞ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Я–∞—Е–Њ–Љ—З–Є–Ї—Г –љ–∞ –†—Н–±—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В —Б–Њ—А–≤–∞—В—М —Б –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, ¬†–њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–Є—Е –Ї –љ–Є–Љ –≤ —Б–µ–ї–Њ, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—О –Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ —Д—А–Є—Ж–∞, —З—В–Њ –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –≤—Л–±–Є–ї –Є–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Г –†—Н–±—Л —З–∞—Б—В—М —Г–Љ–∞.
вАУ –Ш –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В, вАУ –љ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї –°—В—С–њ–Ї—Г –Я–∞—Е–Њ–Љ—З–Є–Ї. вАУ –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ ¬†–њ–Њ–є—В–Є –Ї —З—Г–ґ–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ –Є —Б—В–Њ—П—В—М —Б –њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є? –≠—В–Њ —Г —Б–Њ—Б–µ–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В—М. –Я—Г—Б—В—М –Є —Д–Є–≥—Г –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–Ј –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В. –Ґ–∞–Ї —В–Њ –љ–∞—И–∞ —Д–Є–≥–∞, –Љ–µ—Б—В–љ–∞—П. –Р –µ—Б–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж —В–Ї–љ—С—В, —В–Њ –Њ–љ–∞, —В–∞ –Є–Љ–њ–Њ—А—В–љ–∞—П —Д–Є–≥–∞, –±—Г–і–µ—В —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ –≤–Њ–љ—П—В—М. –Э–µ –Є–і–Є, –†—Н–±–∞. –Э–µ —Б–ї—Г—И–∞–є.
вАУ –Э–µ –њ–Њ–є–і—Г,¬ђ вАУ –њ–Њ–≤–µ—Б–µ–ї–µ–ї –†—Н–±–∞. вАУ –Э–µ –њ–Њ–є–і—Г. –Ь–∞—В–Ї–∞ —А—Г–≥–∞—В—М—Б—П –±—Г–і–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—Б–ї—Л—И–Є—В... –Э—Г –µ–≥–Њ, –љ–µ–Љ—Ж–∞!..
–°—В—С–њ–Ї–∞ –љ–µ—А–≤–љ–Њ –њ–ї—О–љ—Г–ї, –∞ –Я–∞—Е–Њ–Љ—З–Є–Ї –Њ—В–Њ—И–µ–ї —З—Г—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Ї—Г, –Ј–∞—Б—Г–љ—Г–ї —А—Г–Ї—Г –≤ –±—Г—А—М—П–љ –Є –≤—Л—В–∞—Й–Є–ї –≤—В–Њ—А—Г—О –±—Г—В—Л–ї–Ї—Г.
...–†—Н–±–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –Њ–±–Њ—З–Є–љ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–Є–≤ –ї–∞–і–Њ–љ—М –њ–Њ–і –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ц–∞—А–Є–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Ъ–µ–њ–Ї–∞ –≤–∞–ї—П–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–µ—В—А–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ. –І—В–Њ-—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–∞—В—М –†—Н–±–Њ–≤–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є: –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—В–∞—А—Г—Е–µ —Б–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–∞, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–≤–Њ–ї–Њ–Ї–ї–∞ –њ—М—П–љ–Є—Ж—Г –і–Њ–Љ–Њ–є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–Ј–Њ—А–Є–ї –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј –Є —Б–µ–ї—М—З–∞–љ –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—В—П–Љ–Є. –Р –Њ–љ–Є, –љ–µ–Љ—Ж—Л, —Е–Њ–і—П—В –њ–Њ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—П—В—Б—П —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О –ї—О–і–µ–є. –Т–µ—Б–µ–ї–Њ –Є–Љ, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Э–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Є –љ–∞ –†—Н–±—Г –љ–∞–њ–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –≥–Њ—Б—В–µ–є –Ј–∞—Б–Љ–µ—П–ї—Б—П, —В–Ї–љ—Г–ї –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ:
вАУ –Я—М—П–љ, –і–∞...
–Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М —А–∞—Б—В–µ—А—П–ї—Б—П, –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї. –Т—Л—А—Г—З–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –°–µ–Љ—С–љ–Є—Е–∞, –љ–µ –њ–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ —А–µ–Ј–≤–∞—П –Є –љ–∞—Е–Њ–і—З–Є–≤–∞—П —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞, –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ї –≥–Њ—Б—В—П–Љ –Є —Е–Њ–і–Є–ї–∞ —Б –љ–Є–Љ–Є –њ–Њ –Ј–∞–∞—Б—Д–∞–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ, –≥–і–µ –µ–є –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ –і–Њ –Љ–µ–ї–Њ—З–µ–є, –љ–Њ –њ–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г –љ–µ—З–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є —И–∞—В–∞–ї–∞—Б—М. –Ю–љ–∞, —Б–Љ–µ–ї–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–≤ –љ–∞ –љ–µ–Љ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–Ї–љ—Г–ї –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –љ–∞ –†—Н–±—Г, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Є —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –љ–µ—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ —Г–њ—А–µ–Ї–Њ–Љ –≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ:
вАУ –Ю–љ –ґ–µ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–Ї–µ –ї–µ–ґ–Є—В, –њ–∞–љ–Њ–Ї!..
.
–°–≤–Њ–є
.
–Э–Њ—З—М—О –њ—А–Њ—И–µ–ї –і–Њ–ґ–і—М. –•–Њ—В—М –Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ –Њ–љ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–Є–ї-—Б—В—Г—З–∞–ї –њ–Њ –ґ–µ—Б—В—П–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї—Г –Њ–Ї–љ–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –Ш–≤–∞–љ—Г –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З—Г, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ. –Ь–Њ–ґ–µ—В, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є –љ–µ –і–Њ–ґ–і—М –њ–Њ–≤–Є–љ–µ–љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ —Б–њ–∞–ї–Њ—Б—М. –С—Л–ї–Њ, –Є –љ–µ —А–∞–Ј, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞–ї—Б—П —Б—В–∞—А–Є–Ї —Б—А–µ–і—М –љ–Њ—З–Є –Є –љ–µ –њ–Њ–і –µ–≥–Њ, –і–Њ–ґ–і—П, –і—А–Њ–±—М: —Б—В–∞—А–Њ—Б—В—М, —В—Г—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–µ–ї–∞–µ—И—М. –Т—Л—Б–њ–∞–ї—Б—П, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –і–Њ–ї–≥—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –Є –њ—А–Є—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї —З—Г—В–Ї–Њ–є —В–Є—И–Є–љ–µ –Є, –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–є —И–Њ—А–Њ—Е-–≥—А–Њ—Е–Њ—В –љ–∞ –і–≤–Њ—А–Є–Ї–µ. –°–њ–µ—А–≤–∞ –і—Г–Љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≤–Њ—В –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї, –і–∞ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –і–≤–µ—А—М –љ–µ –љ–∞–є–і–µ—В, —Й–µ–Ї–Њ–ї–і—Г –љ–µ –љ–∞—Й—Г–њ–∞–µ—В. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –µ–Љ—Г –і–µ–ї–∞—В—М —В—Г—В —Б—А–µ–і—М –љ–Њ—З–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г —В–Њ–Љ—Г? –Ф–∞ –Є –Ї—В–Њ —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –µ—Б–ї–Є –≤ –Ъ–∞–љ–∞–≤–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–љ –Њ–і–Є–љ? –Ш–Ј —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞: –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є. –Ґ—Г–і–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М. –Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –Ї–Њ—В–∞, –љ–Њ —В–Њ—В –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ –Є –±—Л–ї ¬†—Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–µ–љ —Б—В–∞—А–Є–Ї—Г вАУ –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ —Б–≤–µ—В–∞—В—М, –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–≤–µ—В–ї–µ–ї–Њ, –Є –Ї–Њ—В –ї–µ–ґ–∞–ї —В–Є—Е–Є–Љ —Б–µ—А–µ–љ—М–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–Њ—З–Ї–Њ–Љ, –ї–Є—И—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –ї–µ–љ–Є–≤–Њ –њ–Њ–Љ–∞—Е–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—Г—И–Є—Б—В—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ–Љ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є—А–∞–ї –Њ–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ —Б—В–µ–Ї–ї–Њ.
–Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї—Б—П, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј —Б–ї—Л—И–∞—В—Б—П –µ–Љ—Г –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ—А—М–µ –Є —И–Њ—А–Њ—Е, –Є —И–∞–≥–Є, –Є –≥—А–Њ—Е–Њ—В: —Н—В–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В —Б –љ–Є–Љ –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А–Њ–µ, —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Б—В–∞–≤—И–µ–µ, –њ—А–Є—В–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, –ґ–Є–ї—М–µ. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –≤–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –£—Б—В–∞–ї–Њ –і—Л—И–∞—В, —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В —Б—В–∞—А–Є–Ї, –Є —Б–∞—А–∞—О—И–Ї–Њ, –Є —В–Њ—А—Д—П–љ–Ї–∞, –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –і–Њ–Љ. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ: –±—А–µ–≤–љ–∞ —В—А—Г—Е–ї–µ—О—В, –љ–∞ –љ–Є—Е –і–∞–≤–Є—В –Ї—А—Л—И–∞, –∞ —В–µ –љ–µ —Б–і–∞—О—В—Б—П, —Б–Ї—А–Є–њ—П—В-—Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П—О—В—Б—П. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Њ–љ–Є, –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –Є –Њ—Е–∞—О—В –Є –∞—Е–∞—О—В вАУ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ –±–Њ–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ. ¬Ђ–Ф–µ—А–µ–≤–Њ, —Е–Њ—В—П –Њ–љ–Њ –Є –љ–µ–ґ–Є–≤–Њ–µ, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —Е–Њ—З–µ—В –ґ–Є—В—М¬ї, вАУ ¬†–≤—Б–ї—Г—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–∞–Љ —Б–µ–±–µ –Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Є, —Б–њ—Г—Б—В–Є–≤ –љ–Њ–≥–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї, –≤—Л–њ–Њ–ї–Ј –Є–Ј-–њ–Њ–і –Њ–і–µ—П–ї–∞. вАУ –Р —В–Њ—В –ґ–µ –і–Њ–Љ? –Р —Б–∞—А–∞–є? –Ю–љ–Є —А–∞–Ј–≤–µ –њ–Њ–і–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –љ–µ —Б—В–∞—А–∞—О—В—Б—П? –°–Ї–∞–ґ–Є –Ї–Њ–Љ—Г! –Т—Б–µ –ґ–Є—В—М —Е–Њ—В—П—ВвА¶ –і–∞–ґ–µ, –≤–Є–і–∞—В—М, –Є —Б–Њ–ї–Њ–Љ–Є–љ–Ї–∞ —В–∞вА¶ –Ґ–∞–Ї–∞—П –Њ–Ї–∞–Ј–Є—ПвА¶ –Я–Њ—А–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤—Б—В–∞–≤–∞—В—М.
–Ю–љ –Њ–і–µ–ї—Б—П, –њ–Њ–≥–ї–∞–і–Є–ї –Ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–ґ–µ —В–µ—А—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –љ–Њ–≥ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ –Є —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ —В–Њ—В –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П.
вАУ –Т–Њ –і–≤–Њ—А –њ—А–Њ—Б–Є—И—М—Б—П? –°–µ–є—З–∞—Б, —Б–µ–є—З–∞—Б —П —В–µ–±–µ –Њ—В–Ї—А–Њ—О.
–Т—Л–њ—Г—Б—В–Є–≤ –Ї–Њ—В–∞, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ –њ–ї–Є—В—Г —З–∞–є–љ–Є–Ї, –љ–∞–±—А–∞–ї –≤ –Љ–Є—Б–Ї—Г –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Л вАУ –Ї—Г—А–∞–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е —В–µ–њ–µ—А—М –Є –і–µ—А–ґ–Є—В вАУ –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О –ґ–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —Г–ґ–µ —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –ґ–Є–≤–∞ –ґ—С–љ—Г—И–Ї–∞, –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ вАУ –Є –Ї–Њ—А–Њ–≤–Ї–∞, –Є –Ї–∞–±–∞–љ—З–Є–Ї. –Р –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–љ–∞ –Ј–∞–љ–µ–Љ–Њ–≥–ї–∞, –Є–Ј–≤–µ–ї–Є –≤—Б—О –ґ–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М –С–Њ–≥–∞ –љ–∞–і–Њ вАУ –њ–µ–љ—Б–Є–Є —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –љ–∞ –µ–і—Г, –∞ –Њ–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П –µ—Б—В—М –≤–Њ —З—В–Њ, —И–Ї–∞—Д —А–∞–Ј–ї–∞–Љ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П: –і–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—М –±—Л.
–°—В–∞—А–Є–Ї —Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–Њ –Є –љ–µ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ –Ї—Г—А—Л —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –≤—Л–њ–Њ—А—Е–љ—Г–ї–Є –Є–Ј —Б–∞—А–∞—О—И–Ї–Є, –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–ї–Њ–Љ—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Т—З–µ—А–∞ –Њ–љ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О, –љ–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї, –∞ –≥–Њ–ї–Њ–і, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –љ–µ —В–µ—В–Ї–∞: —Е–Њ—В—М –і–ї—П –ї—О–і–µ–є, —Е–Њ—В—М –і–ї—П –Ї—Г—А. –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ? –Э–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Г—Б–∞–і—М–±–µ –≤ –Ф–Њ–Љ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В, –Є –Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —В–∞–Љ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, ¬†–і–≤–µ –њ–µ—Б–љ–Є.
вАУ –Э—Г, –љ—Г, –љ–µ —Б–±–µ–є—В–µ —Б –љ–Њ–≥! –Т–Є—И—М —В—Л вАУ –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ–і–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї!..
–Я–Њ–Ї–∞ –Ї—Г—А—Л –Ї–ї–µ–≤–∞–ї–Є –Ј–µ—А–љ–Њ, –Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –≤–Ј—П–ї –Ї–Њ—Б—Г, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–µ –љ–∞ ¬Ђ–±–∞–±–Ї—Г¬ї –Є –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ, –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –≤—Л—Б—В—Г–Ї–Є–≤–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ—З–Ї–Њ–Љ. –Э–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—П—Б—М –≤—З–µ—А–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В, –Њ–љ –Ј–∞—И–µ–ї –Ї –†–∞—И–Є–і—Г, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞–і –±—Г–≥–Њ—А–Ї–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є, –њ–Њ—В—А–Њ–≥–∞–ї –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї—Г. ¬Ђ–Э–∞–і–Њ –Ј–∞–≤—В—А–∞ –Њ–±–Ї–Њ—Б–Є—В—М –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї—Г. –С—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞—А–∞—Б—В–∞–µ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г: –і–Њ–ґ–і–Є –Ј–∞—З–∞—Б—В–Є–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґвА¶¬ї
–Ґ—О–Ї–∞–µ—В –Є —В—О–Ї–∞–µ—В –Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ—З–Ї–Њ–Љ, –∞ —Б–∞–Љ –≤–Є–і–Є—В —В–Њ—В –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ, –Љ–∞–ї—М—З—Г–≥–∞–љ, —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і –≤—Л—А—Л—В–Њ–є —П–Љ–Њ–є. –Ґ–∞ –Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г —В–Њ–≥–і–∞ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є, –Є –Њ–љ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ—П–ї—Б—П –≤–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–µ–µ, –Є –Љ–Њ–ї—З–Ї–Њ–Љ, —И–Љ—Л–≥–∞—П –љ–Њ—Б–Њ–Љ, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї, –Ї–∞–Ї —Б–µ–ї—М—З–∞–љ–µ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –≤–Ј—П–ї –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–µ –µ–≥–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–µ—А–Ї–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П. –Э–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ш–≤–∞–љ—Г –°–µ—А–≥–µ–≤–Є—З—Г –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Љ—П вАУ –†–∞—И–Є–і. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Љ–∞–ї—М—З—Г–≥–∞–љ –љ–∞—И–µ–ї –≥–ї–Њ–±—Г—Б, –∞ –љ–∞ –љ–µ–Љ –£–Ј–±–µ–Ї–Є—Б—В–∞–љ, —В–∞–Ї–Њ–є –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –Є –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ—Л–є. –Т–Њ—В, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –≥–і–µ –Њ–љ–∞, —А–Њ–і–Є–љ–∞ –†–∞—И–Є–і–∞. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Ю—З–µ–љ—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ.
–°—В–∞—А–Є–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –љ–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –і–∞–≤–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–µ—В –і–µ—Б—П—В—М –љ–∞–Ј–∞–і —Б–ї–µ–і–Њ–њ—Л—В—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г –†–∞—И–Є–і–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В: —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ, –і—А—Г–Ј—М—П, –Ј–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –њ—А–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞, –љ–Њ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–ЉвА¶ –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, –≥–і–µ –Њ–љ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –Є –≤–µ—А–Є–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї–∞ –±—Г–і–µ—В —Г—Е–Њ–ґ–µ–љ–∞, –њ—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞, –≤–µ–і—М –≤—Л, –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Л, –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Є —З—Г—В–Ї–Є–є –љ–∞—А–Њ–івА¶
–Ю–±–Ї–Њ—Б–Є–ї –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї—Г –Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З —А–∞–љ–Њ, –µ—Й–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–Ї–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М ¬†—П—А–Ї–Њ–є –Ї—А—Г–≥–ї—П—И–Ї–Њ–є –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—А–∞, –њ—А–Є—Б–µ–ї –љ–∞ –ї–∞–≤–Њ—З–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–∞–Љ –Є —Б–Љ–∞—Б—В–µ—А–Є–ї –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –†–∞—И–Є–і—Г:
вАУ –°–≤–Њ–є —В—Л –љ–∞–Љ, –†–∞—И–Є–і. –Я—А–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В, —А–µ–і–Ї–Њ –Ї —В–µ–±–µ –њ—А–Є—Е–Њ–ґ—Г. –Я—А–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є —З—В–Њ –љ–µ —В–∞–Ї. –ѓ –ґ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —В–µ–±—П —Г–±–Є–ї–Є –љ–µ–Љ—Ж—ЛвА¶ –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —Г–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –і–µ—А–µ–≤–љ–Є, –љ–∞—И–Є –ї—О–і–Є —В–µ–±—П —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–ЄвА¶ –У—А–Њ–± —Б–Ї–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—ЛвА¶ –Т—Б–µ —З–Є–љ —З–Є–љ–Њ–ЉвА¶ –•–Њ—В—П –У–Њ–љ—В–∞—А–µ–≤, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Є–ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї, —З—В–Њ —Г–Ј–±–µ–Ї–Њ–≤ –љ–∞–і–Њ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М –љ–µ —В–∞–ЇвА¶ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є—О –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–Љ –≤—А–Њ–і–µвА¶ –•–µ! –Э–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є —В–Њ–≥–і–∞ —А–∞–Ј–і–Њ–±—Г–і—М —В—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є—О, –Љ–∞—В—М –µ–µ! –° –і–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Й–µ –±—Л–ї–ЊвА¶ –°–∞–Љ–Є –љ–∞–њ–Є–ї–Є–ї–ЄвА¶ –Р –µ–µ, –Љ–∞—В–µ—А–Є—О, –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–µ—И—М –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ъ–∞–љ–∞–≤–µвА¶ –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –њ–Њ–љ—П—В—М: –Є —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ –±–Њ–є —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л–ї –≤ –љ–∞—И–µ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, —З—В–Њ —В—Л –Њ–і–Є–љ –Є –њ–Њ–≥–Є–±? –Э–µ –Љ–Њ–≥—Г, –њ—А–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М —П –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—ПвА¶ –Ь–Њ–ґ–µ—В, —П —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Ј–∞–±—Л–ї, –Ј–∞–њ–∞–Љ—П—В–Њ–≤–∞–ї? –Я—А–Њ—Б—В–Є, –±—А–∞—ВвА¶ –Ф–∞–≤–љ–Њ –≤–µ–і—М –±—Л–ї–ЊвА¶ –Ш –µ—Й–µ, –±—А–∞—В–Ї–∞ –†–∞—И–Є–і, –≤–Њ—В —З—В–ЊвА¶ –Ґ—Л, —Н—В–Њ, –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–є—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є... –Т—А–µ–Љ—П —В–∞–Ї–Њ–µвА¶ –†–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–ї–Є —Б—В—А–∞–љ—Г, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —В—Л –≤–Њ–µ–≤–∞–ї, —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ –њ–Њ–љ–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є, –≥—А–∞–љ–Є—Ж –љ–∞–і–µ–ї–∞–ї–ЄвА¶ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є –њ—А–Њ–і–µ—А–Є—Б—М —В–µ–њ–µ—А—М —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Њ —Б–Є—В–Њ!.. –Р —З—В–Њ–±—Л –Ї —В–µ–±–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М вАУ –љ–µ –љ–∞–±–µ—А–µ—И—М—Б—П –і–µ–љ–µ–≥. –Э–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є—Е –Є —Г —В–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –С–Є–ї–µ—В —В–µ–њ–µ—А—М –Ї –љ–∞–Љ вАУ –Њ–≥–Њ, –≤–Є–і–∞—В—М, —Б—В–Њ–Є—В! –Ъ—Г—З—Г –і–µ–љ–µ–≥! –≠—В–Њ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г —Г —В–µ–±—П –Њ–љ –±—Л–ї ¬†–±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Л–є, –±–Є–ї–µ—В-—В–ЊвА¶
–Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї, –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П, –≤—Б–Ї–Є–љ—Г–≤ –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Њ –Ї–Њ—Б—Г, –Є –Љ–Њ–ї—З–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—И–∞—А–Ї–∞–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –і–µ—А–µ–≤–љ–Є. –Я–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–µ–ї, –і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є —В–Њ–Љ –ґ–µ: ¬Ђ–Р –Ї—В–Њ –і–Њ–≥–ї—П–і–Є—В –†–∞—И–Є–і–Њ–≤—Г –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В? –Ъ—В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В –Ї –љ–µ–Љ—Г? –Ъ—В–Њ? –Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤–Њ–љ –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –љ–µ –≤—Б–µ –і–µ—В–Є –і–Њ—А–Њ–≥—Г –Ј–љ–∞—О—ВвА¶¬ї
–Ю–љ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –њ—А–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–∞–≤–љ—Г–Ї–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Є—В–Ї—Г –Є –Ф–Є–Љ–Ї—Г, –Є –ї–Є—Ж–Њ —Г —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞ —А–∞—Б–њ–ї—Л–ї–Њ—Б—М –≤ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є —Г–ї—Л–±–Ї–µ.
¬Ђ–Э–∞–і–Њ –±—Г–і–µ—В –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Є–є—В–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –Ї –†–∞—И–Є–і—Г¬ї, вАУ –Ш–≤–∞–љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –њ–Њ–і–Љ–Є–≥–љ—Г–ї –Ї–Њ—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –і–≤–Њ—А–∞ –Є –±—Л–ї –љ–µ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ —А–∞–і, —З—В–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ –і–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞.
–Я–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є
–Я–Њ–і–≤–µ–і–µ–љ—Л –Є—В–Њ–≥–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ 75-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ
–°–њ–Є—Б–Њ–Ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ 75-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–±–µ–і—Л –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ