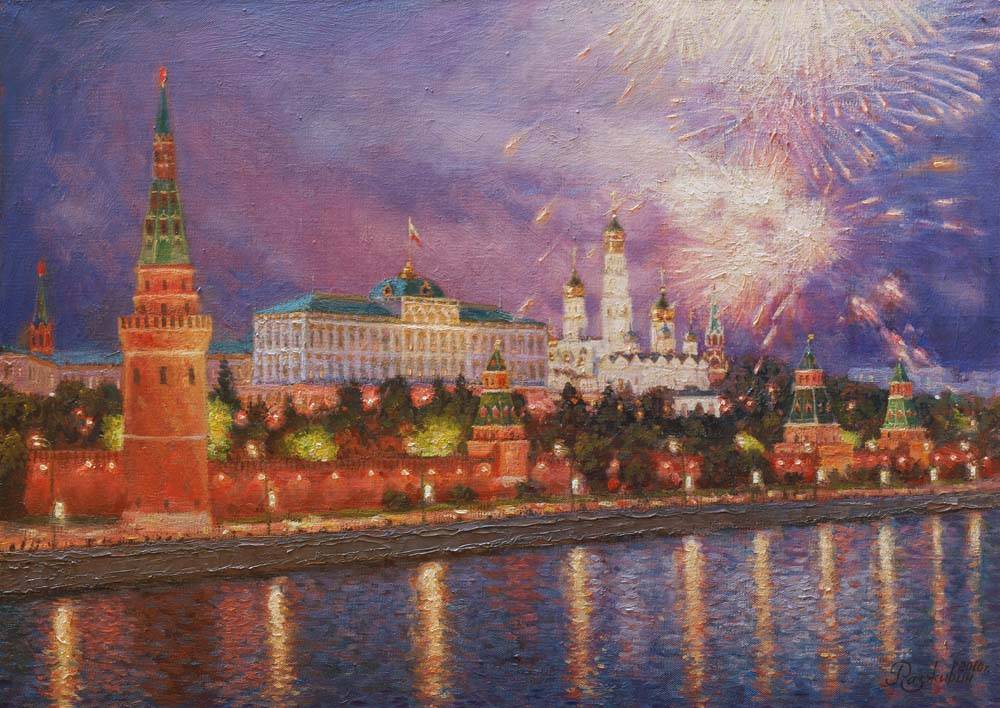Живая память (три рассказа)
Живая память (три рассказа)
Их мало осталось… Тем, кто воевали – уже за восемьдесят, да и кто ребенком войну застал – далеко не молоды.
Был соблазн, после разговоров с ветеранами – литературно обработать материал, рассказ сделать, а то и на повесть развернуться. Но, почему-то подумалось, - сейчас нужно придержать свои авторские амбиции. Поэтому слово «рассказ» в подзаголовке – не обозначение литературного жанра. Это живые, почти без правки записанные рассказы (разве, что крепкие выражении кое-где убрал), документальные свидетельства. Живая память…
Главы из книги жизни
Говорят, что одну книгу может написать любой человек – книгу своей жизни. Михаил Афанасьевич Советов книг о себе не пишет. Но на основе событий, происходивших в его жизни, можно, наверное, написать не одну книгу… А если вспомнить историю семьи – то и еще на несколько томов хватит.
Я очень надеюсь на дальнейшие наши встречи, тогда больше поговорим о родове, о создании первых колхозов и предвоенных годах, о послевоенном времени, а в этот раз только о войне говорили…
Сначала, как это обычно бывает, смотрели фотографии… «Вот это двоюродный брат, в Синявине лежит, этот товарищ погиб тоже, этот раненый вернулся в обе ноги, служил в милиции, потом заражение крови пошло, в Москве сделали операцию, но умер. Из них я остался один. Вот это война – я старший сержант, на офицерской должности. Вот сорок пятый год – старшина, последняя военная фотография…», - говорил, перебирая пожелтевшие фотоснимки Михаил Афанасьевич. Потом уж и подробнее рассказывать стал…
- Жила наша семья в деревне Бачманка Янгосорского сельсовета. Отец уже умер к началу войны, мать – инвалид, старшая сестра Анна – за хозяйку в доме была. А еще я, да младший брат Павел, погибший позже в Калужской области.
Мне было девятнадцать, когда война началась… Нет, девятнадцати не было, – поправил себя Михаил Афанасьевич. - Война началась двадцать второго июня, а у меня день рождения четвертого июля, - и уточнил, - по паспорту. Я оказался "прописным", то есть была утеряна церковная метрическая книга за полугодие двадцать второго года, и возраст мой определяла комиссия в районной больнице… В Янгосори тогда телефона не было, ближайший в Погорелове. Каждую пятидневку ездил туда нарочный, передавал сводку о ходе сельхозработ по телефону в район. В ночь на двадцать второе июня была сильная гроза и провода сгорели, телефонной связи в тот день не было. И мы о начале войны узнали лишь вечером двадцать второго.
Я, помню, пары под озимое пахал. А в соседней деревне Корытово в этот же день было «богомолье», деревенский праздник (в каждой деревне был свой "обещанный" праздник в честь какого-нибудь святого), и мимо шла ватага парней, человек десять, на гулянку… Молодежи-то в то время по деревням было полно, - добавляет рассказчик. – Подходят они ко мне: «Давай распрягай». «Чего?» - спрашиваю. Тихо, шепотом: «Пришел Константин Павлович из города, сказал, что война началась». Константин Павлович Романов был нашим учителем математики и геометрии в Янгосорской школе.
Ну, я лошадку выпряг, отвел на конюшню, переоделся и в Корытово. А там уже гуляют вовсю. И Романов, учитель наш – в дымину пьяный!
Даже сейчас, через много десятилетий видно, как это потрясло в то время молодого парня – пьяный бывший учитель. А учитель прощался со своими учениками, понимал, что многих уже не увидит, так ведь и вышло…
- А уже на следующий день шумит, гудит Янгосорь. – Продолжал рассказ Михаил Афанасьевич. - Сразу десять возрастов взяли. Так вот вся эта лавина, с проводами, через нашу деревню шла. Молодежь с гармошками, пьяные, пляшут. А семейные – жена за руку держит, младший ребенок на руках у отца, остальные за брюки цепляются…
Двадцать четвертого июня из деревень Янгосорского сельсовета было взято сто пятьдесят лошадей с лучшими повозками. Только из нашего колхоза забрали пятнадцать лошадей… Вели их через деревню в полной тишине, потому что лошади шума боятся. А от каждого дома мальчишка к лошади бежит, ломоток хлеба с солью несет.
Незадолго до войны в колхоз военными были переданы лошади. Мою звали Октябрина, рыжая, хорошая… Я на ней до гектара пятнадцати соток выпахивал. Я ее и в армию провожал… Собирали всех лошадей и повозки в Вологде, на лужайке у "винопойки", теперь это "ликерка"(ликероводочный завод). Вся эта площадь была запружена лошадьми с повозками. Как только лошадь выпрягали из повозки, ее забирали военные, заводили по сходням в товарные вагоны. Я Октябрину сам повел, не дал никому. А лошади по сходням не идут, их тащат, бьют. Лошади ржут, люди орут… Я свою завел в вагон, там, помню, стоял майор-интендант. И тут какой-то мужик у меня выхватил уздечку из рук, лошадь заржала, голову кверху подняла. Он – раз ей кулаком, ногой. У меня в глазах потемнело, только хотел ему заехать, меня сзади этот майор-интендант обхватил, развернул, из вагона вывел… Когда лошадей сдали, председатель купил водки, и домой мы ехали пьяные…
А шестого июля и я повестку получил, в два часа ночи. В Вологду приехали уже в десять часов, пока собирались, да тридцать пять километров дорога. У нас тогда своего военкомата в районе не было, в городском собирали… Нас было двенадцать человек. Двоих тогда забрали в армию – на курсы политруков, из них один был учитель начальной школы, второй – заведующий клубом, а остальных до вечера продержали и отправили домой. Оказывается, пришло постановление – тех, кто подлежит призыву в армию, но работает на озимом севе и на уборке урожая, до окончания сева и уборки оставить… Может, это и спасло меня тогда от смерти, - задумчиво говорит М. А. Советов. – Первые-то месяцы войны самые страшные были.
- 21 сентября, наконец, взяли и меня в армию. По комсомольскому набору – добровольцем. Вологда тогда дала пятьсот человек добровольцев (ростом не ниже ста шестидесяти пяти сантиметров, весом не менее семидесяти килограммов – такая норма была), Вологодский район (он тогда был меньше нынешнего) – двести человек.
Первую ночь мы, все двести человек, ночевали в райкоме комсомола (деревянный особняк на улице Герцена). Вернее – должны были ночевать. Нас закрыли на ключ, но мы все, конечно, разбежались. Утром явились, нас выругали и отправили в клуб льнокомбината, а оттуда в деревню Ямино на уборку моркови. Двое суток нас держали в этом клубе – спали на нарах, грязные… Позже узнали, что в тот момент решался вопрос – или отправить нас на краткосрочные курсы десантников-воздушников и бросить под Смоленск, где шли тогда страшные бои, или на север – готовить из нас десантников-лыжников. Москва распорядилась – поскольку у нас нормы ГТО сданы по лыжам (надо было пробежать на лыжах десять километров за час и пять минут, из них два километра в противогазе и выбить норму из малокалиберки), готовить из нас лыжников. И нас направили под Архангельск в запасной лыжный полк – четыре тысячи отборных парней-комсомольцев из северных областей.
Оттуда я и ушел на передовую, в пехоте служил, потом в госпитале два месяца, и снова в пехоту. Потом попал в авиацию: служил сначала в авиаполку, затем в батальоне авиаобслуживания, там был помощником начальника штаба по спецработе – это шифровка, секретная часть. Все Карелия и Заполярье. Победу встретил на Норвежской границе.
- Почему в госпиталь-то попал? – отвечая на мой вопрос, переспросил Михаил Афанасьевич. - Мы ходили во вражеский тыл, при отступлении нас финны загнали в непроходимое болото, ноги опухли так, что ни ложку, ни финку из-за голенища не достать. Спасибо – партизаны отвлекли финнов и мы вышли из окружения… Вот тогда и попал в госпиталь.
- А в авиации так оказался, - уже предупреждая мой вопрос, стал он рассказывать дальше. – После госпиталя нас перебросили на Кандалакшское направление, тут уже против нас стояли не финны, а немцы. Там в одном местечке стоял авиаполк. Немцы прорвались туда. Летчики наши улетели, кто успел, выехали на технике… Пехота и те, кто не успели отступить, остались, попали в окружение. Там смешались все: моряки, пехотинцы, артиллеристы, авиационники… Там-то нас, шесть человек и приметил мой будущий начальник штаба, в тот момент старший лейтенант Иван Степанович Селицкий, взял к себе, без него, наверное бы погибли. Опять выходили из окружения. Съели всех собак, артиллерийских лошадей, вовсе уж доходяги были.
И вот когда нас все же вывели в Кандалакшу, началась переформировка – моряков отдельно, пехоту отдельно…Селицкий нам наказал – в любом положении, когда вас будут формировать в маршевую роту – поставить меня в известность. Три недели нас откармливали, приводили в порядок, а потом вновь определили в маршевую роту. Мы, как и было наказано, поставили его в известность, и он нас взял к себе в авиацию. Специалистов там не хватало, а у меня все-таки семилетнее образование, что по тем условиям, чуть ли не равнялось высшему, и меня определили в авиационный полк механиком по вооружению. Самое лучшее время на войне было.
Невольно подумалось – да какое же может быть «лучшее» время на войне?
А Михаил Афанасьевич продолжал свой рассказ:
- А потом он меня в штаб к себе взял. Это была каторжная служба – покоя ни днем, ни ночью – приказ НКО № 150, подписанный Сталиным: за потерю секретных документов – десять лет, шесть месяцев штрафбата; за потерю совершенно секретных документов – трибунал, расстрел. Вот из-за чего и застрелился мой предшественник на этом месте. Пришла фельдсвязь, он принял документы, зарегистрировал в журнале, а писалось-то все на тонкой-тонкой бумажке. Кто-то заходил к нему в комнату, дверь открывали, а он отвернулся, и этот лист со стола снесло под сейф, и там он к стене прилип. Все перерыл – документа нет, достал пистолет и застрелился. Потом сейф сдвинули – документ на стенке. Время было жесткое, военное, но и порядок был… И все же не попади я в штаб, лежали бы мои косточки где-нибудь под Кандалакшей, - твердо сказал Михаил Афанасевич. – Да и на штабной службе довелось хлебнуть – вот как. - Чиркнул ребром ладони по горлу и продолжил:
- По своей должности я каждый месяц ездил в вышестоящий штаб за новым ключом к шифру. Вручали его только лично в руки, самолетом лететь нельзя – собьют, может к немцам попасть, так что ездил поездом, с сопровождающим. И редко проскочишь, чтобы наш поезд не бомбили. На земле-то хоть сама же земля-матушка помогает укрыться, а из поезда куда? Сначала бомбят, потом обстреливают из пулеметов. Ну, машинисты опытные были, когда самолет пикировал для обстрела – тормозили, когда самолет снова на круг уходил – рвали вперед. Так вот и ездили… Был случай с этим поездом… Ехали как обычно с сопровождающим сержантом. Вдруг – так шарахнуло! Я очнулся, гляжу – пустой вагон. Потом вижу – ноги из-под полок торчат. Еле своего сержанта Сидорова нашел. Приехали мы – гляжу, а сопровождающий-то мой хромает. «Что с тобой?» «Нога болит». Я куртку на нем загнул, гляжу – а у него щепка из ноги-то торчит. Вести его на перевязку – отправят в госпиталь, а мне до места еще два километра и без сопровождающего нельзя. Ну, вытащил я эту щепку, сам перевязал, дошли, там уж ему настоящую перевязку сделали… Вот так бывало…
- А всего страшнее – на корабле, когда подлодки торпедируют – сказал, помолчав, Михаил Афанасьевич (а я подумал – да что же может быть страшнее окружения, обстрелов и бомбежек, и ведь все это надо было не просто пережить – а при этом выполнять каждодневную военную работу). - Пословица была, - продолжал Советов, - «Кто на море не бывал, тот от родимья сердца Богу не маливался». Да после-то войны кому умирать хотелось, в таком-то возрасте… Почему после войны-то? А у нас на Севере война закончилась, можно сказать, в октябре сорок четвертого, когда немцев из Норвегии вышибли. Нашей части дали приказ перебазироваться в Восточную Пруссию, к Рокоссовскому. Только собрались – пришел другой приказ. Нас передали в управление Северного флота. На суше-то война закончилась, но еще оставался очень сильный немецкий флот. Вот с этим флотом наша авиация и воевала. Мы знали, что Гитлер приказал – пока флот не израсходует горючее и боеприпасы – не сдаваться, а когда горючее и боеприпасы кончатся – сдаться союзникам. И немецкие подлодки постоянно атаковали караваны, которые «по ленд-лизу» везли технику и боеприпасы в Мурманск. Они запирали наш Северный флот у берега, не выпускали в море, доходило до наглости – в портах наши корабли торпедировали… Вот довелось и мне это на своей шкуре испытать… Нашей части поступил приказ перебазироваться на Дальний Восток. Отправляли сначала половину штаба, половину санчасти, еще какие-то службы, всего человек пятьдесят. Железной дороги от нашего места дислокации до Мурманска не было, а шоссейная ремонтировалась. И вот нас погрузили на военный корабль, и мы вышли в море, присоединились к каравану судов – десятка два гражданских кораблей и около десятка военных. А наш корабль – новенький английский сторожевик, замечательное судно, все блестит, экипаж бравый…Нам разрешили даже выйти на палубу, где зенитные орудия стояли. Качка с носа на корму, как на детских качелях – любо-дорого. А потом разыгрался шторм. Начало корабль класть с борта на борт. Нас всех в трюм. Морская болезнь началась. Ну, ничего, плывем, через сутки будем в Мурманске – хорошо! Вдруг рында запела – боевая тревога! Видим, морячки забегали, на боевые посты встают. Кто-то кричит: «Братцы, нас подлодки встретили!» Женщины заревели. А шторм-то никуда не девался, нас туда-сюда бросает. Слышим – залп, две торпеды из носовой части ушли. Потом корабль развернулся наперерез волне, и с кормовой части еще две торпеды пошли. И тут корабль чуть ли не на попа встал. Грохот. Бог ты мой! За руки схватились – братцы, прощайте, на дно пошли!.. А корабль со скрипом на воду лег. Опять с борта на борт бросает. Что случилось – никто не знает. Потом снова слышим кормовой залп – две торпеды… Плывем, поуспокоились. Отбой, выпустили нас на палубу. Смотрим – никакого заграждения у корабля нет, поручни, лестницы – все ободрано, одни прутья висят. Слышим – пластырь загоняют. Выше ватерлинии – пробоина. Оказалось, что впереди нас шел такой же корабль, и в него попали сразу две торпеды, он взорвался, а нас взрывом и осколками боеприпасов накрыло.
Потом, где-то вдалеке виднелся уже берег, нас встретил буксир – грязный, вся палуба в мазуте. Поступила команда пересаживаться на этот буксир. Прибортовались. Но это легко сказать – пересаживаться, в открытом-то море. Начальник штаба мой ругает сам себя – мы нарушили инструкцию, взяли с собой сейф, в нем формуляр части, печати части, документы, шифры… Сейф больше тридцати килограммов весит… У баржи борта высоченные, у нас низкие. Ждали, когда волна борта сравняет, брали за руки за ноги и перебрасывали человека. Что с сейфом делать?.. Сидор, то есть вещмешок, мне привязали спереди, сейф обмотали ватником и ремнями мне на спину приторочили… Я только боялся, что меня не примут на руки. Да по сравнению с тем страхом, что во время атаки подлодок испытали – это уже сущий пустяк был. Моряки здоровые – приняли меня на руки.
- Но были и в то время дни настоящего счастья… - улыбнулся Михаил Афанасевич.
- В сорок четвертом году штаб армии поставил перед моим начальником штаба задачу найти в нашей части кого-нибудь из Сокола, через них связаться с комбинатом и любой ценой достать бумаги. В войну ведь до того дожили – не было абсолютно бумаги. Солдатам еще выдавали на письма, чтобы было два раза в месяц письмо обязательно, а в штабах писали на кальке, да на чем придется. Подняли мы все списки личного состава – на счастье в обслуге аэродрома служил заместитель директора по сбыту ЦБК – Зеленин Александр Васильевич. Его вызвали в штаб – так и так. Он написал письмо директору… А в войну, надо сказать, почта ходила лучше, чем сейчас. Нынче в Вологде из Вологды же – почту получаю на шестой день, а в войну на четвертый-пятый день письма с Севера в нашу деревню доходили. И пришло письмо от директора Сокольского ЦБК – в пределах трехсот килограммов бумагу отпустим. Вот и поехали мы вдвоем с Александром Васильевичем в командировку. Нам дали с собой тушенку, жир в банках, это давали только на подлодки… Полным-полно всего – в общем, взятка, конечно. Приехали в Сокол, на квартиру к Александру Васильевичу. У него двое детей, отдельный домик. Он мне сказал – ты поезжай домой, тебе тут делать нечего. И я был дома три дня. Вот тогда-то мы с моей будущей женой и сговорились. Я ей сказал: «Война кончается – я останусь служить в армии, согласна ко мне приехать?» « Согласна, - говорит, - хоть на полюс». Вернулся я в Сокол, а нам вместо трехсот, аж пятьсот килограммов бумаги отпустили. Упаковали мы ее с Зелениным по пятьдесят килограммов, утром ни свет ни заря отправились на дрезине, к разъезду Печаткино. За минуту, что поезд стоял загрузились в почтовый вагон. С дороги мы дали телеграмму, и нас уже ждал "студебеккер" с охраной. Привезли бумагу. Да еще двести килограммов «сверху». Так что и нашему штабу хватило и штабу армии…
Но в армии остаться не получилось. Ослепла мать, сильно заболела (надорвалась во время работ по строительству железной дороги) и вскоре умерла сестра. В сорок шестом году я вернулся в Янгосорь. Невеста моя, Людмила Васильевна, меня дождалась, хотя к ней многие сватались. Вскоре мы поженились. Почти сразу поставили меня председателем колхоза…
Впрочем, это уже другая история. Я же говорил, что жизни Михаила Афанасьевича не на одну книгу хватит…
Разведчик Черняев
- Воевали, воевали, - бойко откликнулся на мой вопрос Илья Алексеевич Черняев, совсем не богатырского вида старичок. Но глазами встретились – есть еще огонь в глазах, да и голос бодрый и, кажется, чуть насмешливый.
- Пятьдесят первая гвардейская дивизия, отдельная двенадцатая разведрота, - четко, по-военному, добавил он.
Расположились мы в кухоньке, он на табурет у печки присел, я за стол у окна.
- Взяли меня в сорок втором году. Обучали три месяца в Кущубе, а оттуда нас под Воронеж бросили. Выгрузили на станции «Анна», и еще девяносто километров мы пешем топали. В Воронеже-то уже немец стоял. Вот год мы там под Воронежем и были. По ту сторону реки Воронеж – немец, а по эту сторону – мы. Я в разведке был. Ходили за «языками», вели наблюдение… Как линию фронта пересекали? Через реку переправлялись. Была переправа… Ну, переправу немец всю дорогу обстреливал – днем и ночью… Находили места, лодки у нас были… Помню, первого языка взяли… За пулеметом он был, в дозоре на нейтральной полосе. Финн… Двое их было. Одного-то мы приткнули ножиком, а финна взяли…
- Разве в Воронеже были финны? Они, вроде, больше под Ленинградом… - усомнился я.
- Значит были. Точно – финн. Здоровый такой мужчина… - (Илья Алексеевич именно так и сказал - «мужчина», с каким-то даже уважением).
- Страшно было в разведке? – опять я спросил.
Разведчик Черняев усмехнулся.
- Так как… Страх есть, а надо выполнять. Обычно ходили отделением – десять человек, - стал мне объяснять подробно. (А я вспомнил «тактические занятия» из своей воинской службы, ведь и у меня в военном билете написано – «разведчик войсковой разведки»).
- … Две отсекающих группы – правая и левая – по два человека, захват-группа – три человека, тыловая – три человека. Вот в группу захвата – иногда по желанию брали…
- Как-то учили вас – приемам разведки, рукопашному бою?
- Не до того там уже было, сами приучались…По неопытности большие потери бывали. Раз ходили двадцать человек – два отделения, а ведь чем больше народу, тем больше шуму… Десять человек убило от двадцати. Политрук с нами ходил, его убило. Которых ранило… Вооружение наше было: финский нож, всегда в ножнах на ремне висел; сначала винтовка, потом карабин, потом уж автоматы – ППШ и ППС. ППС удобнее – магазин плоский, за оба голенища можно запасные сунуть…
- 23 января сорок третьего года мы взяли Воронеж. Прогнали его за Дон (это Илья Алексеевич так немецкие войска называет: «он», «его»). На Харьков пошли. Харьков взяли. Оттуда вышиб он нас. Мы опять взяли. А с Харькова пошли к Полтаве. Не доходя Полтавы, в городе Зинко, меня в левую ногу ранило…
- Помню, было восьмое марта, - продолжал свой рассказ разведчик. – Мы вошли в село Громовка. Нашли старосту, спросили, где немцы. Вчера, говорит, были, человек сто, ушли. От Громовки до города Зинко километров пять. Мы поехали в разведку на лошади, на санках: командир взвода лейтенант Молчалин Виктор Александрович, Яша Сафонов с Ленинграда, я , Волович… А сзади нас, метрах в ста, еще сани, тоже в них четыре человека. Заехали. По сторонам смотрим. Двухэтажные здания справа – никого там, тихо. Я с левой стороны сижу на грядке саней. Смотрю – куча железа у телеграфного столба и кто-то там…Я говорю: «Товарищ лейтенант, вроде как немцы…» Только стали лошадей-то разворачивать, а он как очередь-то дал… Пуля, вишь, вошла у мизинца и вышла в пяту. Яшке Сафонову три пули в мякоть прошло. Воловичу шинель только прострелило. Лейтенанта – сразу…Ну, чего сделаешь… Мы начали отстреливаться. А от домов-то, мимо которых проехали, тоже начали строчить. Вишь как бывает… Туды попали хоть бы что, а обратно…- в этот момент, кажется, разведчик Черняев не просто рассказывал, вспоминал, он будто все снова рассчитывал, прикидывал – где же прокололись-то они и что еще можно было сделать…
- Те, на вторых-то санках – тёку. Мы на них заорали… Еле и вырвались… В госпиталь в Тамбов попал. Шесть месяцев там был. Потом – в выздоравливающий батальон. Туда «покупатель» приезжает, спрашивает – кто в каких частях служил. Когда разведчиков спросили – я вышел. А мне справку уже дали – «годен к нестроевой». «Ты, - говорят мне, - в разведку не годен». «Почему?» «Бегать не можешь». Я говорю: «Вперед могу бежать, назад нет». Побеседовали со мной. Взяли снова в разведку…
- Хотелось именно в разведку? – спросил я, думая про себя: «Вот герой-то!»
Но Илья Алексеевич, опять вроде бы усмехнувшись, спокойно сказал:
- Конечно… Хоть и пехотная разведка – а лучше чем в самой-то пехоте на передней линии… Тут все-таки – сутки отдежурил, сутки отдыхаешь…
- Четвертый Украинский фронт – Сиваш, Сапун-гора, Сахарная голова, Долина смерти, слыхал? – Я кивнул в ответ. - Вот там я и продолжал после ранения.
- Когда Сиваш взяли, он к Севастополю стал отступать-то, а мы было – в упор его да гранатами… Война – или ты его, или он тебя… Одиннадцатого июня сорок четвертого мы поднялись на Сапун-гору. Оттуда нас сняли, дали отдохнуть, помыли в бане и перекинули на Третий Прибалтийский фронт. Паневежис брали, Шауляй. Снова ранили – грудную клетку пробило, лежал в госпитале в Полоцке. Дослуживал в Каунасе, оттуда и демобилизовался в ноябре сорок пятого года… Награды-то?.. Благодарность за Сиваш, Благодарность за Севастополь, Благодарность за Паневежис, Благодарность за Шауляй, «За боевые заслуги», «За отвагу», орден Славы…
- Ну, вернулся я в колхоз, в деревню Росликово, тут за леском. Двенадцать домов. Сейчас нету деревни, все уж распахано… Мать у меня была, да четыре сестры… Так и остался в колхозе.
- Слышал, какая-то история была у вас?.. – решился задать я неудобный вопрос. Илья Алексеевич сразу меня понял, откликнулся озорно:
- И это знаешь?.. Было дело… Бывают в жизни огорчения, - смеется. - Споткнулся неправильно и все… Двенадцать лет дали… Нет, не колоски – поболе. Сталин-то помер – шесть годов сбросили. В Шексне я сидел, там разгружали баржи с песком да с камнем. Зачеты были, а работала моя бригада хорошо, так что из шести лет, отсидел четыре... Работать надо везде. А шпане, карманникам всяким, спуску не давал… Вернулся домой в пятьдесят пятом – и все в колхозе, в восемьдесят втором на пенсию вышел… Стаж-то? А считай – в тридцать втором, в двенадцать лет пахать пошел…
- Награды-то остались у вас?
- Меня когда арестовали, приехал милиционер из Кубенского… Я бы сам-то не отдал, а жена отдала – «За боевые заслуги», «За отвагу» и орден Славы – с концами. Почему забрали – не могу сказать, может, какое постановление было… Когда вернулся я и не хлопотал, орденская книжка есть…
- Сейчас-то как живется?
- Ничего живется… Пенсий хватает. Много-то нам нечего и покупать, - кивнул он на свою бабушку, тихонько присевшую у стола. - Восемьдесят семь годов так… Две дочери у меня, сын, два внука…
- Всю войну пришлось работать голодным, холодным, в пятнадцать годов подали вилы – стога метали, а топерь тракторам вон все убирают так… Топерь молодежь ничего не видала… - завздыхала бабушка. Надо бы и с ней поговорить, да это уже, если будет, то другой разговор и в другой раз…
Я попрощался с Ильей Алексеевичем, вышел во двор, по расчищенной тропке вышел за калитку, к машине, закурил…
Десяток изб в заснеженном поле – это и есть деревня Харитоново… День солнечный, и все искрится – крыши, промятая трактором посреди деревни дорога, заиндевелые кусты репейника… Вдали – черно-белая полоса леса. На снеговом одеяле в соседнем огороде синие вмятинки – заяц бегал… Наносит запах печного дыма… И тихо-тихо… Вот эта снежная тишина, этот дымок, эта вольная белая равнина и есть – Родина. За нее воевал разведчик Черняев…
Такая память
У каждого, кто жил в те годы, своя память о войне – кто-то воевал с первого дня, кто-то был призван в армию в конце войны, кто-то работал на оборону страны в тылу, чье-то детство пришлось на те тяжкие годы…
- Не было у нас детства, не было… - глухо, будто с трудом из себя слова выталкивая, говорил Николай Прокофьевич Тарасенко. С видимым трудом, но начал рассказ, потихоньку, вроде, и разговорился…
- Я родом из Днепропетровской области, наша деревня в тридцати километрах от Кременчуга. Родился в феврале тридцать седьмого. Семья кулака, - Николай Прокофьевич невесело усмехнулся. – А какие там кулаки…Дед мой воевал еще в Первую мировую, пулеметчиком был, тайком показывал мне Георгиевские кресты, три или четыре было, а их просто так не давали. Вот за такую службу и был наделен от царского правительства землей, да лошадьми. А вообще-то дед бондарем был, хорошие бочки делал. Отец плотничал. Вот их уже в тридцатые годы и раскулачили. Деда и отца – забрали. Говорят, чекист хороший попался – вскоре их выпустили… Нас, детей, у отца с матерью было пятеро: две сестры старшие, потом брат, потом я и самый младший с тридцать девятого года.
Я, конечно, смутно помню начало войны…Многое знаю только по рассказам матери… Отца взяли на фронт сразу же, как только началась война. На семерых выдали одну винтовку и горсть патронов. Конечно же, вскоре, возле города Хорола в Полтавской области, он и попал в плен.
Лагерь военнопленных, в который попал отец, располагался в Кременчуге. Когда он бежал из лагеря и появился дома, вся спина его была исполосована – конные немцы плетями гнали их в лагерь… Мама тогда от кого-то узнала, что он в лагере, собрала продукты – сало, мед – и поехала его «выкупать».
Но получилась так, что когда она приехала в Кременчуг, отец уже бежал из лагеря. Пленных немцы не кормили, а выгоняли в кукурузное поле, и они ели початки. Однажды отцу и удалось бежать с этого поля. По нему стреляли, но, к счастью, не попали. В селе, куда он пришел, его сразу же арестовали, и местный староста, усадил его в телегу и повез обратно в лагерь, а за селом, на берегу Днепра сказал: «Вон, в камышах дед на лодке, он переправит тебя на тот берег…» Так отец и сбежал.
Явился он в деревню. А у нас уже немцы стояли, их штаб располагался в доме через дорогу от нашего… Вообще, немцы очень быстро тогда наступали. В нашей деревне они уже в июле были.
Позже, появился в деревне и дядя Демьян (брат матери), тоже красноармеец, он еще и в финскую воевал. И никто на них не донес – народ в наших местах дружный. Были, конечно, и полицаи. Был староста, который все знал про отца и дядю, но донести на них немцам, видно, боялся. Староста тот – негодяй из негодяев (при советской власти был председателем сельсовета), говорил, бывало: «Скорее, у меня на ладонях волосы вырастут, чем русские вернутся».
Был случай, когда староста пытался отца в полицаи завербовать, мол, сын кулака, дак… С немцем приходил. А отец им – отстаньте, я плотник. Исполосовали его кнутом, но так и ушли, ничего не добившись…
Так мы и жили под немцем до осени сорок третьего года. Кое-какие запасы у нас были, да коровенка – тем и кормились. Немцы нас не касались, не скажу, чтобы сильно бесчинствовали. Но в центре деревни висела бумага о том, что за убитого немецкого солдата будут расстреляны сто местных жителей.
Партизан в наших местах не было. А вот разведчиков мы, мальчишки, сами видели: двое – мужчина и женщина, у них даже гимнастерки под верхней одеждой были, понаблюдали за штабом немецким и ушли в овраг… Был еще один, ходил по деревням, все дурачком прикидывался, когда немцы ушли, он появился у нас в деревне в форме капитана. «Вот тебе и убогий», - сказала бабушка.
Осенью сорок третьего началось отступление немцев. Отступая, они выселяли и гнали с собой жителей деревень по Днепру. Всю нашу деревню гнали в повозках, запряженных быками, и пешком. Видимо, как живое прикрытие. Когда пролетали наши самолеты, женщины махали платками, и нас не бомбили. Отбила нас Красная Армия уже в Кировоградской области.
Отправили нас домой, а там – войска идут, танки, кругом трупы, деревни почти нет – все сгорело. Целый день мы просидели в поле, пока через деревню шли войска.
Войска еще долго шли через деревню – волна за волной. Однажды предупредили – прячьте все, штрафники пойдут. Бабка с матерью и ночевали с коровой в обнимку…
Полицаи немцам стали не нужны, их сразу же всех и арестовали, как наши пришли. Староста сам отравился (тот, что был когда-то председателем сельсовета), в соседней деревне женщины полицая граблями да вилами забили…
Как только нас освободили, так отца сразу снова призвали в армию. Прощались мы с ним рано утром – на руки всех по очереди взял, к потолку поднял и ушел. Матери сказал (она уж потом рассказывала): «В плен больше не попаду – если что, застрелюсь».
Отправили их на переформировку воинских частей. И бросили под Умань, там попали они в котел. Там, видно, и погиб. В сорок третьем году.
Дядю Демьяна, тоже призвали. Он еще возвращался домой в отпуск по ранению. Потом снова ушел на фронт, и уже из Австрии пришла на него похоронка.
У матери три брата погибли – дядя Демьян в Австрии, дядя Михайло на Висле и дядя Ваня – матросом был, с Дальнего Востока их под Сталинград кинули. Всех оплакали…
Это было страшное время, когда начали приходить похоронки – вой по деревне стоял. Из нашей деревни почти все мужики погибли, а ведь около четырехсот дворов было… Человек пятьдесят, может, вернулось, и те все калеки.
Получили и мы извещение о том, что отец пропал без вести. Мать долго надеялась, что, может, жив… Бывало, возвращается какой-нибудь инвалид домой – все к нему: как там? не видел ли моего?.. Мать тоже… Да где там жив… Скольких один Днепр похоронил – и все «без вести».
Наша деревня в пяти километрах от Днепра, мы раз на берег прибежали, а там, как ледоход: сначала в темно-серых шинелях плывут – наши, потом в шинелях мышиного цвета – немцы. А сколько же их на дно ушло!..
Страшное было время… Пошли мы, мальчишки, в поле, чего-нибудь съестного поискать (все запасы зерна после освобождения сразу были добровольно-принудительно изъяты в фонд обороны, оставили по пятнадцать килограммов на человека). Вот пошли, а там… наших-то бойцов сразу похоронные команды хоронили, а немцы – как снопы, так и лежали. Потом их старшие ребята и женщины зарывали в бывших окопах и блиндажах.
Нас, малышню, отправляли ловить сусликов (их ели), собирали мы медь от снарядов, постарше – помогали работать в поле. Не было детства… Оружия, боеприпасов много было кругом. Развлекались мы тем, что доставали из мин бездымный порох. Сколько мальчишек подорвалось! Погибали мои друзья, пальцы отрывало…
В поле за деревней, на горушке, стояло штук десять наших разбитых танков. Мы ходили там с сумками противогазными собирали медь от разорвавшихся снарядов и потом сдавали ее в магазин. Приехал потом мужчина резал те танки автогеном. Резал и плакал. Обгоревший весь был, лица не было, зубы железные. Я, говорит, ребята вот в этом танке горел…
Вскоре после освобождения начали восстанавливать колхоз: пришли там с войны два мужика израненных, да раненую лошаденку поймали в овраге, то ли наши бросили, то ли немцы – вот с этого и начинали. А, в основном, все на бабьих плечах…
В школу я пошел, когда мне уже десять лет было – до этого у нас не было учителя. Вместо чернил сажу водой разводили. Бумага – та что немцы в штабе побросали. А если контрольная – листок со штампом давали – так не дай Бог его испортить.
Самые голодные годы были – сорок пятый, сорок шестой. Все запасы кончились, а еще и засуха… Да к тому же появился в наших местах тиф. Наш дом эта беда обошла – все дети выжили, выросли…
Жили, конечно, очень бедно. Какое-то было там пособие за отца, а в колхозе «за палочки» работали, трудодни. А и на трудодни ничего было не получить. Полотно делали сами из конопли и шили одежду. Однажды, то ли в сельсовете, то ли в школе – сестре платьице выдали, а нам, парням, на троих – пару ботинок. Американских. Неделю мы к ним и не притрагивались. Потом старший брат, надел, в школу сходил, пришел домой – плачет. Они, наверное, были сделаны из бумаги, разбухли, еле стянули с ног.
Я закончил семь классов и пошел работать в МТС, в тракторную бригаду. Долго еще после войны очень трудно жили, впервые хлеба вволю поели уже в пятидесятых годах…
Вот такая судьба мальчишки военного времени, такая память… В пятьдесят седьмом году Николая Тарасенко призвали в армию, службу начинал, между прочим, в Германии. А затем и вся дальнейшая жизнь Николая Прокофьевича была связана с армией. Так волею судьбы и армейского начальства и в наши края попал, да здесь и осел, уволившись из армии в восемьдесят третьем году прапорщиком. Жена у ветерана из Огаркова, там и живут теперь. Сын работает в городе, дочь в магазине в Харычево, внуки…
Родная деревня Николая Прокофьевича нежданно-негаданно оказалась «за границей», но связь с родиной он, конечно, не теряет. Там, на Украине, еще живут сестра и брат, племянники в родной деревне фермерствуют. «В последний раз был на родине с дочерью четыре года назад, - еще вспоминает Николай Прокофьевич. И снова память уносит его в давние годы. - Обидно слышать, как сейчас на Украине Бандеру восхваляют. Это был самый настоящий палач. Я помню, как к нам с Западной Украины переселяли семьи фронтовиков, чтобы спасти их от бандеровцев. До пятидесятых годов они там бесчинствовали: убивали учителей, красноармейцев…»
Наверное, Николаю Прокофьевичу трудно было вспоминать. Тут слушаешь, записываешь, и то сердце сжимается. А он-то ведь все это пережил, и всю жизнь с этой памятью прожил…