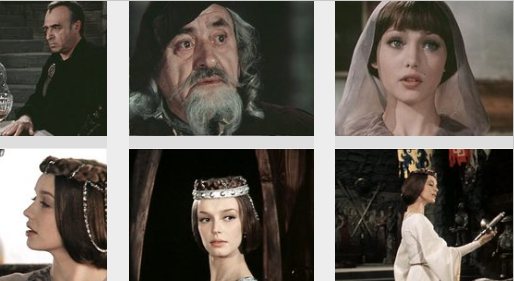«Небом поймав одинокую птицу…»
«Небом поймав одинокую птицу…»
О поэзии Михаила Болгова
Современная поэзия вобрала в себя интонации самые разные, формы порой причудливые и гротескные, антураж мистический – и предметно документальный, духовные устремления как экзистенциально невыразимые, так и публицистически наглядные. Кажется, все вошло в нынешнюю русскую поэзию, взбаламутило ее содержание, сбило привычную иерархию прекрасного и безобразного – и оставило в растерянности читателя, доверчивого и сердечно неиспорченного.
Будто вот она, прежде прекрасная дева, теперь стоит, шатаясь, истерзанная и пьяная, у размалеванной и полуразрушенной городской стены – у дома, предназначенного к сносу. Но стоит вглядеться в существо русской музы, и ты увидишь чувства добрые, желание чистоты и любви, волшебство языка и остроту мысли – и речь вдохновенную, пронизанную колдовством, идущим от земли, и порывом, который берет свое начало в небесном пределе.
Важно беречь в себе желание удивиться красоте стихотворения, движению мысли автора – желание выйти из поэтической волны душевно богаче и свободнее, нежели ты был прежде. И если читатель сохранит это важнейшее для любителя литературы состояние предрасположенности к подлинному поэтическому языку, открытия ждут его повсеместно. Потому что нет ничего более необходимого для русской лиры, чем открытое, беззащитное сердце ее почитателя.
В середине 1970-х годов в поэтическом воздухе Воронежа впервые прозвучало имя Михаила Болгова. В то время выходили сборники официально признанных воронежских поэтов, позиции местного отделения Союза писателей России были крепки, а ершистая и непослушная творческая молодежь сгруппировалась вокруг литературного объединения, которое тогда возглавлял неплохой поэт и благодушный человек Олег Шевченко. По-разному сложились впоследствии судьбы этих молодых стихотворцев. Многие с течением лет затерялись в обыденной жизни, иные – срослись с литературой неразрывно, и их имена звучат сегодня, возбуждая интерес читающей публики и ее удивление: как такие разные творцы могли уживаться в рамках кружка единомышленников. Впрочем, это недоумение может возникнуть лишь в том случае, если человек не представляет ситуацию бурлящего котла, в котором «швец и жнец, и на дуде игрец» оказались одновременно по провиденциальной причине – официальные литературные семинары были тем маяком, который неявно указывал: место сбора – здесь. Люди укрепляли взаимные связи, создавали живые, неформализованные поэтические кружки, упоенно спорили о путях русской и мировой поэзии, беспощадно разбирали стихи своих товарищей.
В среде этой поэтической вольницы Михаил Болгов был признанным авторитетом. С поразительной свободой он мог трансформировать стиховую ткань по собственному усмотрению, а гиперболизированные образы болговских стихотворений поражали яркостью и самобытностью всякого, даже во многом ангажированных официозом членов Союза писателей.
Как-то, на одном из заседаний литературного объединения Болгов мастерски прочитал «Воронежие» – ассоциативную словотворческую балладу о родной земле, ее укладе и дерзновенном певце, который не находит слушателя и гибнет. Руководитель семинара Олег Шевченко, помолчав, сказал: «Миша, это гениальное стихотворение, но его не напечатают».
Воронежеиволги воронежеивы
воронежеиереи сворожили диво
воронежестокое воронеже словом
воронежалящим воронеженовым
В неба чёрного когтях
что как ворон аж
У степной земли в зубах
что колючий ёж
Извивается как уж
узкоглазый раж
Уронив о камень душ
наточённый нож
Воронежие
воронеживое воронежное
воронежелезная твоя воля
воронежеланная твоя доля
Поразительная способность к звукописи, казалось, навсегда угасшая в русской поэзии со времен Хлебникова, который придавал ей первостепенное значение, вдруг проявилась в болговских стихах властно и вдохновенно.
Русский эпос, формальные поиски отечественного и зарубежного авангарда, живопись и наука пронизывали стихотворения Болгова невидимыми нитями, скрепляя образы, задавая ритмику, развивая сюжет. История языка соединялась с коллизиями в круге поэтов – «Падение глухих», иконописное изображение получало волшебно-апокрифическое истолкование, жестокое и нежное одновременно – «Мать Владимирская – Богу». Литературные аллюзии и природная склонность к простой народной речи не спорили друг с другом, витиеватая французская вилланель («Я жарю каменные зерна, // Не зная, чем залью костер...») соседствовала с почти фольклорной «Рассказочкой»:
По степи гулял
ветер северный,
Собирал букет
полевых цветов,
Собирал букет
своей злой жене –
Вьюге северной,
душесгубливой.
Он дышал на них –
цветы вянули,
Прижимал к себе –
стебли лопались,
Перебрал всю степь
по цветочку он,
До листочка всю
до последнего.
Влюбленность Михаила Болгова в поэзию была поистине всепоглощающей. Инженер-электрик по образованию, он отказался от учебы в аспирантуре и целиком погрузился в поэтические тексты – русские, европейские, латиноамериканские, азиатские. Магнетизм его таланта вовлекал в свою орбиту единомышленников, воспламенял атмосферу литературных собраний, выводил творческие баталии за пределы «союзписательских» стен. Без преувеличения Михаила Болгова можно назвать главной творческой фигурой вольной воронежской поэзии 1970-х – 80-х годов. Будто два литературных мира существовало в то время: официально признанный, печатный – и словно бы «дворовый», во многом устный, по видимости «любительский», незаконный.
и не чувствуют другие
по поверхности плывя
что глубины заклубились
распотешившиеся
Скомпрометированный тезис «Искусство – для искусства» все-таки имеет значение в сфере поэзии. Красота строки, ее звуковое наполнение, сладость поэтической речи, таинственная гармония, которой подчас проникнуто стихотворение, несравненно дольше задерживаются в душе читателя, нежели самые искренние публицистические высказывания в стихах. Разумеется, нельзя отменить искренность и негодование, глубину чувств и точность мысли – без них поэзия мелка и никчемна. Однако есть неизъяснимое очарование в простоте и изяществе слов, в отвлеченном от реальности поэтическом рассказе, в напряжении, владеющем душой автора, в его голосе, похожем на звенящую струну.
Разрослась жизнь наша вековечная,
Неохватная, высокая и стройная.
Для нее и – отложив продольную –
Развожу я песню поперечную.
Развожу по умыслу и по сердцу
Всяко слово обоюдоострое,
Чтоб ходила песня, как по маслу,
Да во стволу сыром не заедала.
На излете советского времени, в 1987 году, в Воронеже под председательством Михаила Болгова был создан Клуб поэтов «Лик», а в 1989-м – вышел первый коллективный сборник вольной поэзии «Дюжина», куда вошли две болговские вещи: интеллектуальный «Сонетный узел» и мистическая поэма в народном стиле «Уж как стать начинать да стать сказывать».
Ушла в прошлое идеологическая цензура, но ее место заняла коммерциализация литературного пространства со своим рационалистическим подходом к поэзии. Исчезло художественное эхо, придающее творчеству дополнительные силы, и голос поэта поневоле стал негромок.
Вместе с тем не стоит забывать о том, что настоящие стихи содержат в себе тайну смысла и тайну красоты. Нынешняя фабрика литературы это обстоятельство не учитывает вовсе. Вот почему главной бедой современной поэзии можно назвать утрату неизъяснимости бытия. Мир переполнен предметами и рассудочными сентенциями, усталостью и бытом. Он будто уснул тяжелым, обморочным сном. Как никогда ранее, сегодня ему необходимо слово надмирное, образное, завораживающее своей недосказанностью.
Слово, о котором читатель подумает, повторив строку Михаила Болгова:
«Так диковенно // Облаковенно…»
Вячеслав ЛЮТЫЙ
ВЫБОР
Редкоусая Россия Севера,
Средняя Россия седоросая
и рассыпчатая Южная Россия
к Малороссии малой на крестины,
прихватив с собой Белороссию,
собрались с подарками своими…
Редкоусая – холодную купель
привезла на облаке гремучем
и накидку драгоценную связала,
самоцветами расшитую по меху.
Седоросая святой воды собрала
на заре с лугов своих серебряных,
солнечных ежей перекупала
вместе с белыми дождливыми ежами,
привезла гостям всем на потеху –
те живым иголкам удивлялись.
Южная немного припоздала,
но зато, когда вдруг заявилась
с сотней бочек крепкого вина,
что по рекам и озёрам прикатила
и которое по тайному обряду
специально к торжеству курила,
и огромную белугу в два обхвата
на дубовый стол преподнесла, –
небывалый пир за здравье Малой
с новой силой у гостей разбушевался.
Белая Россия удивлялась,
глядя на сестёр своих богатства,
ничего такого не имела
у себя она – в краю болот тоскливых.
Но когда дитя вдруг раскричалось,
неожиданно от голода проснувшись,
когда все от пира оторвались
и не знали, что же делать с Малой, –
нежно нá руки она взяла ребёнка
и, поправив его крестик, расстегнула
своё платье и досыта грудью
накормила, спеленала, укачала,
унесла подальше от застолья,
чтоб никто не разбудил малютку...
А притихнувшие было удалые
и лихие, щедрые России
песни затянули раздушевные
зацелованными крепко голосами...
Слыша их, счастливо улыбалась
Белороссия, по степи гуляя,
и, чтоб ни на миг не сглазить счастья,
троекратно через плечи сплюнув,
истово себя перекрестила,
землю, по которой шла, перекрестила,
замерла, на небо засмотревшись,
и к застолью так и не вернулась...
РАССКАЗОЧКА
По степи гулял
ветер северный,
собирал букет
полевых цветов,
собирал букет
своей злой жене –
вьюге северной,
душесгубливой.
Он дышал на них –
цветы вянули,
прижимал к себе –
стебли лопались.
Перебрал всю степь
по цветочку он,
до листочка всю
до последнего.
Он унёс цветов
ровно полстепи –
ровно полстепи
не цветёт теперь.
Удивить хотел
север пасмурный
красотой земли,
её запахом...
Прибежал домой,
тяжело дыша,
и поставил их
под иконою.
Погляди, – кричит, –
дорога жена,
что за степь нашёл –
диво дивное!
И тогда змеёй
вьюга выползла,
от его цветов
нос воротит свой.
Говорит: «Ждала
я подарочек,
а ты мне суёшь
племя гиблое.
Тут ходил сосед –
мороз северный,
на простой воде
он цветы сажал,
целый час он мне
их выращивал...
Вон, гляди, стоит
полна вазочка!»
Подбежал, глядит
ветер северный –
изо льда цветы
так и искрятся!
Подышал на них –
красивей цветут,
а прижал к себе –
пуще прежнего!
И сказал он тут:
«Это правильно,
Дорога жена,
вьюга хмурая,
изо льда цветы
красивей цветут...
Перестань гудеть,
моя умница!»
И усталый сон
охватил его,
И приснилося
диво дивное:
что он рвал в степи
изо льда цветы,
на могилу нёс
солнцу на небе...
* * *
Разрослась жизнь наша вековечная,
неохватная, высокая и стройная.
Для неё и – отложив продольную –
развожу я песню поперечную.
Развожу по умыслу и пó сердцу
всяко слово обоюдоострое,
чтоб ходила песня, как по маслу,
да во стволу сыром не заедала.
И гляжу я, запрокинув голову,
вижу: гнёзда птицей покидаются.
Стукну в ствол – гудит, как будто колокол,
чую: корни кулаком сжимаются.
Повалю. Уж никуда не денется –
грянет оземь, ветви выворачивая,
а я пот утру, пойду гулять и тешиться,
словно встарь – да на пиле играючи.
СИМФОНИЯ: финал
Словно гриб рос град
Как на грех рос крив
Рос под хрип и храп
Словно краб игрив
Среди прочих злоб
Что хранил урод
Был подземный ход
За черту ворот
Что суть бранн был град
Очень храбр и спор
Знали вор и враг
Ждали знак да срок
И настал тот срок
Всех своих верх бед
Получил град горд
Родовой знак герб
И указ высок
В центр лучей из стрел
Чтоб на створ ворот
Был прибит тот герб
А на нём хоть как
Ни верти суметь
Даже мог дурак
Тайный ход узреть
Белым днём червь как
Проползает в гриб
Так всяк вор и враг
В этот град проник
Расширял он ход
Углублял его
Так и вырыл он
Под землёю ров
И был холм преждь крут
Вырастал где град
Как пустая грудь
Он под ним ослаб
И с небес тогда
Полился дождь крупн
И омыл весь град
Словно был он труп
Прогрозил гром грузн
И ударил в холм
И пустую грудь
Расколол его
И пропал горд град
По земле шла дрожь
Он был бранн и храбр
Он был крив урод
Был и хрип и храп
Был и взрыд и всхлёб
Землю грыз дурак
Как голодный клоп
А над ним торчал
Что венчал собор
Крест как два плеча
Ветр качал врат створ
Завалил горд град
Ход самим собой
И украл герб вор
Это место враг
Стороной другой
Обегал с тех пор
* * *
Небом поймав одинокую птицу,
Из-под неё твердь земли уберу,
Чтобы она никогда не сумела разбиться,
Рухнув с небес, о земную скалу.
В тягость не будет ей в царстве воздушном
Тело её... и тогда вне земли
Мы ощутим, как к друг к другу потянутся души...
Силу – как тяжесть души ощутим.
Если же птица той страшною силой
С криком прощальным уносится прочь,
Я твердь земли вновь под небо пустое задвину, –
Как и привык коротать одиночь.
ПОБЕРИГА
Либо либо либо либо
Либо липой заскрипит
Либо лепет лебединый
К нам на землю не слетит
Либо либо либо либо
На земле не наследит
Золотил слезой
Залатал мечтой
Примерял к себе
Примирял с собой
И невидимо
И неведомо
Славесин играл
По-над Недоном
Ибо спас меня
Да спасибо пьян
Да способен ли
К большим радостям
Здесь надежда мне
Как одежда мне
С облаков вино
Исцелебное
Много нечисти
На лице земли
Да с лица её
Мне не воду пить
А вино вином
Свою жизнь пьянить
Так диковенно
Облаковенно
Покаянный и
Богоявный и
Заворошенный
Завороженный
Лил ветер
Из ведер
Откуда-то
С неба
А небо
Где небо
Да где его
Только
Не носит
* * *
Сын мой – сон мой
Синь в незримом крае
Слепнем проблеск
На глазах играет
Ген мой – гон мой
За всеми веками
Сгинью лгунной
Пощупальцы манит
День мой донный
Пенит цветер дальний
Данью стонной
Меня облагает
Кинул – мною
В пыль подённых зноев
Канул кровью
Впрок не запасённой
Тенью ранней
Землю облетает
Сын мой – сон мой
Синь в незримом крае
ВОРОНЕЖИЕ
воронеживое воронежное
воронежалея воронежена
воронежелала воронеждала
воронежеиволги воронежеивы
воронежеиереи сворожили диво
воронежестокое воронежесловом
воронежалящим воронеженовым
В неба чёрного когтях
что как ворон аж
У степной земли в зубах
что колючий ёж
Извивается как уж
узкоглазый раж
Уронив о камень душ
наточённый нож
Воронежие
воронеживое воронежное
воронежелезная твоя воля
воронежеланная твоя доля
На белóй груди перо брошено
Вороно перо ворона крыла
На конце пера капля кровная
Вороной крови да запекшейся
А в белых ногах то само крыло
Переломано да истоптано
Да черным-черно черней ворона
И вороной луны в небе с проседью
Воронежия небыли
воронежили – не были
воронеживыми
воронежными
Говодырь орёт
Черепел кричит
И в недобрый час распускается
Вороной цветок
вороной зари
Вороной росой причащается
Лепесток один ворона цветка
ворона мечта
Лепесток другой ворона цветка
ворона судьба
Вороная смерть третий лепесток
шевелит крылом
А последний лепесток
кем-то вырван и вплетён
Чёрной памяти в венок
Воронежичи воронежия
воронеждари воронежного
воронежлухи воронежевы
воронеженки и воронежури
воронý певцу тот цветок несут
вороной цветок вороной зари
и без лепестка чёрной памяти
На гуслях певца перетянуты
Жилы крепкие воронежьевы
Мóчи нет уже у того певца
Обессильного с места сдвинуть их
Но и сдвинувши не запеть ему
Столь высокий сказ своим голосом
Значит не ему лепестки срывать
С ворона цветка уцелевшие
Не ему гадать воронежному
Воронежию воронеживому
Обнимает он вороной цветок
Рану рваную заговаривает
Рану рваную чёрной памяти
Вороной заре своей матери
УЖ КАК СТАТЬ НАЧИНАТЬ ДА СТАТЬ СКАЗЫВАТЬ
Уж как стать начинать да стать сказывать –
Нечем мне на пиру и похвастать-то,
Не весёлую повесть, а страшную
Поведу да тебе, люд, поведаю…
Может, и начинать не пора ещё,
Да пора, она, вишь, переменчива:
Набежит, пробежит и опять найдёт,
Словно туча на солнышко красное…
А взбрело мне на ум, вот уж с год тому,
У гнилова болота осоку скосить,
И осоку скосить да скотине скормить,
Худо-бедно, а всё бы ей легшее-то:
Коли есть про запас корму на зиму –
Будет чем иной раз разговеться хоть.
А по слухам на том на болоте гнилом
Был, знать, встарь, колдовской говорящий родник,
Что ни спросишь – ответит да ласково
Присоветует что, всё и сбудется:
Ненароком каким али умыслом –
Смотря с кем ведь как лутче получится.
Но подслушать, что он сам с собой говорит,
Когда в гости не ждёт, на болоте-т, один
Вслух какую себе думу думает,
Что на струи свои наговаривает,
Замышляет чего да загадывает, –
Коль подслушать тайком, да и прочь отойти –
Тут с тобою беда и приключится:
Помутится твой разум, собьётся с пути,
Угодишь, знать, в трясину великую,
И живьём засосёт, и гнилою водой
Захлебнёт, а обратно не выпустит.
Потому к роднику и не всякий идёт.
А по мне так и лучше – пусть, думаю,
И не ходят, всё больше достанется!..
Прихожу, огляделся и – с богом! – косить!..
А кругом тишина да такая стоить,
Что не слушал бы ввек, да приходится…
Как в могиле какой! И коса – вжик да вжик! –
Точно смерть сама ею и водит-то…
Жутко стало. Хоть впору бросай да беги!
Пот прошиб! Рук не чувствую! Милые!!
А я ноги-т расставил, упёрся, как бык,
И навжвариваю, аж порыкиваю!..
Словом, чую, нашло помрачение,
Да такое, каких сроду не было:
Ум за разум зашёл! вродь как за спину,
Вродь как спрятался – стал и стоит.
А потом отбежал, влез на дерево
И как будто оттуда за мною следит,
И глядит, что, мол, буду я делать-то?..
Ну так вот… Только я поглядел, с высоты-т,
На себя – так и обмер со страху, чуть с веток-то,
Слава богу, на землю не грохнулся!..
Хочу кликнуть: Гляди, мол!.. – а голосу нет,
Как на зло, шишкой бросил – всё попусту.
Вижу, будет беда, а дать знать не могу
Ну никак, а слезть с дерева – боязно…
Так по веткам за тем косарём и иду –
Вроде белки скачу или соболя…
Сколько я так косил – долго ль, коротко ли –
Не скажу, хоть убей… Только вдруг всё прошло –
Как рукою сняло… Дело, вижу, уж к вечеру –
Знать, пора и домой, поворачиваюсь…
Мать честная! Осока-т! Не тронута!!
Как была по колено – так вся и стоит!
А не верить глазам – вроде вовсе нет проку-то…
Их, взяло меня зло!.. Коли так, – говорю, –
Выходя, растакой, силой мериться!
Уж как жвакну косой – так наскрозь пропорю!..
И тут слышу – кричит вроде девица…
Из болота гнилова!.. По ягоды, что ль,
Чёрт тебя угораздил-то, милую?!
Гниловодья кругом! Хошь не хошь, а изволь –
Выручай иди глупую голову!
Плюнул и – напрямик…
Слышу, стонет, зовёт
Где-то рядом уже… Или песню поёт?..
Раздвигаю кугу, вижу: голая!..
И в трясине по грудь – знать, вот-вот захлебнёт…
А вокруг всяка живность болотная,
Червь кишит, гады ползают темные…
Клещ с ладонь в леву грудь ей вцепился – сосёт,
А она – ни кровинки в лице! – ухватила его,
Отрывает от груди-то гадину,
Отрывает и стонет, как песню поёт…
Ну а мне показалось, что гладила...
Обмахнулся крестом!.. Как она закричит –
Увидала меня! – руки тянет! как спятила!..
У неё на груди, вижу, тоже висит –
Знать, крещёная – крестик-распятие…
А трясина уж ей-то под шею саму
Подступает… Подбёг, ухватил, потянул,
Ну и с божьей-то помощью выдернул –
Только чавкнуло!.. С ней на руках и бежать…
Гул по лесу пошёл ни с того ни с сего!..
Буря! Ломит деревья с корнями!
Тучи вспухли! Гром-молния под ноги бьёт –
И земля аж горит под ногами!..
Ливень хлещет!.. Так сразу до нитки промок –
Как в купель с головой погрузило:
Всю грязищу болотную смыло
И с меня и с неё! Благодать – да продрог!
А уж ей каково?! Глядь, какой-то чертог
Перед нами – в него, да споткнись о порог!..
А уж дальше – не помню, во сне, что ли, было…
Вроде вижу собор… И иконы висят…
Отправляется служба… Так всё честь по чести –
Только вместо людей всюду вроде как черти…
На иконах, гляжу, харя хари страшней
И рогатей… Поп, прочие служки церковные…
Рожи суровые, странные, речи греховные,
Словеса будто с дёгтем и сажей:
«Венчается раб божий на рабе вражьей,
Утоляется обоюдоострая жажда!..»
А я промок, продрог, а тут ещё и страшно –
Стою дрожу… Вдруг как плеснули пламенем!..
Согрелся сразу и пришёл в сознание…
Проснулся словно…
Утро. Дымка, чуть, тумана.
Щебечут птицы. Я же, как в берлоге,
Лежу в копёнке смётанной осоки…
А рядом – целый стог! И ни чертей, ни храма!
Знать, ночь проспал с устатку… Встал на ноги.
И на душе легко. Подумал: слава Богу!
Приснится ж погань! Пронесло, авось!..
И вдруг, как голос: «Сладко ли спалось?» –
Аж вздрогнул! – «С добрым утром, муж мой!»
А голос тот – всю жизнь его ждалось…
«Я напоила твоего коня!»
И вижу тут: спасённая моя
Добра коня ведёт!..
Стою… глазам не верить –
было пропущено
Что проку-то?!. Конь – добр. Да и она –
Жена, стал быть, – красавица жена!..
И вдруг как обухом: венчался-т, погоди…
Когда? где? кем?.. д’не без креста ж она?!
Так вроде нет – висит вон на груди…
Гляжу: а на кресте – распятый Сатана!..
Бесовка, значит!.. Ведьма!.. Окрутила!
Всего меня аж судорогой свило!
Но виду не подал… Подшёл – обнять,
Как будто бы… Сдавил что было силы!..
В охапку сгрёб и – прямиком к трясинам:
Откуда вытащил, там стал быть, утоплю!..
Она тут всё и поняла. Как закричала –
Аж жалко стало! – вырывается, царапает… Терплю!
Так и не отпустил, хоть, стерва, укусила
За руку до крови…
Раз! – головой в трясину!..
Держу и жму! Глаза закрыл и –
Глубже всё сую, чтоб скрылась целиком!..
И чую, руки мне – водой омыло…
Разжмурился – стою над родником,
И он мне – голосом её:
– В чём дело, милый?.. Милый?!,
Услышал я – так сердце и зашлось…
Ведь голос тот… Всю жизнь его ждалось…
А с того дня мне й вовсе жизнь постыла.
ДАКТИДИЛЛИЧЕСКИЙ СОНЕТ
Одно сознанье первозданной истинности –
И всё уступит самородку в драгоценности.
Он создан в чистоте случайной дерзостью,
Без всё и вся легирующих примесей.
Но неуютен мир и мне, и человечеству,
Как неуютен сей сонет дактидиллический
Из-за того, что бедн находкой редкостной,
Будь то алмаз иль чувство кристаллическое.
Родившийся заведомым старателем,
Покорный слову, как инстинкт, дремучему,
Ищу неведомые россыпи кристальные.
Но всё нейдут на ум волшебные созвучия,
Которые б сложил я в заклинание,
Подобное велению: «По-щучьенму...»