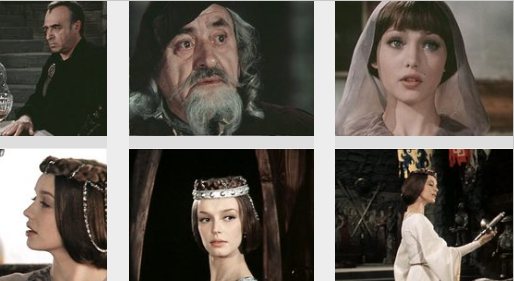–ü–æ—Å–ª–µ –ø–æ—Å—Ç–º–æ–¥–µ—Ä–Ω–∞
–ü–æ—Å–ª–µ –ø–æ—Å—Ç–º–æ–¥–µ—Ä–Ω–∞

–ê–ª—Ö–∏–º–∏–∫
–ü–æ–≥–æ–¥–∞, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥ –ù–æ–≤—ã–π –≥–æ–¥, –Ω–∏ –∫ —á—ë—Ä—Ç—É:
–¥–æ–∂–¥—å –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ —Å–Ω–µ–≥, –∞ —Å–ª—è–∫–æ—Ç—å –≤ —Å–∫–æ–ª—å–∑–æ—Ç—É.
–ù–æ —è –Ω–µ –ø–æ–¥–≤–æ–∂—É, –¥–æ–±–∞–≤–∏–≤ —Å–º–æ–≥ –≤ —Ä–µ—Ç–æ—Ä—Ç—É,
–∞–ª—Ö–∏–º–∏–∏ —Å–≤–æ–µ–π —Ñ–∏–Ω–∞–ª—å–Ω—É—é —á–µ—Ä—Ç—É.
–í –ø—É–ª—å—Å–∏—Ä—É—é—â–µ–π –º–≥–ª–µ –Ω–µ –ø–æ–∑–∞–±—ã–ª –ø—Ä–æ —Ü–µ–ª—å —è
–∏ —á—Ç–æ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç –µ—â—ë –Ω–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à—ë–Ω.
–Ø –Ω–∞ –¥–≤–æ–∏—Ö –¥–µ–ª—é –≥—É—Å—Ç–µ—é—â–µ–µ –∑–µ–ª—å–µ ‚àí
–∑–∞–º–µ—à–∞–Ω–Ω—ã–π —Å —É—Ç—Ä–∞ –º–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫—Ä—é—à–æ–Ω.
–û–Ω –≤ –º–µ—Ä—É –æ—Ö–ª–∞–∂–¥—ë–Ω, –Ω–æ –æ–±–∂–∏–≥–∞–µ—Ç –¥—É—à—É,
–∏ –≤ –º–µ—Ä—É —è–¥–æ–≤–∏—Ç, –Ω–æ –Ω–µ–∂–µ–Ω –∞—Ä–æ–º–∞—Ç.
–Ø –ª–æ–∂–∫–æ–π –≤ –Ω—ë–º –ª–æ–≤–ª—é —Ç–æ –∞–Ω–∞–Ω–∞—Å, —Ç–æ –≥—Ä—É—à—É,
—á—Ç–æ–±, –≤—ã–ø–∏–≤, –∑–∞–∫—É—Å–∏—Ç—å —Å–µ–π –Ω–µ—Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —è–¥.¬Ý
–ü—Ä–æ—à—É —Ç–µ–±—è, –¥–æ–ø–µ–π –±–æ–∫–∞–ª —Å–≤–æ–π, –Ω–µ —Ä–æ–±–µ—è,
без тоста – просто так, ведь мы давно свои, −
—á—Ç–æ–± —Ç—ã —Å–º–æ–≥–ª–∞ —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π, –∞ —è ‚àí —á—É—Ç—å-—á—É—Ç—å —Å–ª–∞–±–µ–µ,‚àí
–∏, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Å—Ä–∞–≤–Ω—è–ª–∏—Å—å –º—ã –≤ –ª—é–±–≤–∏.
–û—Ç—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω—ã ‚àí —Å–ª–µ–≥–∫–∞, –Ω–æ, –≤—ã—Ä–≤–∞–≤—à–∏—Å—å –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞,
мы выправить смогли наш перенедолёт…
–ú—ã –∂–∏–≤—ã, –º—ã –Ω–∞—à–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞ –≤–æ –≤—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π,¬Ý
–≥–¥–µ –º–æ–∫—Ä—ã–π —Å–Ω–µ–≥ –ø—É—Ä–∂–∏—Ç, –∏ –¥—Ä–∞–∑–Ω–∏—Ç –≥–æ–ª–æ–ª—ë–¥.
¬Ý
–î–µ—Ä–µ–≤—å—è
–ê –∏–º –∏ –Ω–µ—Ç –¥–æ –Ω–∞—Å —Å —Ç–æ–±–æ—é –¥–µ–ª–∞:
—É –ª–µ–¥—è–Ω–æ–π –∑–∞—Å–Ω–µ–∂–µ–Ω–Ω–æ–π —Ä–µ–∫–∏
–æ–Ω–∏ —Å—Ç–æ—è—Ç, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –∑–Ω–∞—Ç—å –Ω–∞–¥–µ–ª–∞,
–∏–∑ –Ω–∞—Ñ—Ç–∞–ª–∏–Ω–∞ –≤—ã–Ω—É–≤, –ø–∞—Ä–∏–∫–∏.
–ö–∞–∫ –ø—Ä–∏–∑—Ä–∞–∫–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∞—Å—Å–∞–º–±–ª–µ–∏,
–ø–æ –ø–∞—Ä–∞–º, —á—Ç–æ–± –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å –º–µ–Ω—É—ç—Ç,
–ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å, –∏ —Å–≤–∏—â–µ—Ç –≤–¥–æ–ª—å –∞–ª–ª–µ–∏
не ветер – флейта из забытых лет.
–ê –º—ã –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—á–∞–µ–º –≤—å—é–≥—É, ‚àí
–≤–æ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ —ç—Ç–æ–π –±–µ–ª–æ–π —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω—ã
—Å–ª–µ–¥–∏–º, –∫–∞–∫ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ –∫—Ä—É–≥—É
–∏–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∏–∑ –∏–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã,
–≥–¥–µ –æ–∂–∏–≤–∞—é—Ç —Å–Ω–µ–∂–Ω—ã–µ —à–ø–∞–ª–µ—Ä—ã,
–≤—Å–∫–∏–ø–∞–µ—Ç –∫—É—Ä—Ç—É–∞–∑–Ω–∞—è –ª—é–±–æ–≤—å,
–∏ —ç—Ç–∏ –¥–∞–º—ã, —ç—Ç–∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä—ã
–≤ —Å–≤–æ–π —Ç–∞–Ω–µ—Ü –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç –Ω–∞—Å —Å —Ç–æ–±–æ–π.
–ò –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —ç—Ç–∏–º —Ç–∞–Ω—Ü–µ–º —É—Å—Ç–∞—Ä–µ–≤, —è
осознаю: иначе дорога́
–º–Ω–µ –∂–∏–∑–Ω—å, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è,
–∏ –≤–µ—Ç–µ—Ä, –∏ –∫—Ä—É–∂–∞—â–∞—è –ø—É—Ä–≥–∞.¬Ý
¬Ý
–ü–µ—Ä—á–∞—Ç–∫–∞
–Ø –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –ø–µ—Ä—á–∞—Ç–∫—É, ‚àí —ç—Ç–æ–π —Å—Ç–∞—Ä–æ–π
–ø–µ—Ä—á–∞—Ç–∫–æ–π —è –Ω–µ —Ç–æ —á—Ç–æ–± –¥–æ—Ä–æ–∂–∏–ª,
–Ω–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–≤—ã–∫—Å—è –∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –¥—Ä—É–∂–∏–ª,
–∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –ø–µ—Ä—á–∞—Ç–∫–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–∞—Ä–æ–π.
–û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —É–¥–æ–±–Ω–æ–π —Ç—ë–ø–ª–æ–π —Ç–∞—Ä–æ–π,
–≤ –Ω–µ–π –≥—Ä—É–∑ —Ä—É–∫–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω –±—ã–ª –≤–ø–æ–ª–Ω–µ.
–ò —á—Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, —Å–∫–∞–∂–∏—Ç–µ, –¥–µ–ª–∞—Ç—å –º–Ω–µ
—Å –æ—Å—Ç–∞–≤—à–µ–π—Å—è, –Ω–µ–ø–∞—Ä–Ω–æ–π, —Ç–æ–∂–µ —Å—Ç–∞—Ä–æ–π?¬Ý
–ü–µ—Ä—á–∞—Ç–∫—É —è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å–±–µ—Ä–µ–≥—É,
–∫–∞–∫ –ø–∞–º—è—Ç—å –∏ —É–∫–æ—Ä: –Ω–µ –±—É–¥—å —Ä–∞–∑–∏–Ω–µ–π.
–ö—É–ø–ª—é –¥—Ä—É–≥—É—é –ø–∞—Ä—É –≤ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–µ.
–ê –≥–¥–µ-—Ç–æ –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–æ –Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥—É,
–µ—â—ë –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç—å –±–µ–¥—É,
–ø—Ä–æ–ø—É—â–µ–Ω–Ω–∞—è –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –æ–ø–µ—á–∞—Ç–∫–∞,
–ª–µ–∂–∏—Ç –º–æ—è –∑–∞–±—ã—Ç–∞—è –ø–µ—Ä—á–∞—Ç–∫–∞
–∏ –∂–¥—ë—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –∂–µ —è –µ—ë –Ω–∞–π–¥—É.¬Ý
¬Ý
–ö—Ä–µ—â–µ–Ω—Å–∫–æ–µ
–î–∞, —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–ª–∏ –≤ –≠–¥–µ–º—Å–∫–æ–º —Å–∞–¥—É,
–Ω–æ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –Ω–µ–º—ã—Ç–æ–µ —è–±–ª–æ–∫–æ —Å—ä–µ–ª–∏,
–∏—Ö –û—Å–æ–±–∞—è –¢—Ä–æ–π–∫–∞ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞ –∂–∏—Ç—å, –ø–æ —Å—É–¥—É,
–≤ –∫—Ä–∞–π, –≥–¥–µ –ø–∞–ª—å–º—ã —Ä–∞—Å—Ç—É—Ç –∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—é—Ç—Å—è –µ–ª–∏.
–ú–∏—Ä —Å—É—Ä–æ–≤—ã–π –æ—Ç–Ω—ã–Ω–µ –∏–º –±—ã–ª –≤ –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è—Ö –¥–∞–Ω,
–∏ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–ª–∏ –∫ —Å—É—Ä–æ–≤—ã–º —Å–≤–æ–∏–º –æ—â—É—â–µ–Ω—å—è–º.
–§—Ä—É–∫—Ç—ã –º—ã–ª–∏ –≤ –Ω–µ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º-—Ç–æ —á–∏—Å—Ç–æ–π —Ä–µ–∫–µ –ò–æ—Ä–¥–∞–Ω,
—Ç–∞–º –∂–µ —Å–∞–º–∏ –∫—É–ø–∞–ª–∏—Å—å, –æ–±—Ä—è–¥ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—è –ö—Ä–µ—â–µ–Ω—å–µ–º.
–ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –ò–æ–∞–Ω–Ω –∏—Å–∫—É–ø–∞–ª –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è –¢—Ä–æ–π–∫–∏ –≤ —Ä–µ–∫–µ,
—Å—Ä–∞–∑—É –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª–∏ –Ý–∞–π, –≥–¥–µ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Ä–µ–∑–≤–∏–ª–∏—Å—å, –∏–≥—Ä–∞—è,
–∏ —Ä–∞—Å–ø—è–ª–∏ –ï–≥–æ ‚Äì –≤ —Å—Ç—É–ø–Ω—è—Ö –≥–≤–æ–∑–¥–∏ –∏ –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π —Ä—É–∫–µ, ‚àí¬Ý
—á—Ç–æ–± –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –°–∞–º, –∫–∞–∫–æ–≤–∞ –æ–Ω–∞ ‚Äì —Å—Å—ã–ª–∫–∞ –∏–∑ –Ý–∞—è.
–ì–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, –û–Ω –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å –∏ –≤–æ–∑–Ω—ë—Å—Å—è –Ω–∞ –ù–µ–±–æ, –¥–∞—Ä—è
–≤—Å–µ–º, –≤–Ω–∏–∑—É –æ—Å—Ç–∞—é—â–∏–º—Å—è, –ø—Ä–∏–∑—Ä–∞—á–Ω—ã–π —à–∞–Ω—Å –Ω–∞ –ø—Ä–æ—â–µ–Ω—å–µ,
–µ—Å–ª–∏ –±—É–¥—É—Ç –ø–æ—Å–ª—É—à–Ω—ã –∑–∞–≤–µ—Ç–∞–º –û—Ç—Ü–∞ –∏ –¶–∞—Ä—è,
–æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–≤—à–µ–≥–æ, —á—Ç–æ –æ–±–Ω–∏—â–∞–Ω–∏–µ –µ—Å—Ç—å –æ—á–∏—â–µ–Ω—å–µ.
–ù—ã–Ω—á–µ —Å—á—ë—Ç—á–∏–∫ –æ—Ç–º–µ—Ä–∏—Ç, –∫–∞–∫ –ª—å—ë—Ç—Å—è –∏–∑ –∫—Ä–∞–Ω–∞ –≤–æ–¥–∞.
–ò, —Å–ª–µ–¥—è, —á—Ç–æ–±—ã —á–∏—Å—Ç—ã–º–∏ –±—ã–ª–∏ –µ–¥–∞ –∏ –ø–æ—Å—É–¥–∞,
–Ω–∏—â–∏–π –¥—É—Ö–æ–º –∏ —Ç–µ–ª–æ–º, —è —è–±–ª–æ–∫–∏ –º–æ—é –≤—Å–µ–≥–¥–∞
–∏ –Ω–µ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —Å–ø–µ—à—É —É–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –æ—Ç—Å—é–¥–∞.¬Ý
–ê –Ω–∞ –ë–ª–∏–∂–Ω–µ–º –í–æ—Å—Ç–æ–∫–µ –¥–æ–∂–¥–∏, –Ω–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –Ω–µ –ú–∞–≥–∞–¥–∞–Ω.
–•—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω–µ, –∞—Ä–∞–±—ã, –µ–≤—Ä–µ–∏ –Ω–µ –º–æ–≥—É—Ç —Ç–∞–º –≤ –º–∏—Ä–µ —É–∂–∏—Ç—å—Å—è.
–ò –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –ø–æ–¥–µ–ª—è—Ç –°–≤—è—Ç–æ–π —Ä—É—á–µ—ë–∫ –ò–æ—Ä–¥–∞–Ω,
–≥–¥–µ –∏–∑ —Å–æ–º–∏–∫–æ–≤ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≤–∫—É—Å–Ω–∞ –∏ –æ–±–∏–ª—å–Ω–∞ —É—à–∏—Ü–∞.
–ö–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π. –ü–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ —Ç–µ–∫—Å—Ç –º–æ–π –¥–∞–ª–µ–∫–æ –Ω–µ –∫–∞–Ω–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π. –≠—Ç–æ –≤–µ—Ä—Å–∏—è. –û–¥–Ω–∞–∫–æ —è –¥—É–º–∞—é, —á—Ç–æ –ë–æ–≥, –µ—Å–ª–∏ –û–Ω –µ—Å—Ç—å, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–æ–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç, –Ω–æ –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É–µ—Ç —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –≤–µ—Ä—Å–∏–∏. –û–Ω —Å–∞–º ‚àí —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –≤–µ—Ä—Å–∏–∏, –≤—Å–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–µ –∏ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã—Ö!
¬Ý
–í—Ä–µ–º—è —Å—É—Ä–∫–∞
–°—Ä—ã–≤–∞—é —Å —Ä–∞–π—Å–∫–æ–π –≤–µ—Ç–∫–∏ –∞–Ω–∞–Ω–∞—Å ‚àí
—Å–æ–∫ –ø–æ —É—Å–∞–º —Ç–µ—á—ë—Ç, –º–∏–Ω—É—è —Ä–æ—Ç.
–ù–æ –µ—Å—Ç—å –ª–∏ –¥–µ–ª–æ –ì–æ—Å–ø–æ–¥—É –¥–æ –Ω–∞—Å?
–ù–∞–¥–µ–µ–º—Å—è! –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç?
–ê –≤–¥—Ä—É–≥ –Ω–∏ –ë–æ–≥–∞ –Ω–µ—Ç, –Ω–∏ –¥–µ–ª–∞ –Ω–µ—Ç
–¥–æ –Ω–∞—à–∏—Ö –≤–∏—Ä—à–µ–π –≤ –º–∏—Ä–µ –Ω–∏–∫–æ–º—É?
–ù–∞—Å –∑–Ω–∞–µ—Ç –ª–∏—à—å –±–µ–∑–ª–∏–∫–∏–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç,
—Ö–æ—Ç—è –º—ã –±–µ–∑—Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã –∏ –µ–º—É.
–°—Ç–∏—Ö –Ω–µ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–Ω, —à—É—Ç–∫–∞ –Ω–µ —Å–º–µ—à–Ω–∞,
–∏—Ä–æ–Ω–∏—è –æ–±–∏–¥–Ω–∞, –∞ –º–∏–Ω–æ—Ä
–≤–≥–æ–Ω—è–µ—Ç –≤—Å–µ—Ö –≤ –¥–µ–ø—Ä–µ—Å—Å–∏—é, –æ–Ω–∞
—Å—É—Ä–∫–∞–º –º–µ—à–∞–µ—Ç –≤—ã–ª–µ–∑–∞—Ç—å –∏–∑ –Ω–æ—Ä.
–í–æ—Ä–æ–Ω–µ –ø–æ—Å–ª–∞–Ω –ø–ª–∞–≤–ª–µ–Ω—ã–π —Å—ã—Ä–æ–∫,
–ª–∏—Å–∏—Ü–µ –∂ –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∏ –∫—É—Å–∫–∞.
–ö–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥–µ–Ω—å —Å–∏–¥–∏—Ç –≤ –Ω–æ—Ä–µ —Å—É—Ä–æ–∫ ‚àí¬Ý
всё тот же день – ужасная тоска.
–ó–≤–µ—Ä—ë–∫ —Å–µ–π ‚àí –ø—Ä–µ–¥—Å–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å-–≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω, ‚àí
–Ω–æ –≤ –î–µ–Ω—å —Å—É—Ä–∫–∞ –Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç –Ω–∞–º –ø–æ–º–æ—á—å.
–≠–π, –≤—ã, –º–∏–Ω–æ—Ä–∏—Ç–∞—Ä–∏–∏ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω,
–ø–æ—Ä–∞–¥—É–π—Ç–µ—Å—å —Ö–æ—Ç—è –±—ã, —á—Ç–æ –Ω–µ –≤ –Ω–æ—á—å!¬Ý
–ú–Ω–µ –Ω–∞–¥–æ–µ–ª–∞ —ç—Ç–∞ –¥—Ä–µ–±–µ–¥–µ–Ω—å,
–Ω–æ –≤—Å—ë –∂–µ –ø–∞–ª–µ—Ü —É–±–µ—Ä—É —Å –∫—É—Ä–∫–∞:
–Ω—É, –¥–∞, —Ç–æ—Å–∫–∞, —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–π –°—É—Ä–∫–æ–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å, ‚àí
–Ω–æ –≤ —Ç—ã—â—É —Ä–∞–∑ —Ç–æ—Å–∫–ª–∏–≤–µ–π –ù–æ—á—å —Å—É—Ä–∫–∞!
¬Ý
–Ý–∏—Ñ–º–∞
–ú–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å —Ä–∏—Ñ–º–∞ –ª–∏—á–Ω–æ–π,
—Ö–æ—Ç—è –±—ã –¥–∞–∂–µ —Å—Ç–∞—Ä–æ–π –∏ –∑–∞—Ç—ë—Ä—Ç–æ–π,
–Ω–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ —Ç–≤–æ—ë–º —Å—Ç–∏—Ö–µ –Ω–µ –ª–∏—à–Ω–µ–π, ‚àí
–∏–Ω–∞—á–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –æ–±–æ–π—Ç–∏—Å—å –±–µ–∑ —Ä–∏—Ñ–º—ã.
Ну, да, без рифмы, а порой – без метра:
–µ–≥–æ –Ω–∞—Ä—É—à–∏–≤, —è —É—á—É—Å—å –¥—ã—Ö–∞–Ω—å—é
—Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–º—É —É ‚Äì —á—Ç–æ —Ç–∞–º –≤ —Ä–∏—Ñ–º—É? ‚Äì –≤–µ—Ç—Ä–∞¬Ý
или – без всякой рифмы – просто жизни.
–£ –∂–∏–∑–Ω–∏, —É –µ—ë –º–Ω–æ–≥–æ–≥–æ–ª–æ—Å—å—è,
—É –¥–µ—Ç–≤–æ—Ä—ã, –ª–∏–∫—É—é—â–µ–π –Ω–∞ –≥–æ—Ä–∫–µ,
—É—á—É—Å—å —Å–∫—Ä–∏–ø–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ —Å–∞–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–ª–æ–∑—å—è,
–∏–ª–∏ –≥–∞–ª–¥–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ –≤–æ—Ä–æ–±—å–∏ –∏ –≥–∞–ª–∫–∏.
–ù–æ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—è —Ä–∏—Ñ–º—É –Ω–∞ –ø–æ—Ä—É–∫–∏,
—è –Ω–µ –≥–æ—Ç–æ–≤ –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç—å –µ—ë –∑–∞–±–≤–µ–Ω—å—é:
—Å—Ç–∏—Ö–∏ –±–µ–∑ —Ä–∏—Ñ–º –∏ —Ä–∏—Ç–º–∞ –Ω–µ —É–ø—Ä—É–≥–∏
и рыхловаты – могут развалиться,
–∫–∞–∫ —Å–Ω–µ–∂–Ω—ã–µ —Ä–∞–∑–º–æ–∫—à–∏–µ –∫—É–ª—ë–º—ã.
–ê —è –ª–æ–ø–∞—Ç–∫–æ–π —Ä–∏—Ñ–º—ã –∏—Ö —Ç—Ä–∞–º–±—É—é
–∏ –≤–æ–∑–¥–≤–∏–≥–∞—é –ø—Ä–æ—á–Ω—ã–µ —Ö–æ—Ä–æ–º—ã, ‚àí
–Ω–æ —Ä–∏—Ñ–º—É –≤—ã–±–∏—Ä–∞—é –Ω–µ –ª—é–±—É—é.
–ù—É–∂–Ω–∞ –º–Ω–µ —Ä–∏—Ñ–º–∞ –ª–∏—á–Ω–∞—è, —Ä–æ–¥–Ω–∞—è,
—Ç–∞–∫–∞—è, —á—Ç–æ–± —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫–æ–º –≥–æ—Ä–µ–ª–∞
–≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ —Å—Ç—Ä–æ–∫–∏, –∫—Ä–∏—á–∞—â–∞—è: ¬´–û–¥–Ω–∞ —è!¬Ý
Возьми, я для тебя не устарела!»
¬Ý
***
–ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∑–∞—á–µ—Ö–ª–∏ –æ–∫—É–ª—è—Ä—ã –¶–µ–π—Å–∞:
то, что ты разглядел, – миражи и ложь, –
–∏ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤—å —Ä—É–∂—å—ë, –≤–æ –≤—Ä–∞–≥–∞ –Ω–µ —Ü–µ–ª—å—Å—è:¬Ý
–≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –≤ —Å–µ–±—è –ø–æ–ø–∞–¥—ë—à—å.
–°–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∏–∫ –≤—ã—Ä–µ–∂–∏ –∏–∑ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã
—Å –æ–ø–∏—Å–∞–Ω—å–µ–º –≥–∏–±–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–∏–∫–µ.
–ù–µ –∂–∞–ª–µ–π, —á—Ç–æ —Å–ª–æ–≤–∞ –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª –Ω–µ –≤—Å–µ —Ç—ã:
–≤—Å–µ—Ö, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ, –Ω–µ—Ç –≤ —è–∑—ã–∫–µ.
–ú—ã—Å–ª—å —à—É—Ä—à–∏—Ç –≤ –º–æ–∑–≥—É, –±—É–¥—Ç–æ –º—ã—à—å –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ,
–Ω–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç –∫—Ä–æ—à–µ–∫ —Å —Ç–≤–æ–µ–π —Ä—É–∫–∏.
–ê –ø–æ–Ω—è—Ç—å –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞ —É–∂–µ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏
вы смогли бы – так далеки.
–¢–∞–∫ —á—Ç–æ –±–æ–ª—å —É–π–º–∏ –∏ –Ω–∞—á–Ω–∏ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞,
–≤ –≤–æ–¥—É –±—Ä–æ—Å—å –∫–ª—é—á–∏, –∞ –Ω–µ –≥–æ—Ä—Å—Ç—å –º–æ–Ω–µ—Ç, ‚àí
—É–ø–ª—ã–≤–∞–π, –∑–∞–±—ã–≤ –¥–∞–∂–µ –≤–∏–¥ –ø—Ä–∏—á–∞–ª–∞,¬Ý
–∑–Ω–∞—è, —á—Ç–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω—å—è –Ω–µ—Ç.
¬Ý
–õ–æ–¥–∫–∞
Лодка моя – завиток на бумаге,
–º—É—à–∫–∞, –≤ —è–Ω—Ç–∞—Ä–Ω–æ–π –∑–∞—Å—Ç—ã–≤—à–∞—è –≤–ª–∞–≥–µ,
–∑–≤—É–∫ —É–≥–∞—Å–∞–Ω—å—è –≥–∏—Ç–∞—Ä–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä—É–Ω—ã,
—à—Ç–∏–ª—å –∏ –±–µ–∑–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–≤–∏—Å—à–∏–µ —Ñ–ª–∞–≥–∏
–ø–µ—Å–µ–Ω –º–æ–∏—Ö –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–≤—à–µ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã.
Лодка – моя предзакатная дымка,
—Å–º–∞–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Ä–æ—Å—á–µ—Ä–∫ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ–≥–æ —Å–Ω–∏–º–∫–∞,
—Å–ª–µ–¥ –±–µ–∑–Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–æ–π —Å–ª–µ–∑—ã –Ω–∞ —â–µ–∫–µ,
–≤ –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–∞–Ω—É–≤—à–∞—è –∞–Ω–æ–Ω–∏–º–∫–∞,
—Ä—ã–±–∫–∞, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–∞—è –Ω–∞ –∫—Ä—é—á–∫–µ.
–ë–µ—Ä–µ–≥ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–Ω, —Ä–∞—Å—á—ë—Ç –Ω–∞ –≤–µ–∑–µ–Ω—å–µ,
лодка – мой призрачный шанс на спасенье,
–Ω–∞–¥–æ –±—ã –≤—ã—á–µ—Ä–ø–∞—Ç—å –≤–æ–¥—É, —Ö–æ—Ç—è
–Ω–µ—á–µ–º –∏ –Ω–µ–∑–∞—á–µ–º, ‚àí –∂–¥—ë—Ç –ø–æ–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω—å—è
–º–æ—Ä–µ, –∫–∞—á–∞—è –º–µ–Ω—è, –∫–∞–∫ –¥–∏—Ç—è.
–¢–∏—Ö–æ, –∫–∞–∫ –≤ —Å–æ–Ω, –ø–æ–≥—Ä—É–∂–∞—é—Å—å –ø–æ–¥ –≤–æ–¥—É
–∏ –∏–∑–º–µ–Ω—è—é –¥—ã—Ö–∞–Ω—å—è –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É,
–ª–æ–¥–∫–∞ —É–∂–µ –Ω–∞–¥ –º–æ–µ–π –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π,
–ø–∞—Ä—É—Å, –≤–ø–∏—Ç–∞–≤—à–∏–π –≤–µ—á–µ—Ä–Ω—é—é —Å–æ–¥—É,
—Å–Ω–æ–º –Ω–∞ –≤–µ—Ä—ë–≤–∫–µ –≤–∏—Å–∏—Ç –±–µ–ª—å–µ–≤–æ–π.
¬Ý
***
–°—Ç–∏—Ö–∏ –∏ –∞—Å—Ç—Ä–æ–Ω–æ–º–∏—è ‚Äì¬Ý
–¥–≤–µ –±–µ–∑–¥–Ω—ã –∏ –æ–¥–Ω–∞,
–ø–æ –ö–∞–Ω—Ç—É, –∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–º–∏—è
–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ–≤–∞–ª –±–µ–∑ –¥–Ω–∞.¬Ý
–ù—ã—Ä—è—é –≤ —ç—Ç–∏ —Ö–ª—è–±–∏ —è
—Å –≥–æ—Ä—é—á–∏–º –Ω–∞ –Ω—É–ª–µ.
–°–µ–∫—Å—Ç–∞–Ω—Ç –∏ –∞—Å—Ç—Ä–æ–ª—è–±–∏—è
–æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ó–µ–º–ª–µ.
–ù–æ –æ–±–æ–≥–Ω—É–≤ –ø—Ä–µ–ø—è—Ç—Å—Ç–≤–∏—è,
–∫–∞–∫ –ß—ë—Ä–Ω—É—é –¥—ã—Ä—É,
–∏–≥—Ä–∞—é, —Ç—É–Ω–µ—è–¥—Å—Ç–≤—É—è,
—è –≤ –±—Ä–æ–¥—Å–∫—É—é –∏–≥—Ä—É.
–ë—Ä–µ–Ω—á–∞ –∑–∞–≤–µ—Ç–Ω–æ–π –ª–∏—Ä–æ—é,
–Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–∏–≤ –¥–≤–∞ —Å—Ç–µ–∫–ª–∞,
—è –±–µ–∑–¥–Ω—ã –Ω–∏–≤–µ–ª–∏—Ä—É—é,
—Å—à–∏–≤–∞—é, –∫–∞–∫ –∏–≥–ª–∞.
–û—Å–º–µ—è–Ω—É, –æ—Å–≤–∏—Å—Ç–∞–Ω—É,
–≤ —É—à–∏–±–∞—Ö –æ—Ç —Å–∏–Ω–∫–æ–ø,
—Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—é –∏—Å—Ç–∏–Ω—É
—Å–∫–≤–æ–∑—å —Ç–µ–ª–µ–º–∏–∫—Ä–æ—Å–∫–æ–ø.
–ú–Ω–µ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç —Ç—Ä–µ–Ω–∏—è ‚Äì¬Ý
—Å–∫–æ–ª—å–∂—É, –∫–∞–∫ –≤ –≥–æ–ª–æ–ª—ë–¥,
—Å –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏ –≥–æ—Ä–µ–Ω–∏—è
—Ä–∏—Ñ–º—É—è —Å–≤–æ–π –ø–æ–ª—ë—Ç.
–ù–æ —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –Ω–∏ –≤–µ—Å–∏–ª–∞
–≤—Å–µ–ª–µ–Ω—Å–∫–∞—è –∑–æ–ª–∞,
—Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–∏–≤–∞—é –≤–µ—Å–µ–ª–æ
две бездны – два крыла.
¬Ý
***
‚àí –ê —á—Ç–æ, –º–∏–ª–∞—è, —è–π—Ü–∞ –ø–æ 80 –∫–æ–ø–µ–µ–∫ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å?
‚àí –í—Å—ë –∏–º–µ–µ—Ç —Å–º—ã—Å–ª –∫–æ–Ω—á–∞—Ç—å—Å—è.
(–î–∏–∞–ª–æ–≥ —Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∏-–ø–æ–∫—É–ø–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã —Å –ø—Ä–æ–¥–∞–≤—â–∏—Ü–µ–π, –ø–æ–¥—Å–ª—É—à–∞–Ω–Ω—ã–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–º –Æ—Ä–∏–µ–º –Ý–æ—Å—Ç–æ–º –≤ —Å–µ–º–∏–¥–µ—Å—è—Ç—ã–µ –≥–æ–¥—ã XX –≤–µ–∫–∞)
–í—Å—ë –∏–º–µ–µ—Ç —Å–º—ã—Å–ª –∫–æ–Ω—á–∞—Ç—å—Å—è,
–∏—Å—á–µ–∑–∞—è, –∏—Å—Ç–æ–Ω—á–∞—Ç—å—Å—è.
–ù–µ –ø—ã—Ç–∞–π—Å—è –¥–æ—Å—Ç—É—á–∞—Ç—å—Å—è:
—Ç–∞–º, –∑–∞ –¥–≤–µ—Ä—å—é, –ø—É—Å—Ç–æ—Ç–∞, ‚àí
—á–∞–¥–∞ –Ω–µ—Ç –∏ –¥–æ–º–æ—á–∞–¥—Ü–∞,
–∏ –ª—é–±–∏–º–æ–≥–æ –∫–æ—Ç–∞.
–°–º—ã—Å–ª —Å–≥–æ—Ä–µ—Ç—å –∏–º–µ–µ—Ç —Å–ø–∏—á–∫–∞.
Страсть ушла – одна привычка.
–ö–∞–∫ –∂–µ –ø–µ–ª–∞ —ç—Ç–∞ –ø—Ç–∏—á–∫–∞ ‚àí
–≥–¥–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –µ—ë –∫–ª–∞—Ä–Ω–µ—Ç?¬Ý
–ë–æ—á–∫–∞ —Ç–∞–º –∂–µ, –≥–¥–µ –∑–∞—Ç—ã—á–∫–∞,
–∞ –∑–∞—Ç—ã—á–∫–∏ –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ—Ç.
–ü—Ä–∞–≤, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, –º—É–¥—Ä—ã–π —Å—Ç–æ–∏–∫,
—É–Ω–æ—Å—è –≤ –ø–æ–¥—Å–æ–±–∫—É —Å—Ç–æ–ª–∏–∫:
‚àí –í —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø–æ–≤–∞—Ä –Ω–µ –±—ã–ª –±–æ–µ–∫
–∏ –∏—Å—á–µ—Ä–ø–∞–Ω–æ –º–µ–Ω—é,
–≤–∏–∂—É —Å–º—ã—Å–ª, ‚àí –æ–Ω —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç, ‚àí¬Ý
–∏ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É –Ω–µ –≤–∏–Ω—é.
–î–≤–∞ –∫–æ–Ω—Ü–∞ —É –∫–æ—Ä–æ–º—ã—Å–ª–∞ ‚Äì¬Ý
–≤ —ç—Ç–æ–º –≤–¥–≤–æ–µ –±–æ–ª—å—à–µ —Å–º—ã—Å–ª–∞.
–ú–µ–∂–¥—É –¥–≤—É—Ö –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤ –ø–æ–≤–∏—Å–ª–∞
–±–ª–µ–¥–Ω–æ–π —Ä–∞–¥—É–≥–∏ –¥—É–≥–∞.
–û—Ç –¥–æ–∂–¥—è –∑–µ–º–ª—è —Ä–∞—Å–∫–∏—Å–ª–∞ ‚Äì¬Ý
–≤—è–∑–Ω–µ—Ç –≤ –ø–∞—Ç–æ–∫–µ –Ω–æ–≥–∞.
–ó–¥–µ—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è —Ä–∞–∑–ª—É–∫–∞,
–∑–¥–µ—Å—å, –≤–≥–ª—è–¥–µ–≤—à–∏—Å—å –±–ª–∏–∑–æ—Ä—É–∫–æ,
—Å–º—ã—Å–ª –Ω–∞–π—Ç–∏ —Å–º–æ–≥–ª–∞ –Ω–∞—É–∫–∞
слов «начало» и «конец».
–ü–æ–¥ –¥—É–≥–æ–π –≤–∏—Å–∏—Ç –±–µ–∑ –∑–≤—É–∫–∞
–æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∏–π –±—É–±–µ–Ω–µ—Ü.
–í —á—ë–º —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç? –û–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π:
—Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ –∫ –≤—ã—Ö–æ–¥—É –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, ‚àí
—Ç—ã –Ω–∞–π–¥—ë—à—å, –∫–∞–∫ –æ—Ç–±–ª–µ—Å–∫ —à–∞–ª—ã–π,¬Ý
—Å–º—ã—Å–ª –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –Ω–∞ –ª–∏—Ü–µ,
–µ—Å–ª–∏ —Å–º—ã—Å–ª, —Ö–æ—Ç—è –±—ã –º–∞–ª—ã–π,
–µ—Å—Ç—å –≤ –±–µ—Å—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –∫–æ–Ω—Ü–µ.¬Ý
¬Ý
–§–µ–≤—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–µ
–§–µ–≤—Ä–∞–ª—å –Ω–µ —Ö–æ–ª–æ–¥–µ–Ω, –Ω–æ —Ç—Ä—É–¥–µ–Ω ‚àí
–æ–Ω —Å–Ω–µ–≥ —Å –¥–æ–∂–¥—ë–º –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–Ω—ë—Å,
—Å–º–µ—à–∞–≤ –æ—Å–∞–¥–∫–∏ –≤ –≤—è–∑–∫–∏–π —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—å.
–ò —è –±—Ä–µ–¥—É, –≤–æ—Ä—á–∞ –ø–æ–¥ –Ω–æ—Å,
—á—Ç–æ –¥–µ–Ω—å –∏ –∫–æ—Ä–æ—Ç–æ–∫, –∏ —Å–∫—É–¥–µ–Ω,
–≤ –∏–∑–±—ã—Ç–∫–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ—Ä—ã–π —Å–≤–µ—Ç,
–∞ –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ –≤—è–∑–∫–∏–π —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—å,
–∏ —Å–ª—è–∫–æ—Ç—å –∑–∞–ª–∏–≤–∞–µ—Ç —Å–ª–µ–¥.
–í–µ—Å—å –∞–Ω—Ç—É—Ä–∞–∂ –∑–∏–º—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–¥–µ–Ω:
–º–æ—Ä–æ–∑–∞ –Ω–µ—Ç, –Ω–æ —è –ø—Ä–æ–¥—Ä–æ–≥
–æ—Ç —Å—ã—Ä–æ—Å—Ç–∏, ‚àí –ø–ª—é—Å –≤—è–∑–∫–∏–π —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—å,
–ø–ª—é—Å —Å–Ω–µ–≥ –∏ –∑—è–±–∫–∏–π –≤–µ—Ç–µ—Ä–æ–∫.
–Ø –ø–æ–≥—Ä—É–∂–∞—é—Å—å –≤ —ç—Ç–æ—Ç —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—å,¬Ý
–Ω–æ –º–Ω–µ –µ–≥–æ –Ω–µ —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∞—Ç—å,
–∏ –≤–µ—Ç–µ—Ä –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–∏—á–∞—Ç—å,
–∏ –∑–Ω–∞—é —è, —á—Ç–æ –±–µ–∑—Ä–∞—Å—Å—É–¥–µ–Ω
–∏ –¥–∞–∂–µ, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –ø–æ–¥—Å—É–¥–µ–Ω
–ø–ª–∞–Ω –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω—å—è –±–∏–æ–º–∞—Å—Å,¬Ý
–ø–æ—Ö–æ–∂–∏—Ö –Ω–∞ —Ä–∞—Å–∫–∏—Å—à–∏–π —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—å,
–≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —è –∏ —Å–∞–º —É–≤—è–∑.
–ü—É—Å—Ç—å —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –º–∏—Ä –Ω–µ–æ–±–∏—Ç–∞–µ–º.¬Ý
–Ø –∂–¥—É, —Ç–æ—Å–∫—É—è –æ —Ç–µ–ø–ª–µ,
–∫–æ–≥–¥–∞, –∫–∞–∫ —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—å, –º—ã —Ä–∞—Å—Ç–∞–µ–º,
–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –ª—É–∂–∏ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ.
–ò –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–∞ –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ—á–≤–∞,
–±–µ–∑ –Ω–∞—Å –ø–æ—Ä–æ—Å—à–∞—è —Ç—Ä–∞–≤–æ–π,
–≤–µ—Å–µ–Ω–Ω–∏–º –ª—É–∂–∏—Ü–∞–º, –∑–∞ —Ç–æ —á—Ç–æ
–º–∏—Ä –≤–Ω–æ–≤—å –∑–µ–ª—ë–Ω—ã–π –∏ –∂–∏–≤–æ–π.
¬Ý
***
Осколки разбитого вдребезги – те и
–¥—Ä—É–≥–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–µ –±—ã–ª–∏ —Ü–µ–ª—ã–º.
Их складывать – нет бесполезней затеи, −
–∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –ø–æ—Ä–∞ –± —É–∂–µ —Å—Ç–æ—è—â–∏–º –¥–µ–ª–æ–º.
–ö–æ–≥–¥–∞ –± –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–∏, –ø–æ–Ω—è—Ç—å –º—ã —Å–º–æ–≥–ª–∏ –±—ã,
—á—Ç–æ –≤—ã–¥–µ–ª–∫–∏ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω—ã –æ–≤—á–∏–Ω–∫–∏,
—á—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞—Å—Ç–∞–ª–æ —Ä–∞–∑–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞—Ç—å –≥–ª—ã–±—ã,
–∏ –º–µ–ª–∫–∏–µ –∫–∞–º–Ω–∏, –∏ –¥–∞–∂–µ –ø–µ—Å—á–∏–Ω–∫–∏.
–Ø –ø–∞–ª—å—Ü—ã –ø–æ—Ä–∞–Ω–∏–ª, –ø—ã—Ç–∞—è—Å—å —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –∏—Ö
–∏ —Å–∫–ª–µ–∏—Ç—å –∫–∞–∫–∏–º-–Ω–∏–±—É–¥—å —Å—É–ø–µ—Ä—Ü–µ–º–µ–Ω—Ç–æ–º.
–ù–æ –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–∏–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞ –≤ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–∏—Ö —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å—è—Ö
–æ—Å—Ç—ã–ª–∏ –∏ –∫–∞–∂—É—Ç—Å—è –∏–º —Ä—É–¥–∏–º–µ–Ω—Ç–æ–º.
–õ–µ–≥–∫–æ –ª—å —É—Ü–µ–ª–µ—Ç—å –ø–æ–¥ —Ç–∞–∫–∏–º –∫–∞–º–Ω–µ–ø–∞–¥–æ–º?
–ó–¥–µ—Å—å —Å–∞–º —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª—é—Å—å –±—É–¥—Ç–æ –∫–∞–º–Ω–∏ –∏ –ø—ã–ª—å —è.
–ù–æ —Ç—ã, –¥–æ—Ä–æ–≥–∞—è, –ø–æ–∫–∞ –µ—â—ë —Ä—è–¥–æ–º,
–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –º–æ–∏ –Ω–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω—ã —É—Å–∏–ª—å—è.
¬Ý
–§–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—è
–ù–∞ —Å–Ω–∏–º–∫–µ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª—ë–Ω–Ω–∞—è –º–∏—Å—Ç–µ—Ä–∏—è
—Å–µ–º—å–∏, ‚àí –≤–æ—Ç —Å–ª–µ–≤–∞ —è, –∞ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ —Ç—ã.
–ö–∞–∫ –∂–∞–ª—å, —á—Ç–æ —É –í—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–µ—Ç –∫—Ä–∏—Ç–µ—Ä–∏—è
–ª—é–±–≤–∏ –∫–∞–∫ –Ω–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–∞–≤–æ—Ç—ã.
–û–Ω–∞ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç –≥—Ä–∞–≤–∏—Ç–∞—Ü–∏–µ–π,
–∏ —Å–≤–µ—Ç–æ–º, –∏ –±–µ–∑–¥–æ–Ω–Ω–æ–π –≥–ª—É–±–∏–Ω–æ–π.
–ù–æ —á—Ç–æ–± –≤ —Å–µ–±–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è, –µ–π
–ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –æ–±–∑–∞–≤–µ—Å—Ç–∏—Å—å —Ç–æ–±–æ–π –∏ –º–Ω–æ–π.
–ó–∞ –Ω–∞—à—É –∂–∏–∑–Ω—å, –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫—É—é –∏ —Ç–ª–µ–Ω–Ω—É—é,
–ú–∏—Ä –≤ –Ω–∞—Å –∏ –Ω–∞–º–∏ –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –ø–æ—Å—Ç–∏–≥:
–º—ã –ª—é–±–∏–º –∏ –≤ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω—É—é –í—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω—É—é
–≤–¥—ã—Ö–∞–µ–º —Å–º—ã—Å–ª –∏ –¥—É—à—É ‚àí —Ö–æ—Ç—å –Ω–∞ –º–∏–≥.
¬Ý
–ü–æ—Å–ª–µ –ø–æ—Å—Ç–º–æ–¥–µ—Ä–Ω–∞
Сумбур – не вместо музыки, сама
–≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏—è –≤ –æ–±–ª–∏—á–∏–∏ —Å—É–º–±—É—Ä–∞ ‚àí
—Å–≤–æ–¥—è—â–∞—è —Å –±–µ–∑–∑–≤—É—á–Ω–æ–≥–æ —É–º–∞
–≤ —Å–µ–º—å –Ω–æ—Ç –∏ —Å–µ–º—å —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤ –∫–ª–∞–≤–∏–∞—Ç—É—Ä–∞.
–ü—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ –ø—Ä–æ—Ö—É–¥–∏–≤—à–∏–π—Å—è –º–µ—à–æ–∫:
–¥–æ–∂–¥—å –ª—å—ë—Ç –∏–∑ –¥—ã—Ä, –¥–æ–º —á—ë—Ä–µ–Ω –∏ —É—Ä–æ–¥–ª–∏–≤.
–ò –≥—Ä–æ–º, –∏ –≥–æ–ª—É–±–æ–π —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ—à–æ–∫,
–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∏–µ—Ä–æ–≥–ª–∏—Ñ.¬Ý
–ö–∞–∫–æ–π –Ω–µ–ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —ç–∫—Å—Ç–∞–∑!
–ö–∞–∫–∏–µ –ì–æ–π—è, –§–æ–ª–∫–Ω–µ—Ä –∏–ª–∏ –°–∫—Ä—è–±–∏–Ω!
–ì–∏–º–Ω —Å–∞–º–æ—Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω—å—è, –º–µ—Ç–∫–∏–π —Å–≥–ª–∞–∑,
–Ω–æ —Å–ª–µ–¥–æ–ø—ã—Ç —Ä–∞—Å—Ö—Ä–∏—Å—Ç–∞–Ω –∏ —Ä–∞—Å—Ö–ª—è–±–∞–Ω.
–ü–æ–¥ –º–µ—Ç—Ä–æ–Ω–æ–º –≤ –æ–∫–Ω–æ –ª–µ—Ç—è—â–∏—Ö –±—Ä—ã–∑–≥
–ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤—Ä–µ–º—è —Ç–æ—á–∫—É –Ω–µ–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∞
—Å–∫–≤–æ–∑—å —Å–∫—Ä–∏–ø –∏ —Å–∫—Ä–µ–∂–µ—Ç, —Å–∫–≤–æ–∑—å —Ä–∞–∑–±–∏—Ç—ã–π –≤–¥—Ä—ã–∑–≥
–º–∏—Ä –∑–≤—É–∫–æ–≤ –≤ —Ñ–æ—Ä–º–µ —á—ë—Ä–Ω–æ–≥–æ –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–∞.
–ò –ü–∏—Ñ–∞–≥–æ—Ä –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–Ω—ã—Ö —á—ë—Ä–Ω—ã—Ö –¥—ã—Ä
–Ω–µ –≤–∏–¥–∏—Ç, –≥–¥–µ –≥–æ—Ä–∏—Ç –µ–≥–æ –ª–∞–º–ø–∞–¥–∞.
–ù–∞—Ü–µ–ª–∏–≤—à–∏—Å—å –≤ –∑–µ–Ω–∏—Ç, –ª–µ—Ç–∏—Ç –≤ –Ω–∞–¥–∏—Ä
–±–µ–∑—É–º–Ω–∞—è –º–µ–ª–æ–¥–∏—è —Ä–∞—Å–ø–∞–¥–∞.
–°–æ –∑–≤–æ–Ω–æ–º –æ—Å—ã–ø–∞—é—Ç—Å—è –≤–µ–∫–∞,
–Ω–æ —Ä–∞–∑–ª–µ—Ç–µ–≤—à–∏—Å—å –∫–ª–æ—á—å—è–º–∏ —Ç—É–º–∞–Ω–∞,¬Ý
–≤–Ω–æ–≤—å –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞—é—Ç –∏–∑ —á–µ—Ä–Ω–æ–≤–∏–∫–∞
–∫–∞–∫–æ–≥–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ì—Ä–∏—à–∏ –ü–µ—Ä–µ–ª—å–º–∞–Ω–∞.
–ß—Ç–æ–± —Å—É–Ω—É–≤ —Ä—É–∫—É –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω,
–Ω–∞—â—É–ø–∞–ª —Ç–∞–º –∏–Ω—É—é –ø–∞—Ä—Ç–∏—Ç—É—Ä—É
–∏–Ω—ã—Ö –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏–π –Ω–æ–≤—ã–π –º–µ–ª–æ–º–∞–Ω,
–æ—Ç–¥–∞–≤—à–∏—Å—å —Å —É–ø–æ–µ–Ω–∏–µ–º —Å—É–º–±—É—Ä—É.
¬Ý
***
–Ø –±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω, —è –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —Ä–æ–¥–Ω—è
—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞–º ‚àí –ª–∏—à—å –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç, –ø—É—Å—Ç–∞—è —Ç–∞—Ä–∞
–¥–ª—è –∑–≤—É–∫–æ–≤, ‚àí —è –Ω–µ —Ç–æ —á—Ç–æ–± –∂–¥—É —É–¥–∞—Ä–∞,
–Ω–æ –æ—Ç–∑—ã–≤–∞—é—Å—å, –µ—Å–ª–∏ –±—å—é—Ç –≤ –º–µ–Ω—è!
¬Ý
–í–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ
–ò –≤—Å—ë –∂–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –ª—é–±–æ–≤—å ‚àí
–Ω–µ —Ç–∞–∫–∞—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–ª–∏—è–Ω—å–µ –¥—É—à,
–Ω–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–≤—à–∞—è —É—Å–º–∏—Ä—è—Ç—å
невыносимый глагол «хочу».
–õ–µ—Ç–Ω—è—è –Ω–æ—á—å –º–æ–ª–æ–¥—ã–º —Ç–µ–ª–∞–º
–ø–ª–æ—Ö–æ–π —Å–æ–≤–µ—Ç—á–∏–∫: —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω—å–µ —Å–ø–∏—Ç,
–∞ —Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∞ ‚àí –±—É–¥—Ç–æ –∏—Ö –∏ –Ω–µ—Ç,
–ø—Ä–∏—á—ë–º —É –æ–±–æ–∏—Ö; –æ–¥–Ω–∞–∫–æ –æ–Ω,
–≤–¥—ã—Ö–∞—è –∑–∞–ø–∞—Ö –µ—ë –≤–æ–ª–æ—Å,
–∫–∞—Å–∞—è—Å—å –≥—É–±–∞–º–∏ –ø—Ä–æ—Ö–ª–∞–¥–Ω—ã—Ö —â—ë–∫
–∏ –¥–∞–∂–µ –ª–∞—Å–∫–∞—è –ø–æ–¥ –±–ª—É–∑–∫–æ–π –≥—Ä—É–¥—å,
–¥–∞–ª—å—à–µ –∑–∞–π—Ç–∏ —Å–µ–±–µ –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª.
–ò –æ–Ω–∞, –∏ –æ–Ω –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ¬Ý
—Ä–æ–º–∞–Ω –∏—Ö, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –æ–±—Ä–µ—á—ë–Ω.
–ê –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –∑–Ω–∞–ª —ç—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω ‚àí
–≤–æ—Ç –∏ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π —à–∞–≥.
В их расставанье не было слёз –
лишь осознанье – пришла пора.
–í—Å—ë –∂–µ –æ–Ω–∞ –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª–∞, –∞ –æ–Ω
–ø–æ–º–Ω–∏—Ç –µ—ë –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä, —Ö–æ—Ç—è
–º–∏–Ω—É–ª–∞ –∂–∏–∑–Ω—å, –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –∏—é–ª—å
—Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–¥ –≤–µ—á–µ—Ä —à—É–º–∏—Ç –ª–∏—Å—Ç–≤–æ–π,
–±—É–¥—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å–ª—ã—à–∞–≤ –¥–∞–ª—ë–∫–∏–π —Å–º–µ—Ö,
–æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç —Å–µ–±–µ: –≤–æ—Ç –¥—É—Ä–∞–∫...
¬Ý
***
–ö–∞–∫ –∂–∞–ª—å, —á—Ç–æ –º—É–∑—ã–∫—É —Å–≤–µ—Ç–∏–ª,¬Ý
–∫—Ä—É–∂–∞—â–∏—Ö –ø–æ —Ö—Ä—É—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å—Ñ–µ—Ä–∞–º,
–Ω–∞–º, –≤–µ—Ä—è—â–∏–º –ª—é–±—ã–º —Ö–∏–º–µ—Ä–∞–º,
–Ω–∞—à –æ–ø—ã—Ç —Å–ª—ã—à–∞—Ç—å –∑–∞–ø—Ä–µ—Ç–∏–ª.
–¢–æ—á–Ω–µ–µ, –º—ã –µ—ë —Å —Å–æ–±–æ–π
–ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–º —Ñ–æ–Ω–æ–º –Ω—É–¥–Ω–æ —Ç—è–Ω–µ–º,
–Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞, –∫–∞–∫ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∏—Ç—è–Ω–µ
–Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞—Ç –≤–æ–ª–Ω –º–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–∏–±–æ–π.
–ü–æ—é—Ç, –Ω–æ –Ω–µ –º–µ—à–∞—é—Ç —Å–Ω–∞–º
—Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö –æ—Ä–±–∏—Ç–∞—Ö ‚àí
–Ω–∞ —è–∑—ã–∫–∞—Ö, –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–±—ã—Ç—ã—Ö,
–∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –≤–µ–¥–æ–º—ã—Ö –∏ –Ω–∞–º.¬Ý
–ö–æ–≥–¥–∞ –±—ã –≤–µ—á–Ω—ã–π —à—É–º —É–≥–∞—Å,
–º—ã –±, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —Ä–∞–∑–≥–∞–¥–∞–ª–∏,
—á—Ç–æ —Å —Ç—ã–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –º–µ–¥–∞–ª–∏
–≤—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–Ω–æ –æ—Ç –Ω–∞—Å.¬Ý
–ù–æ –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º –≤ –≤–æ–ª–Ω–µ
–Ω–∞–º –≤–∏–¥–∏—Ç—Å—è, –∞ –º–æ–∂–µ—Ç, —Å–Ω–∏—Ç—Å—è,
–∫–∞–∫ —Å—Ñ–µ—Ä —Ö—Ä—É—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–æ–ª–µ—Å–Ω–∏—Ü–∞
–ª–µ—Ç–∏—Ç –≤ –∑–≤–µ–Ω—è—â–µ–π —Ç–∏—à–∏–Ω–µ.
¬Ý
–î—Ä–µ–≤–Ω—è—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è
–ö–æ–≥–¥–∞ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª–∏ —Å—Ç–µ–Ω—ã, –∏ –≤ –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç—å –≤–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è –≤—Ä–∞–≥,
–≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º —Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–æ–ª–æ–º—ã –≤–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è –∑–≤–µ—Ä–∏–Ω—ã–π —Å—Ç—Ä–∞—Ö,
–∏ –ø–æ–≤–∏—Å –Ω–∞–¥ —Ä—É–∏–Ω–∞–º–∏ –¥–∏–∫–∏–π –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω—ã–π –≤–æ–π,
–∏ —É–º–µ—Ä—à–∏–º –∑–∞–≤–∏–¥–æ–≤–∞–ª —Ç–æ—Ç, –∫—Ç–æ –µ—â—ë –∂–∏–≤–æ–π.
–ê –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç—á–∏–∫–∏ –±–∏–ª–∏, –∫–æ–ª–æ–ª–∏, –≤—Å–ø–∞—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –∂–∏–≤–æ—Ç—ã,
—á—Ç–æ–± –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –≤—ã–∂–∏–ª, –Ω–∏–∫—Ç–æ —É—Ü–µ–ª–µ—Ç—å –Ω–µ —Å–º–æ–≥.
–ò –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –ø–æ–º—ã—Å–ª—ã –±—ã–ª–∏ —É –Ω–∏—Ö —á–∏—Å—Ç—ã ‚Äì¬Ý
–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ø–æ–≤–µ–ª–µ–ª –∏–∑ –∫—É—Å—Ç–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–≤—à–∏–π –±–æ–≥.
–ê –∫–æ–≥–¥–∞ —É—à–ª–∏ –æ–Ω–∏, —Ç—Ä—É–ø –≤–∑–≥—Ä–æ–º–æ–∑–¥–∏–≤ –Ω–∞ —Ç—Ä—É–ø,
–µ—â—ë –¥–æ–ª–≥–æ –ø–µ–ø–µ–ª –∫—Ä—É–∂–∏–ª–æ, –∫–∞–∫ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—É—é –ø—É—Ä–≥—É,
и летело эхо иерихонских труб…
–Ø –±, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, –≥–æ—Ä–¥–∏—Ç—å—Å—è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω, –Ω–æ –Ω–µ –º–æ–≥—É!
¬Ý
–•—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—å
–ó–∞—â–∏—Ç–Ω–∏–∫ –∏ —Å—É—Ä–æ–≤—ã–π –æ–±–≤–∏–Ω–∏—Ç–µ–ª—å,
–∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–æ—Ä –∏ –∑–∞–±–æ—Ç–ª–∏–≤—ã–π –°–æ–±–µ—Å,
–≤–∏—Ç–∞–µ—Ç –Ω–∞–¥–æ –º–Ω–æ—é –º–æ–π –•—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—å,
не знаю только – ангел или бес.
–ù–µ–≤–∏–¥–∏–º—ã–π, –ø–∞—Ä–∏—Ç –ø–æ–¥ –æ–±–ª–∞–∫–∞–º–∏,
–æ–¥–Ω–∞–∫–æ —ç–∫–∏–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω –≤–ø–æ–ª–Ω–µ.
Он – щедрое добро, но с кулаками,
и может врезать, в том числе – и мне.
–ö–ª—É–±—è—Ç—Å—è –æ–±–ª–∞–∫–∞, –∫–∞–∫ –∫—Ä–µ–º –∏–∑ —à–ø—Ä–∏—Ü–∞,
–Ω–æ —è –∫ –∑–µ–º–ª–µ –ø—Ä–∏–∫–æ–≤–∞–Ω, –∫–∞–∫ –∑—ç–∫–∞.
–ú–Ω–µ —Å –Ω–∏–º –±—ã –∫–∞–∫-–Ω–∏–±—É–¥—å –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è,
–≤–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ, –∂–∞–ª—å, –Ω–µ –∑–Ω–∞—é —è–∑—ã–∫–∞.
–Ø –Ω–µ –∏—â—É –∫–æ—Å–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≥—Ä–∞–Ω—Ç–∞.
–û—á–∏—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç –∑–≤—ë–∑–¥–Ω–æ–π —à–µ–ª—É—Ö–∏,
–Ω–∞–¥–µ—é—Å—å —è, —á—Ç–æ –Ω–∞—à–∏–º —ç—Å–ø–µ—Ä–∞–Ω—Ç–æ
–º–æ–≥–ª–∏ –±—ã —Å—Ç–∞—Ç—å –æ–±—ã—á–Ω—ã–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏.
–Ø –≤–µ—Ä—é, —á—Ç–æ –•—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—å –∑–∞–º–µ—á–∞–µ—Ç,
–∫–∞–∫ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –º–Ω–µ –¥–∞—ë—Ç—Å—è –∫–∞–∂–¥—ã–π —Å—Ç–∏—Ö.
–ù–æ —Å–∞–º –æ–Ω –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–µ—Ç,
–æ–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–∞–¥–∏–∫—Ç–æ–≤—ã–≤–∞–µ—Ç –∏—Ö.
¬Ý
–Ý–∞–π
¬Ý... –ª–æ–º –∫—É–±–∏—á–µ—Å–∫–∏–π, –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–π!
(–ò–∑ –Ω–∞–¥–ø–∏—Å–∏ –Ω–∞ –ø–ª–∞–∫–∞—Ç–µ —Å –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–æ–º —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å –º–µ—Ç–∞–ª–ª–æ–ª–æ–º)
–Ø –∏–∑—É—á–∞—é –∫—É–±–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ª–æ–º:
–∫–∞–∂–¥–∞—è –≥—Ä–∞–Ω—å —É –Ω–µ–≥–æ –æ—Å—Ç—Ä–∞,
–≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ —Ç—Ä–∏ —Ä–µ–±—Ä–∞,
—Å—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –≤—Å–µ –ø–æ–¥ –ø—Ä—è–º—ã–º —É–≥–ª–æ–º.
–≠—Ç–æ –±–µ—Å—Ö–æ–∑–Ω—ã–µ –¥—É—à–∏ ‚Äì –æ–Ω–∏¬Ý
–±—ã–ª–∏, –∫–∞–∫ —Ä–∞–¥—É–≥–∞, –≤ —Å–µ–º—å —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤,
–Ω–æ –ø—Ä–æ—Ä–∂–∞–≤–µ–ª–∏, –Ω–æ–≥–æ—é –ø–Ω–∏ ‚àí
–¥—ã—Ä–∫–∏ –ª–∞—Ç–∞—Ç—å –Ω–µ –Ω–∞–π–¥—ë—à—å –±–∏–Ω—Ç–æ–≤.
–ó–≤—É–∫ –æ—Ç –Ω–∏—Ö —Ç–æ–∂–µ –∫—É–±–∏—á–µ–Ω, –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏
–º–µ—á–µ—Ç—Å—è –æ–Ω –º–µ–∂ —à–µ—Ä—à–∞–≤—ã—Ö —Å—Ç–µ–Ω.
–ì—É–ª–∫–æ–≥–æ —ç—Ö–∞ –¥–≤–æ–π–Ω–æ–π —Ä–µ—Ñ—Ä–µ–Ω¬Ý
—Ö–æ—á–µ—Ç —É–º–Ω–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–º –±—ã—Ç—å –Ω–∞ —Ç—Ä–∏.
–≠—Ç–æ –ª–∏ —Ä–∞–π—Å–∫–∏–µ –∫—É—â–∏? –ù–∞–∑–∞–¥
–º–Ω–µ –±—ã –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å –∏–∑–æ–±–∏–ª—å–µ —Ñ–æ—Ä–º,
—á—Ç–æ–±—ã —Å –ó–µ–º–ª–∏ –∑–∞–ª–µ—Ç–µ–≤—à–∏–π —à—Ç–æ—Ä–º
—Å–¥–µ–ª–∞–ª –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–º –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–π —Å–∞–¥.
–û—Ö, –∫–∞–∫ —Ö—Ä—É—Å—Ç—è—Ç –Ω–∞ –∑—É–±–∞—Ö —Ö—Ä—è—â–∏, ‚àí
–∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–∞ –±–∏—Å –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç, –≤ –Ω–µ–π
вот икосаэдр* – но сложней
–¥—É—à—É, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, –∏ –Ω–µ –∏—â–∏!
–ß—Ç–æ –∂, –ø—Ä–∏–º–∏—Ä–∏—Å—å: —Ç—ã –ø—Ä–∏—à—ë–ª –¥–æ–º–æ–π.¬Ý
–ù–æ, –æ—Å–µ–Ω–∏–≤ —Å–µ–π —Ñ–æ—Ä–º–∞—Ç–Ω—ã–π –ª–æ–º,
–ê–Ω–≥–µ–ª –±–µ–∑–º–µ—Ä–Ω—ã–º –≤–∑–º–∞—Ö–Ω—ë—Ç –∫—Ä—ã–ª–æ–º,
–≤—ã–ø–ª–µ—Å–Ω—É–≤ –≤ —Ä–∞–¥—É–≥—É —Ü–≤–µ—Ç –≤–æ—Å—å–º–æ–π.
* –ò–∫–æ—Å–∞—ç–¥—Ä ‚Äì –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–π –≤—ã–ø—É–∫–ª—ã–π –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–≥—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫,¬Ý
–æ–¥–Ω–æ –∏–∑ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—ã—Ö –ü–ª–∞—Ç–æ–Ω–æ–≤—ã—Ö —Ç–µ–ª.
¬Ý
–ú–æ–ª–∏—Ç–≤–∞
–ì–æ—Å–ø–æ–¥–∏, –≤ —Å–≤–æ–π –¥–æ–º –Ω–µ –∑–æ–≤–∏,
—Ç—ã –≤–µ–¥—å —Å–∞–º –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—à—å –∫–æ –º–Ω–µ.
–ó–Ω–∞—é —è: —Ç—ã –∏–º—è –ª—é–±–≤–∏,
–∞ –Ω–µ —ç—Ç–∞ –≥—Ä—É–¥–∞ –∫–∞–º–Ω–µ–π.
–ß—Ç–æ –∏–∫–æ–Ω—ã? –°–º–æ—Ç—Ä—è—Ç –∏–∑ —Ä–∞–º
–≤ —Å–æ–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥—É—à–µ–Ω –∏ —Å–µ—Ä.
–ì–æ—Å–ø–æ–¥–∏, –∑–∞—á–µ–º —Ç–µ–±–µ —Ö—Ä–∞–º?
–ú–æ–∂–µ—Ç, –ª—É—á—à–µ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ —Å–∫–≤–µ—Ä?
–õ–µ—Ç–Ω–∏–π –≤–µ—á–µ—Ä —Ç–∏—Ö –∏ –∞–ª—å—Ç–æ–≤,
–≤–µ—Ä–∞ —Ç—Ä–∞–≤ –∏ –≤–µ—Ç—Ä–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞.
–ó–¥–µ—Å—å —è —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ª—É—à–∞—Ç—å –≥–æ—Ç–æ–≤,
—á—Ç–æ —Ç—ã —Å–∫–∞–∂–µ—à—å –º–Ω–µ –∏–∑ –∫—É—Å—Ç–∞.
¬Ý
Пишу о тебе…
…всё на виду, что было для двоих.
–ì–µ–Ω–Ω–∞–¥–∏–π –ñ—É–∫–æ–≤
–ü–∏—à—É –æ —Ç–µ–±–µ, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –ø–∏—à—É –æ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö.
–ü–∏—à—É –æ–± –æ–¥–µ—Ç—ã—Ö, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –ø–∏—à—É –æ –Ω–∞–≥–∏—Ö.
–ü–∏—à—É –æ –ª—é–±–≤–∏, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –ø—Ä–æ —á–µ—Ä–Ω—å –∏ –ø—Ä–æ –≤–ª–∞—Å—Ç—å.
–•–æ—á—É —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞—Ç—å, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–∞–∫ –æ—Å—Ç—É–¥–∏—Ç—å –º–æ—é —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç—å?
–ü—É—Å–∫–∞–π —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞—é—Ç —Ç–µ, –∫—Ç–æ —Ä–∞–∑–ª—é–±–∏–ª, –∫—Ç–æ —É–∂–µ
—Å —É—Å–º–µ—à–∫–æ–π —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ–π –Ω–∞ –Ω–∞—à–µ –≥–ª—è–¥–∏—Ç –Ω–µ–≥–ª–∏–∂–µ.
–Ø —Ä–∞–¥ —É—Ç–∞–∏—Ç—å –±—ã, –Ω–æ –Ω–µ—Ç, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Ç–∞—é
–∏ –Ω–∞—Å —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ—é –Ω–∞ —Å—É–¥ –∏–º –≤ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö –≤—ã–¥–∞—é.
–ü—É—Å—Ç—å –æ–º—É—Ç –Ω–∞—à —Ç–∏—Ö, –æ–Ω, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, –æ–ø–∞—Å–Ω–æ –≥–ª—É–±–æ–∫,
—Ö–æ—Ç—è –∏ –∑–∞—Ü–≤—ë–ª, –Ω–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ –ª—É–±–æ–∫.
–£–ø–ª—ã—Ç—å –±—ã –æ—Ç—Å—é–¥–∞, –¥–∞ —á–µ—Ä—Ç–∏ —É–∫—Ä–∞–ª–∏ –≤–µ—Å–ª–æ,
–∑–∞–≤–∏–¥—É—è –ª—é—Ç–æ, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º, –∞ –Ω–µ –∏–º, –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ.
¬Ý
–û—Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ
Спотыкачествуя часто, я твержу «MementoMori!»,
—Ç–µ–ª–æ –±—Ä–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ –±—Ä–µ–≥—É –≤—Å—ë –∂–µ –ø—Ä–æ–±—É—è –≤–ª–∞—á–∏—Ç—å.
–≠–≥–µ–≥–µ–π—Å–∫–æ–µ, —à–∞–ª—å–Ω–æ–µ, —Ä–∞—Å–ø–ª–µ—Å–∫–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –º–æ—Ä–µ
—Å—É–±—Ç—Ä–æ—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —è–∑–≤—ã –Ω–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ –∑–∞–ª–µ—á–∏—Ç—å.
–ù–æ–∂–∏–∫ —Ç—Ä–µ–±—É–µ–º —Ö–∏—Ä—É—Ä–≥—É –¥–ª—è –±–æ–ª–µ–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–π,
а на катере оркестрик так врезает «Янки Дудль»,
что не ясно – то ли сана-, то ли сразу крематорий,
–Ω–æ –¥—ã–º–∏—á–µ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç, –±—É–¥—Ç–æ –≠–π—è-–§—å—è—Ç–ª–∞-–±–ª–∏–Ω-–ô–æ–∫—É–¥–ª—å.
–≠—Ç–æ –≥–∞–ª–ª—é—Ü–∏–Ω–æ–≥–µ–Ω—ã, –º–∏—Ä–∞–∂–∞–º–∏ –ø—Ä–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞—è,
–Ω–∞ –±–µ—Å–ø–æ—á–≤–µ–Ω–Ω—É—é –ø–æ—á–≤—É –æ–ø–∏—Ä–∞—é—Ç—Å—è –µ–¥–≤–∞,
–Ω–æ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫—É–¥–∞ –≤–µ—Ä–Ω–µ–µ, –µ—Å–ª–∏ –ø–∞—Ä—Ç–∏—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞—è,
–Ω–∞ –¥–≤–∞ –ø–æ–ª—è —Å –±–µ–ª–æ–π –ø–µ—à–∫–∏, —Ä–∞–∑–º–µ—â—ë–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞ –ï2.
Попуррический оркестрик, знай, наяривает «Янки»,
–Ω–æ —Å–±–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏ —á–∞—Ö–Ω–µ—Ç, –∫–∞–∫ –º–æ—Ç–æ—Ä –Ω–µ–Ω–∞—Å—Ç–Ω—ã–º –¥–Ω—ë–º,
–∞ –∏–∑ –¥—ã–º–∞ –ø—Ä–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞—é—Ç –Ω–µ–Ω–∞–¥—ë–∂–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏–º–∞–Ω–∫–∏, ‚Äí
–Ω–µ—Ç —Å—Ç–∞—Ä—Ç—ë—Ä–∞ —É —Ç–∞–ø—ë—Ä–∞ ‚Äí –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –±–∏—Ç—å –∫–æ–Ω—ë–º.
¬Ý
***
–•–æ–∑—è–π–∫–∞, —Ä–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, —É—Å—Ç–∞–ª–∞,
–Ω–æ —Å –≥–æ—Å—Ç–µ–º –∑–∞—Å–∏–¥–µ–≤—à–∏–º—Å—è –º–∏–ª–∞,
–∞, –º–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, —Ç–∞—Ä–µ–ª–∫–∏ –∏ –±–æ–∫–∞–ª—ã
—Ç–∏—Ö–æ–Ω—å–∫–æ —É–±–∏—Ä–∞–µ—Ç —Å–æ —Å—Ç–æ–ª–∞.
–ú–µ–ª–æ–¥–∏—è –º–µ–¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –≤–∞–ª—å—Å–∞
–∑–≤—É—á–∞—Ç—å –º–æ–≥–ª–∞ –± –¥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ —É—Ç—Ä–∞.
–ù–æ –æ–Ω –Ω–µ –∂–¥—ë—Ç, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∂—É—Ç: ‚Äí –û—Å—Ç–∞–≤–∞–π—Å—è! ‚Äí
–∏, –≤ –æ–±—â–µ–º, –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –ø–æ—Ä–∞.
–û–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: ‚Äí –ú—ã —Ç–µ –∂–µ, –∏ –Ω–µ —Ç–µ –º—ã,
–≤—Å—ë –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –∫–∞–∫-—Ç–æ –Ω–∞–ø–µ—Ä–µ–∫–æ—Å—è–∫...
–ù–æ –Ω–µ –Ω–∞–π–¥—è –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫–∏ —ç—Ç–æ–π —Ç–µ–º—ã,
–æ—Å–æ–∑–Ω–∞—ë—Ç, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –∏—Å—Å—è–∫.
–ê –≤—Å–µ –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –º–µ–ª–∫–∏,¬Ý
–∞ —Å —ç—Ç–∏–º ‚Äí —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥—É—à—É –±–µ—Ä–µ–¥–∏—Ç—å...
–û–Ω –ø–æ–º–æ–≥–∞–µ—Ç —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å —Ç–∞—Ä–µ–ª–∫–∏,
–º–æ–ª—á–∏—Ç ‚Äí –∏ –≤—Å—ë –Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å.
¬Ý
***
–ê –∂–∏–∑–Ω—å –∫–∞–∫ –≤–µ—â—å, —á—Ç–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –∫–ª–µ–≤–µ—â–µ—Ç, ‚Äì¬Ý
–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏—Ç, –∏ –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –º–∞–ª–∞.
–ù–æ —è —É—Å–ø–µ–ª –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–Ω—É—Ç—å –∫ —ç—Ç–æ–π –≤–µ—â–∏:
чем – не пойму, но мне она мила.
–ü—É—Å—Ç—å —Ä–æ–∂–∏ –∫–æ—Ä—á–∏—Ç –∏ –≥–ª–∞–∑–∞ —Ç–∞—Ä–∞—â–∏—Ç,
—Å—Ç–∏—à–∫–æ–≤ –º–æ–∏—Ö –¥–æ–ª–∏—Å—Ç—ã–≤–∞—è —Ç–æ–º,
–µ—ë –Ω–µ —É–±–∏—Ä–∞—é –≤ –¥–æ–ª–≥–∏–π —è—â–∏–∫:
—Å–≥–æ–¥–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ —Å–µ–π—á–∞—Å –∏ –Ω–∞ –ø–æ—Ç–æ–º.
–° —É—Ç—Ä–∞ –±–∞—à–∫–∞ —Ç—Ä–µ—â–∏—Ç –∏ —Å–ø–∏–Ω—É –ª–æ–º–∏—Ç,
–Ω–æ, –ø–æ–¥–æ–≥–Ω–∞–≤ –Ω–µ—Ä–æ–≤–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ–∂–∫–∏,¬Ý
—è –∂–∏–∑–Ω—å –ª–∞—Ç–∞—é –∏ –≤ —Å–≤–æ–π —Å—Ç–∞—Ä—ã–π —Ç–æ–º–∏–∫
–¥–æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞—é –Ω–æ–≤—ã–µ —Å—Ç–∏—à–∫–∏.
¬Ý
–ö—Ç–æ —è?
–ö—Ç–æ —è? –°–ª–µ–ø–Ω—É—â–∏–π —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫,
–≥–ª—É—Ö–æ–≤–∞—Ç—ã–π –º—É–∑—ã–∫–∞–Ω—Ç,
–±–µ–∑–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–π –ø–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–∏–∫,
–±–µ—Å—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã–π —Ñ–æ–ª–∏–∞–Ω—Ç.
–° –º–∏—Ä–æ–º —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ –æ—â—É–ø—å,
–Ω–æ –ø–æ—á—Ç–∏ –∑–∞–±—ã–≤—à–∏–π –≤–∫—É—Å,
—è –∫–∞–∫ –∫—É—Ä, –ø–æ–ø–∞–≤—à–∏–π –≤ –æ—â–∏–ø,
–∫–∞–∫ –æ—Å–∏–ø—à–∏–π —Ä–∏–º—Å–∫–∏–π –≥—É—Å—å.
–°–≤—è–∑—å —Å —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Ç–µ—Ä—è—è,
–≤–µ—â—å –≤ —Å–µ–±–µ –∏ –Ω–µ –≤ —Å–µ–±–µ,
–ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞—é –≤—Ç–∏—Ö–∞—Ä—è —è
–∫–∞–ø–ª–µ–π –≤ –≤—ã—Å–æ—Ö—à–µ–π —Ç—Ä—É–±–µ.
–ú–æ–π —É–∑–æ—Ä –±–µ–∑ –Ω–∏—Ç–æ–∫ –≤—ã—à–∏—Ç,
—Ñ—É–≥–∞ —Å—ã–≥—Ä–∞–Ω–∞ –±–µ–∑ –Ω–æ—Ç.¬Ý
–ó–¥–µ—Å—å –Ω–∏–∫—Ç–æ –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∏—Ç,
а услышит – не поймёт.
–ò –Ω–∏ —Ä–æ–∂–∏, –∏ –Ω–∏ –∫–æ–∂–∏,
полустёршийся пятак…
–°—É–Ω—å –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω –º–µ–Ω—è, –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–∏–π, ‚àí
—è –æ –∫–ª—é—á –∑–≤–µ–Ω–µ—Ç—å –º–∞—Å—Ç–∞–∫.