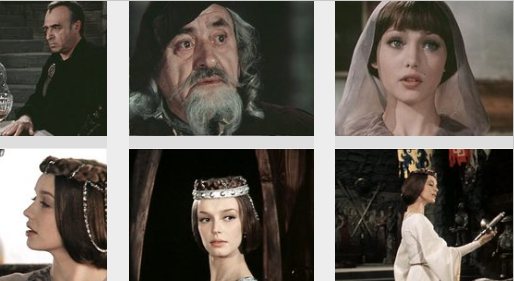–ñ–∏–ª–∞-–±—ã–ª–∞ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞...
–ñ–∏–ª–∞-–±—ã–ª–∞ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞...

***
–ù–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –∑–∞—É—á–µ–Ω–Ω–æ–π —Ü–∏—Ç–∞—Ç—ã.
–ù–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –ø—Ä–∏–ø—Ä—è—Ç–∞–Ω–Ω–æ–π –º–∏–Ω—É—Ç—ã.
–ü—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—é—Å—å –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É. –ö–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ
–∑–¥–µ—Å—å —Ü–≤–µ–ª–∞ –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–∏—Ü–∞-—Ü–∏–∫—É—Ç–∞.
Прилетал бродяга – дикий ветер,
всё шептал про волю да свободу…
–í–∑–¥—Ä–∞–≥–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–ø—è—â–∏–µ —Å–æ—Ü–≤–µ—Ç–∏—è,
–ø–∞–¥–∞–ª–∏ –≤ –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤—É—é –≤–æ–¥—É.
–ò –≤–æ–¥–∞, —Ç–µ–º–Ω–µ—è, —Ç—è–∂–µ–ª–µ–ª–∞,
–∏ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω—å—è —Å–ø–æ—Ä–∏–ª–∏ —Å –≤–µ–∫–∞–º–∏.
–õ–µ–ø–µ—Å—Ç–∫–∞–º–∏ –∏–∑ —Å–æ—Ü–≤–µ—Ç–∏–π –±–µ–ª—ã—Ö
–±–µ–∑–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≤—Ä–µ–º—è —É—Ç–µ–∫–∞–ª–æ.
–ó–∞–ø–µ—á–∞—Ç–∞–≤ –≤—Å–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –∫ –¥–æ–º—É
–∏ –¥—É—Ä–º–∞–Ω–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –æ–∫—É—Ç–∞–≤,
–æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞ –∂–∏–∑–Ω—å –≤ —Ç–∏—Ö–∏–π –æ–º—É—Ç
–≥–æ—Ä—å–∫–∞—è –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–∏—Ü–∞-—Ü–∏–∫—É—Ç–∞.
–ó–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –¥–æ–Ω–Ω—ã–µ –≥–ª—É–±–∏–Ω—ã,
–æ–±–µ—â–∞–ª–∏ –≤–µ—á–Ω–æ–µ –∑–∞–±–≤–µ–Ω–∏–µ
–≤—Å–µ—Ö, –∫–æ–≥–æ –ø–æ–∫–∞ –µ—â—ë –ª—é–±–∏–ª–∞,
–≤—Å–µ—Ö, –∫–æ–≥–æ –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –∂–∞–ª–µ–ª–∞.
–ß—Ç–æ–± –∏—Å–ø–∏–≤ —Ç—è–∂—ë–ª–æ–π —Ç—ë–º–Ω–æ–π –≤–ª–∞–≥–∏,
—Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—â–∞–≤—à–∏—Å—å –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º —Å –æ–±–ª–∞–∫–∞–º–∏,
–ø–ª—ã—Ç—å —Å—Ç—Ä–æ–∫–æ–π,
–æ–±—Ä—ã–≤–∫–æ–º –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π —Å–∞–≥–∏ ‚Äì¬Ý
по теченью – вслед за лепестками.
¬Ý
***
–Ø –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä—é –≤ —Ç–æ,
—á—Ç–æ —Å—é–¥–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É—Å—å –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ;
у окна – в цвету густом,
–Ω–∞–¥ —Å–∏—Ä–µ–Ω–µ–≤—ã–º –∫—É—Å—Ç–æ–º
–¥—Ä–µ–º–ª–µ—Ç –ª–∏–ø–∞ –≤ –¥–≤–∞ –æ–±—Ö–≤–∞—Ç–∞.
–ß—å—è-—Ç–æ –ø–∞–º—è—Ç—å –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∞,
–∞ –º–æ—è –¥–ª–∏–Ω–Ω–∞, –∏ —Å—É—à–∏—Ç
–Ω–µ–∏–∑–±—ã–≤–Ω–∞—è —Ç–æ—Å–∫–∞
–Ω–µ–ø—Ä–∏–∫–∞—è–Ω–Ω—É—é –¥—É—à—É.
–¢–∞–∫, –±—ã–≤–∞–µ—Ç, –≤ –ø–ª–µ–Ω –≤–æ–∑—å–º—ë—Ç,
—Ç–∞–∫ –Ω–∞–∫–∞—Ç–∏—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º–∏,
—Å–ª–∞–¥–æ–∫ —ç—Ç–æ—Ç —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –º—ë–¥,
–≥–æ—Ä—å–∫–∏–π –º—ë–¥ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π.
–¢–µ—à–∏—Ç —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–Ω—É—é –≥—Ä—É—Å—Ç—å¬Ý
–º–∞—è—á–æ–∫ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –∑—ã–±–∫–æ–π,
–º–æ–∂–µ—Ç, –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏, –≤–µ—Ä–Ω—É—Å—å?
Есть же право на ошибку…
–Ø –∏–∑–≤–µ—Ä–∏–ª–∞—Å—å –¥–∞–≤–Ω–æ,
–ø—Ä—è–∂—É –≤—ã–ø—Ä—è–ª–∞ –∏–∑ –≥—Ä—É—Å—Ç–∏,¬Ý
–¥–æ –∑–µ–º–ª–∏ –≤–µ—Ä–µ—Ç–µ–Ω–æ
–ø–∞–º—è—Ç—å-–ø—Ä—è—Å–ª–∏—Ü–µ –æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç.
–ù–∏—Ç—å —Ç–æ–Ω–∫–∞ –∏ –Ω–µ—Ä–æ–≤–Ω–∞ ‚Äì¬Ý
да крепка – другие рвутся,
—ç—Ç–∞ –Ω–∏—Ç–æ—á–∫–∞ –æ–¥–Ω–∞
–∏ –ø–æ–º–æ–∂–µ—Ç –º–Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è.
–û–±–º–µ–ª–µ–≤—à–µ—é —Ä–µ–∫–æ–π
—Å —á–µ—Ä–µ–¥–æ–π –∑–∞—Ä–æ—Å—à–∏–º —Ä—É—Å–ª–æ–º,
трактом иль тропинкой узкой…
–°—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ—é —Å—Ç—Ä–æ–∫–æ–π
–∏–ª—å –∫–∞–ª–∏–∫–æ—é —Å –∫–ª—é–∫–æ–π
—Å –∏–º–µ–Ω–µ–º –∏—Å–∫–æ–Ω–Ω–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º.
…где река неглубока,
где высок желанный берег…
–Ø –Ω–µ –≤–µ—Ä—é.
…здесь пока
–º–Ω–µ –µ—â—ë —Ö–æ—Ç—å –∫—Ç–æ-—Ç–æ –≤–µ—Ä–∏—Ç.
¬Ý
***
–î–≤–µ—Ä–∏ –Ω–∞—Å—Ç–µ–∂—å.
–í–µ—â–∏ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω—ã,
–∏ –¥–æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∞ —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥—å.
–í—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–π –º–µ–Ω—è –ø–æ-–¥–æ–±—Ä–æ–º—É,
–µ—Å–ª–∏ –±—É–¥–µ—à—å –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å.
–ù–µ –∑–∞–ª—ë—Ç–Ω—ã–º –ø—Ä–∏–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º ‚Äì¬Ý
–ª–µ—Ç–æ–º –∫–∞–∂–¥—ã–π —Å–º–µ–ª –∏ —é–Ω,¬Ý
—Å—É–º–∞—Å—à–µ–¥—à—É—é,
–Ω–∏—á–µ–π–Ω—É—é,
непутёвую – твою.
–í–æ—Ä–æ–∂–µ–π–∫—É —Å–∏–Ω–µ–∫—Ä—ã–ª—É—é
–Ω–µ –∫–ª—è–Ω–∏ –∏ –Ω–µ —Ç–µ—Ä—è–π,
—Ç–∞–π–Ω—É, —á—Ç–æ —Ç–µ–±–µ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞ —è,
–Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –¥–æ–≤–µ—Ä—è–π.
–¢—ã –∑–∞–±—É–¥–µ—à—å ‚Äì¬Ý
–º–Ω–µ –ø—Ä–∏–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è
—Ç–∏—Ö–∏–π —Å–≤–µ—Ç –Ω–µ—è—Ä–∫–∏—Ö –∑–≤—ë–∑–¥,
—É –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –∑–∞ –æ–∫–æ–ª–∏—Ü–µ–π
–Ω–∞ —Å–µ–º–∏ –≤–µ—Ç—Ä–∞—Ö –ø–æ–≥–æ—Å—Ç.
–°–ª–æ–≤–Ω–æ –ø–µ–ø–ª–æ–º –ø—Ä–∏–ø–æ—Ä–æ—à–µ–Ω—ã
–ø—Ä–∏–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–µ –∫—É—Å—Ç—ã,
—Ç–∞–º, —Å—Ä–µ–¥–∏ –º–æ–≥–∏–ª –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö,
–Ω–∏ —Ç—â–µ—Ç—ã, –Ω–∏ —Å—É–µ—Ç—ã.
–•–æ–ª–æ–¥–æ–∫ –ø–æ –∫—Ä–∞—é –∫–∞—Ç–∏—Ç—Å—è,
—Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è—è –Ω–∞–≤—å –∏ —è–≤—å,
–¥–µ–≤–æ—á–∫–∞ –≤ —Ü–≤–µ—Ç–∞—Å—Ç–æ–º –ø–ª–∞—Ç—å–∏—Ü–µ
машет мне рукою…
—è,
–Ω–µ –±–æ—è—Å—å –ø—Ä–æ—Å–ª—ã—Ç—å —é—Ä–æ–¥–∏–≤–æ–π,
–±–æ—Å–∏–∫–æ–º –∏–¥—É –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç.
Есть такое чувство – родина,
даже если места нет…
¬Ý
***
–ñ–∏–ª–∞-–±—ã–ª–∞ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞ –≤ –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–≤—Å—Ç–≤–µ,
где всё начинается с «жили-были»,
–æ—Ç —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–π –¥–æ —Ä–∞–≤–Ω–æ–¥–µ–Ω—Å—Ç–≤–∏–π,
–æ—Ç –ø–µ—Ä–≤–æ–π –ø—ã–ª—å—Ü—ã –∏ –¥–æ –∫–Ω–∏–∂–Ω–æ–π –ø—ã–ª–∏.
–¢–∏—Ö–æ–Ω—è, –∑–∞—Ç–≤–æ—Ä–Ω–∏—Ü–∞, –∞–Ω–≥–µ–ª–∏—Ü–∞ ‚Äì¬Ý
–Ω–∏ —Å–ª–æ–≤–∞,
ни взгляда – ни-ни – сверх меры,
—á–∏—Ç–∞–ª–∞ –ª—é–¥–µ–π –ø–æ –≥–ª–∞–∑–∞–º –∏ –ª–∏—Ü–∞–º,
—Ä–∞—Å—Ç–∏–ª–∞ —Å–ª–æ–≤–∞ –∏ –º–µ—á—Ç—ã-—Ö–∏–º–µ—Ä—ã.
–ù–µ –ø–æ–º–Ω—é, –±—ã–ª–∞ –ª–∏ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–ª–µ–∂–Ω–∞.
–ù–µ –∑–Ω–∞—é, –±—ã–ª–∞ –ª–∏ –æ–Ω–∞ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–∞.
–ù–æ—Å–∏–ª–∞ –≤–æ –≤–∑–≥–ª—è–¥–µ –¥–µ–∫–∞–±—Ä—å —Å–Ω–µ–∂–Ω—ã–π
–∏ —Ç—ë–ø–ª—É—é –æ—Å–µ–Ω—å –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –Ω–æ—Å–∏–ª–∞.
Жила-была девочка – свет неяркий,
–Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–∏–π –≥–æ–ª–æ—Å
–∏ —à–∞–≥ —á—É—Ç—å —Å–ª—ã—à–Ω—ã–π.
‚Äì –ß—É–∂–∞—è, ‚Äì –≤–∑–¥—ã—Ö–∞–ª–∏ —Å—Ç–∞—Ä—É—Ö–∏-–ø–∞—Ä–∫–∏,¬Ý
– такой, что ни выпряди – перепишет
и перекроит, и все швы – в изнанку,
и будет просить о дожде и снеге…
–∏ —á—ë–º-—Ç–æ –ø–æ—Ö–æ–∂–∞ –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Ç–∞–º–∞–Ω–∫—É ‚Äì¬Ý
всё те же глупые сказки и… регги.
–°–µ—Å—Ç—Ä–∏—Ü–∞-–î–æ–ª—è –≤—ã–ø—Ä—è–ª–∞ –ª–µ—Ç–æ,
—Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç—ã –∏ –º–æ—Ä–µ,¬Ý
–¥–æ–∂–¥–∏ –∏ –∑–≤—ë–∑–¥—ã,
–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ –æ—Å–µ–Ω–∏ —Å–Ω–∏–ª–∏—Å—å –≥–¥–µ-—Ç–æ
–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–æ–º–∞ –∏ –≥–Ω—ë–∑–¥–∞ ‚Äì¬Ý
–≤ –¥–∞–ª—ë–∫–æ–º –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–≤—Å—Ç–≤–µ ‚Äì¬Ý
–≤—Å–µ —Ç—Ä–∞–≤—ã –µ–π –∞–Ω–≥–µ–ª–∞–º–∏ –∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å,
–∫–æ–≥–¥–∞ –∫ –±–µ–ª–æ–∫—É—Ä–æ–π –º–∞–∫—É—à–∫–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–π
–ª–µ–≥–æ–Ω—å–∫–æ –¥–ª–∞–Ω—è–º–∏ –ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞–ª–∏—Å—å.
–û—Ç —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–π –¥–æ —Ä–∞–≤–Ω–æ–¥–µ–Ω—Å—Ç–≤–∏–π¬Ý
–ø–æ –∫—Ä—É–≥—É –±—Ä–æ–∂—É –∏ –±—Ä–æ–∂—É –¥–æ–ø–æ–∑–¥–Ω–∞ —è
–≤ –¥–∞–ª—ë–∫–æ–º –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–≤—Å—Ç–≤–µ ‚Äì¬Ý
–Ω–∏–∫—Ç–æ –º–µ–Ω—è —É–∂–µ –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–µ—Ç
–±–µ–∑ –≥—Ä–∏–º–∞, –±–µ–∑ —Å—Ä–æ—Å—à–µ–π—Å—è —Å –∫–æ–∂–µ–π –º–∞—Å–∫–∏
из первой пыльцы золотой, из пыли…
–ñ–∏–ª–∞-–±—ã–ª–∞ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞.¬Ý
–¢–∞–º –≤—Å–µ —Å–∫–∞–∑–∫–∏
всегда начинаются с «жили-были»…
¬Ý
***
–°–∏–Ω–∏–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ –∏–∑-–ø–æ–¥ –∫–æ—Å—ã–Ω–∫–∏ ‚Äì¬Ý
–º–æ–π –∏–∑–≤–µ—á–Ω—ã–π –æ–±–µ—Ä–µ–≥,
—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞-—Ä—É—Å–∏–Ω–∫–∞
—Å –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤ –Ω–µ–∑–¥–µ—à–Ω–∏—Ö —Ä–µ–∫.
–ü–æ–∑–æ–≤–∏ –º–µ–Ω—è –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–æ,
—Ç–∏—Ö–æ –∫–æ—Å—É —Ä–∞—Å–ø–ª–µ—Ç–∏,
–∑–Ω–∞—é —Ç–∞–º, —É —Å–∞–º–æ–π –∫—Ä–æ–º–∫–∏,
–Ω–∞—à–∏ —Å—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –ø—É—Ç–∏.
–ì–¥–µ-—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –ø–æ–∫–æ–π –∏ –≤–æ–ª—è,
–¥–æ —Å–µ–¥—å–º—ã—Ö –¥–æ–π–¥—É –Ω–µ–±–µ—Å,
—á–µ—Ä–µ–∑ –º–∞–∫–æ–≤–æ–µ –ø–æ–ª–µ,
—á–µ—Ä–µ–∑ —Å—É–º–µ—Ä–µ—á–Ω—ã–π –ª–µ—Å,
–º–∏–º–æ –ª–æ–≥–æ–≤–∞ –º–æ–ª—å—Ñ–∞—Ä–∞,
–º–∏–º–æ –æ–∑–µ—Ä–∞ –≤ –±–æ—Ä—É,
–≥–¥–µ –∫—É–≤—à–∏–Ω–∫–∏-–Ω–µ–Ω—é—Ñ–∞—Ä—ã¬Ý
—Ä–∞—Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ—É—Ç—Ä—É.
–ì–¥–µ –≤–æ–¥–∞ —Ç–µ–º–Ω–µ–µ –Ω–æ—á–∏,
налита в озёра всклень…
–õ—é–±–∏—Ç –ø—É—Ç–Ω–∏–∫–∞ –º–æ—Ä–æ—á–∏—Ç—å
—ç—Ç–æ—Ç –±–µ–ª—ã–π –æ–¥–æ–ª–µ–Ω—å.
–ú–∏–º–æ –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤ —Å–∫–∞–ª–∏—Å—Ç—ã—Ö,
–º–∏–º–æ —Å–∏–Ω–∏—Ö –ø–æ–ª–æ–Ω–∏–Ω,
–ø—Ä–æ–≤–µ–¥–∏ –∏ –æ—Ç –Ω–µ—á–∏—Å—Ç—ã—Ö
—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –æ–±–æ—Ä–æ–Ω–∏.
–õ–∏—Ö–æ –∫–ª—è—Ç–æ–µ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∫—É
заговором отведи…
–ü–æ–∑–æ–≤–∏ –º–µ–Ω—è –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–æ,
–∏ —É —Å–∞–º–æ–π-—Å–∞–º–æ–π –∫—Ä–æ–º–∫–∏,
–ï—Å–ª–∏ –º–æ–∂–µ—à—å, –ø–æ–¥–æ–∂–¥–∏.
¬Ý
***
–Ý—É—Å–∏–Ω–∫–∞‚Ķ
А просится – русинка –
–¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–∞ –∏–∑ –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏—Ö –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–π,
–≤–∏—à–Ω—ë–≤–∞—è –∫–æ—Å—Ç–æ—á–∫–∞-–±—É—Å–∏–Ω–∫–∞
–≤ –º–æ—ë–º —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–º –æ–∂–µ—Ä–µ–ª—å–µ.
Моя синевзорая пращурка –
–≥–ª–æ—Ç–æ–∫ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤–æ–π –≤–æ–¥–∏—Ü—ã,
легка и проворна – что ящерка –
—Å–ª–∞–≤—è–Ω–æ—á–∫–∞-–æ—Ç—Ä–æ–∫–æ–≤–∏—Ü–∞.
–ù–µ —á–∞—Å—Ç–æ –∫–ª–æ–Ω–∏–ª–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É—à–∫—É
–∏ –∫–ª–∞–ª–∞ –∑–µ–º–Ω—ã–µ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω—ã,
–≥–æ—Ä—á–∏—Ç —Ç–≤–æ—è –≤–æ–ª—å–Ω–∞—è –∫—Ä–æ–≤—É—à–∫–∞
–¥—ã–º–∫–æ–º –ø–æ–ª–æ–≤–µ—Ü–∫–∏—Ö –ø–æ–ª–æ–Ω–æ–≤.
–î–µ–≤—á–æ–Ω–∫–∞ –≤ —Ä—É–±–∞—à–µ—á–∫–µ –≤—ã—à–∏—Ç–æ–π,
–≤–µ–∫–∞ –º–µ–∂ —Ç–æ–±–æ—é –∏ –º–Ω–æ—é,
–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É —Å–ª—ã—à—É —è,
–∫–∞–∫ —Å—Ç—Ä–µ–ª—ã –ø–æ—é—Ç –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ—é.
–ù–∏–∫—Ç–æ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –º–Ω–µ,
—Ç–æ —è–≤—å –∏–ª–∏ —Å–æ–Ω –º–æ–π –∏–∑ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞?
–¢–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –±–æ–ª–∏—Ç –∏–ª—å –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–Ω–∞
–∫–∞–ª—ë–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–ª—ã –ø–æ–ª–æ–≤–µ—Ü–∫–æ–π.
¬Ý
***
–ü—Ä–∏–≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω–æ–µ –∑–µ–ª—å–µ –∏–º–µ–Ω–∏,
–º–æ—Ä–æ–∫, –¥—Ä–µ–º–ª—é—â–∏–π –ø–æ–¥ —Ä—É–∫–æ–π,
не сменять на покой – не выменять,
да и нужен ли он – покой.
–ú—è—Ç–∞ –¥–∏–∫–∞—è ‚Äì –∑–µ–ª—ë–Ω—å —Ç–∞ –µ—â—ë ‚Äì¬Ý
–Ω–µ—Ä–∞–∑–≥–∞–¥–∞–Ω–Ω—ã–π –æ–±–µ—Ä–µ–≥,
–≤–∑–≥–ª—è–¥–∞ –±–µ–≥–ª–æ–≥–æ –ª—ë–¥ –Ω–µ—Ç–∞—é—â–∏–π
–±–µ–ª—ã–º –ø–ª–∞–º–µ–Ω–µ–º –∏–∑-–ø–æ–¥ –≤–µ–∫.
–ü—Ä–∏–≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω–æ–µ –∑–µ–ª—å–µ –∏–º–µ–Ω–∏:
–º–æ—Ä–æ–∫, –ú–∞—Ä–∞, —Ç—Ä–∞–≤–∞-–ø–ª–∞–∫—É–Ω,
–Ω–∞ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –Ω–µ –≤—ã–º–µ–Ω—è—Ç—å
–¥–µ—Å—è—Ç—å —Ç—ã—Å—è—á –Ω–µ–ø–æ–ª–Ω—ã—Ö –ª—É–Ω.
–° –≥—É–± —Å—Ç—Ä—è—Ö–Ω—É—Ç—å –±—ã, –¥–∞ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å—Å—è ‚Äì¬Ý
что там… карта не так легла,
–Ω–æ –ø–æ –∫—Ä—É–≥—É –≤ –∫—Ä–æ–≤–∏ –≥–ª–∞–≥–æ–ª–∏—Ü–µ–π
–±—Ä–æ–¥–∏—Ç –∏–º—è ‚Äì –∏–≥–æ ‚Äì –∏–≥–ª–∞.¬Ý
–Ý–∞—Å–ø–∞–¥–∞–µ—Ç—Å—è –ø–∞–º—è—Ç—å –Ω–∞–¥–≤–æ–µ:
два пути – и ни одного
–æ—Ç–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ –æ—Ç –∑–µ–ª—å—è –≥–ª–∞–∑ —Ç–≤–æ–∏—Ö
–∏ –æ—Ç –∏–º–µ–Ω–∏ —Ç–≤–æ–µ–≥–æ.
¬Ý
***
–û—Ç–∫–ª–∏–∫–∞—é—Å—å –Ω–∞ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –∏–º–µ–Ω–∞,
–ø–æ–∑–∞–±—ã–ª–∞, –∫–∞–∫–æ–µ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –º–æ—ë,
–ª–∏—à—å –ª—É–Ω–∞, –Ω–∞—Å–º–µ—à–ª–∏–≤–∞ –∏ –±–ª–µ–¥–Ω–∞,
–ª—å—ë—Ç –≤ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è, –ª—å—ë—Ç –∏ –ª—å—ë—Ç.
–ò –ø–æ–ª–Ω—ã –ª–∞–¥–æ–Ω–∏, –∏ –≤—Ä–µ–º—è ‚Äì –≤—Å–ø—è—Ç—å ‚Äì¬Ý
–∫ –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º, —á—Ç–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –¥–∞–Ω–æ –Ω–µ –≤—Å–µ–º,
–Ω–∞–¥ –≤–æ–¥–æ—é –∏–≤—ã –ø–ª–∞–∫—É—á–µ–π –ø—Ä—è–¥—å,¬Ý
–ø–æ–¥ –≤–æ–¥–æ–π —Ä—É—Å–∏–Ω–∫–∞-–ª–µ–º–∫–∏–Ω—è.
…лем*…
—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–º—è —Ä–∞–∑–≤–µ—è–Ω–æ –≤ –ø—ã–ª—å –∏ –≤ –ø—Ä–∞—Ö,
никого – кто вспомнит,
–∫—Ç–æ –ø–æ–∑–æ–≤—ë—Ç
не осталось – только печаль и страх,
–∏ —á—É–∂–∏—Ö –∏–º—ë–Ω –±–µ—Å–ø—Ä–æ–±—É–¥–Ω—ã–π –ª—ë–¥,
и стихи…
да, в сущности – ни о чём,
–û—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω—å—è –º–Ω–æ–∂–∞—Ç—Å—è –≤ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª–∞—Ö.
Незнакомки…
–ö—Ç–æ –∏–∑ –≤–∞—Å –Ω–∞—Ä–µ—á—ë–Ω
–º–æ–∏–º –∏–º–µ–Ω–µ–º, –∫–µ–º –∏–∑ –≤–∞—Å —è –±—ã–ª–∞.
Выдыхала утро сонное… лем,
–∏ —Ç—É–º–∞–Ω–∞ —Ç—ë–ø–ª–æ–µ –º–æ–ª–æ–∫–æ,
–Ω–∞ —Å–µ–º–∏ –≤–µ—Ç—Ä–∞—Ö, –¥–æ —Å–µ–º–∏ –∫–æ–ª–µ–Ω
–æ—Ç—Ä–∞–∂–∞–ª–∞—Å—å –≤ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª–µ –≤–µ–¥–æ–≤—Å–∫–æ–º,
–∑–∞—Ç–µ—Ä—è–≤—à–∏—Å—å –≤ —Ä—É—Å–ª–µ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Ä–µ–∫,¬Ý
где забвенья лёд и безлик и нем…
–ù–æ —Å–ª–µ—Ç–∞–µ—Ç –≤—ã–¥–æ—Ö–æ–º —Å –≥—É–±, –∫–∞–∫ —Å–Ω–µ–≥,
–º–æ—ë –∏–º—è,
только б расслышать… лем.
___
*лем [лэм] «только» (русинский, лемківскій язык)
¬Ý
***
–ï—â—ë –ø–æ-–ª–µ—Ç–Ω–µ–º—É ‚Äì –ª–µ–≥–∫–æ¬Ý
–∫–∞—Å–∞–µ—Ç—Å—è —â–µ–∫–∏ –ø—Ä–æ—Ö–ª–∞–¥–∞,
но в захолустье – далеко,
–≤ —Ç–∏—à–∏ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–∞–¥–∞
—Å–æ—Ä–≤–∞–ª–æ—Å—å —è–±–ª–æ–∫–æ –≤ –ø–æ–ª—ë—Ç,
–∏ –≤–µ—Ç–∫–∞ –≤–∑–¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª–∞ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ
–∏ –Ω–∞–¥–ª–æ–º–∏–ª–∞ —Ç–æ–Ω–∫–∏–π –ª—ë–¥
–ø—É—Å—Ç—ã—Ö —É–≤–µ—â–µ–≤–∞–Ω–∏–π –ª–æ–∂–Ω—ã—Ö.
Всего-то… сделать первый шаг
–∏ –¥–æ–º –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –æ–ø—É—Å—Ç–µ–ª—ã–π.
–¢–∞–º —è–±–ª–æ–∫–æ–º –º–æ—è –¥—É—à–∞,
—Å–æ—Ä–≤–∞–≤—à–∏—Å—å, –≤ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∞—Ö –ª–µ—Ç–µ–ª–∞.
–ö–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –Ω–µ–∫–æ–º—É —É–∂–µ
–ø–æ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Ç—ë–ø–ª—ã–µ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏
–≤ –ø–æ–ª—ë—Ç —Å–æ—Ä–≤–∞–≤—à–µ–π—Å—è –¥—É—à–µ
–±–µ–∑ –∞–±–µ—Ä—Ä–∞—Ü–∏–π –∏ –∞–≥–æ–Ω–∏–π.
–õ–µ–≥–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –ª–∏, —Ç—è–∂–µ–ª–∞,
–µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è –æ–± —ç—Ç–æ–º.
Мне думалось, что я жила…
–ù–æ —è–±–ª–æ–∫–æ–º –ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –≤ –õ–µ—Ç—É,
–∏–ª—å –≤ –ª–µ—Ç–æ ‚Äì –∫—Ç–æ –µ—ë –ø–æ–π–º—ë—Ç ‚Äì¬Ý
–¥—É—à–∞.
Ну как с такой расстаться…
–ù–µ–≤–∞–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ —Ç–∞–º, –ª—ë–¥ –∏–ª—å –º—ë–¥.
–°–æ—Ä–≤–∞–ª–æ—Å—å —è–±–ª–æ–∫–æ –≤ –ø–æ–ª—ë—Ç ‚Äì¬Ý
–ø–æ –≤–µ—Ä–µ –ø—É—Å—Ç—å –µ–º—É –≤–æ–∑–¥–∞—Å—Ç—Å—è.
¬Ý
***
–û–± —ç—Ç–æ–º –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ,
—á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã –∏ –Ω–µ –ø–∏—Å–∞—Ç—å,
–Ω–µ —Å–∫–ª–µ–∏–≤–∞—Ç—å –º—ã—Å–ª–µ–π –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏,
–Ω–∞ –≤–µ—Ç–µ—Ä —Å–ª–æ–≤–∞ –Ω–µ –±—Ä–æ—Å–∞—Ç—å.
–£—Ç–µ—à–∏—Ç—å—Å—è –±—ã—Ç–æ–º, —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π,
–∞ –Ω–æ—á–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –¥–ª—è —Å–Ω–∞,
–Ω–æ –≤–¥—Ä—É–≥ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —á—Ç–æ-—Ç–æ,
—á–µ–º –Ω–µ–∏–∑–ª–µ—á–∏–º–æ –±–æ–ª—å–Ω–∞.
–û–¥–Ω–∏ –Ω–∞–∑–æ–≤—É—Ç —ç—Ç–æ –±–ª–∞–∂—å—é,
другие похлеще – шиза,
–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏ –Ω–∏ —Å–ª–æ–≤–∞ –Ω–µ —Å–∫–∞–∂—É—Ç,
все третьи – ни против – ни за.
–ù—É —á—Ç–æ —Ç–µ–±–µ —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–µ–π–º—ë—Ç—Å—è,
–Ω–µ –¥—ã—à–∏—Ç—Å—è –∏ –Ω–µ –∂–∏–≤—ë—Ç—Å—è,
—Å–∞–º–∞ —Å–µ–±—è —Ç–∏—Ö–æ —Å–ø—Ä–æ—à—É
–∏ —Ç–∏—Ö–æ –æ—Ç–≤–µ—á—É: —Å–ø–µ—à—É.
–°–ø–µ—à—É –≤ –Ω–∏–∫—É–¥–∞, –Ω–∏–æ—Ç–∫—É–¥–∞,
–Ω–µ –∑–Ω–∞—è, –∫—Ç–æ –º–æ–π –∞–¥—Ä–µ—Å–∞—Ç,
–∏ –Ω–µ —É–ø–æ–≤–∞—è –Ω–∞ —á—É–¥–æ,
–∂–∏–≤—É, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—è –ø–∏—Å–∞—Ç—å,
—á—Ç–æ–± –≤—ã—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç—å –≤ –ø–∞–º—è—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–æ—á–∫—É,
–≥–¥–µ –¥–∏–∫–∞—è –º—è—Ç–∞ –≤ —Ü–≤–µ—Ç—É,
—Ä—É—Å–∏–Ω–æ—á–∫–∞ –≤ –±–µ–ª–æ–π —Å–æ—Ä–æ—á–∫–µ,
смерека – по сторону ту,
–≥–¥–µ —è –æ–ø–∞–¥–∞—é –∏–≥–æ–ª–∫–æ–π
–≤ —Å—Ç—É–¥—ë–Ω–æ–µ –ª–æ–Ω–æ –∫–ª—é—á–∞.
–û–± —ç—Ç–æ–º –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ,
—á—Ç–æ –≤–ø–æ—Ä—É —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –∏ –º–æ–ª—á–∞—Ç—å.
¬Ý
¬Ý
–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫: –ñ–æ–∑–µ—Ñ–∏–Ω–∞ –£–æ–ª–ª.