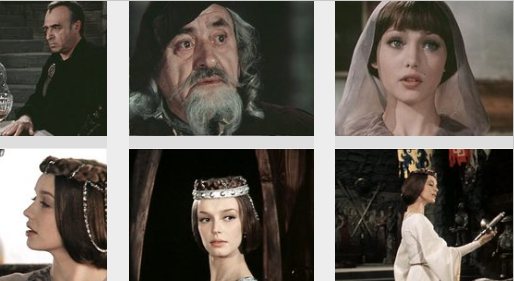–ò–∑ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∏
–ò–∑ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∏

–ü–µ—Ç—É—Ö –≤ –ú–∞–≥–∞–¥–∞–Ω–µ
–ù–µ –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è —É—Ç—Ä–æ –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–∞,
–ø–æ–¥ –Ω–µ–±–æ–º –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö —à–∏—Ä–æ—Ç,
–ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤—å—Ç–µ —Å–µ–±–µ, —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–æ—á–∏
–ø–µ—Ç—É—Ö –∏–∑—É–º–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ä–µ—Ç.
–° –≤–µ—Ç–≤–µ–π –æ—Å—ã–ø–∞–µ—Ç—Å—è –∏–Ω–µ–π.
–ö–æ–ª—ã–º—Å–∫–∞—è –ø–æ–ª–Ω–æ—á—å –≥–ª—É—Ö–∞.
–ó–∞—á–µ–º —Ç—ã, –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å, –≤ –∫–æ—Ä–∑–∏–Ω–µ
—Å —Å–æ–±–æ—é –ø—Ä–∏–≤–µ–∑ –ø–µ—Ç—É—Ö–∞?
–ù–µ–≤–∏–Ω–Ω–∞—è, –≤ —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç–∏, —à–∞–ª–æ—Å—Ç—å
–ø–æ—Å–ª—É—à–∞—Ç—å —Å–æ–ª–∏—Å—Ç–∞ –≤ —Å–Ω–µ–≥–∞—Ö.
–ù–æ –≤—Å–µ –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ —Å–º–µ—à–∞–ª–æ—Å—å
–≤ –µ–≥–æ –ø–µ—Ç—É—à–∏–Ω—ã—Ö –º–æ–∑–≥–∞—Ö.
–°–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ –∏ –≤—Ä–µ–º—è,
–æ —á–µ–º –æ–Ω –∏ –∑–Ω–∞—Ç—å –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª
–≤ —Å–≤–æ–µ–º –ø–µ—Å—Ç—Ä–æ–∫—Ä—ã–ª–æ–º –≥–∞—Ä–µ–º–µ,
—Å—Ä–µ–¥–∏ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö –¥–µ–ª.
–ë–µ—Å—Å–∏–ª—å–µ, –æ—Ç—á–∞—è–Ω—å–µ –≥–ª–æ–∂–µ—Ç
–æ–±–∏–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–µ—Ä—å–µ–≤ –∫–æ–º–æ–∫.
–ù—É —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –ø–æ–¥–µ–ª–∞—Ç—å –æ–Ω –º–æ–∂–µ—Ç?
–ê –æ–Ω, –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç–µ, —Å–º–æ–≥!
–£–≤–∏–¥–µ–≤ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–º –Ω–µ–±–µ
–∑–≤–µ–∑–¥—ã –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–æ–π –ø–æ–ª–µ—Ç,
–æ–Ω –≤ —Ñ–æ—Ä—Ç–æ—á–∫—É –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –≥—Ä–µ–±–µ–Ω—å,
—Ä–µ—à–∏–ª—Å—è, –¥–∞ –∫–∞–∫ –∑–∞–æ—Ä–µ—Ç!
–ò –∫—Ä–∏–∫ –µ–≥–æ —ç—Ö–æ–º –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º
–ø—Ä–æ–º—á–∞–ª—Å—è –≤ –∫–æ—á–µ–≤—å—è –∑–∏–º—ã
–ø–æ –≤—Å–µ–º –∑–∞–º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–æ–ø–∫–∞–º,
–ø–æ —Ç—Ä–æ–ø–∫–∞–º —Å–µ–¥–æ–π –ö–æ–ª—ã–º—ã.
–ò —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –Ω–æ—á—å—é –∑–∞ —Ö–∞—Ç–æ–π
–æ—Å–µ–Ω–Ω–∏–µ –ø–∞—Ö–Ω—É—Ç —Å—Ç–æ–≥–∞,
—Ä–æ–º–∞—à–∫–æ–π, –ª—é–±–∏—Å—Ç–∫–æ–º –∏ –º—è—Ç–æ–π
–∑–∞–ø–∞—Ö–ª–∏ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ —Å–Ω–µ–≥–∞.
–ò –±—ã–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω—ã–º,
—á—Ç–æ –Ω–æ—á—å—é ¬Ý—Å—Ä–µ–¥–∏ —Ç–∏—à–∏–Ω—ã
—É—Å—Ç–∞–ª—ã–º –º–æ–∏–º –∫–æ–ª—ã–º—á–∞–Ω–∞–º
–ø—Ä–∏—Å–Ω–∏–ª–∏—Å—å –Ω–µ–∑–¥–µ—à–Ω–∏–µ —Å–Ω—ã.
–ù–µ—Ç, –≤–∏–¥–Ω–æ, –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å —É–∂ –Ω–∞–∏–≤–µ–Ω,
—Å—É–º–µ–≤—à–∏–π –ø—Ä–æ–ø–µ—Ç—å –æ —Å–≤–æ–µ–º,
–ø–æ–ª—Ç–∞–≤—Å–∫–∏–π –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–∏–≤–µ–Ω—å
—Å —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã–º —á–µ—Ä–≤–æ–Ω–Ω—ã–º —Ö–≤–æ—Å—Ç–æ–º!
¬Ý
–ú–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç–∞
¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý –ê–ª—å–±–µ—Ä—Ç—É –ú–∏—Ñ—Ç–∞—Ö—É—Ç–¥–∏–Ω–æ–≤—É
–ü–æ—Å–ª–µ —Ç–µ–ø–ª–æ–≥–æ –¥–æ–∂–¥—è,¬Ý
–ø–æ—Å–ª–µ –ª–∞—Å–∫–æ–≤–æ–≥–æ –ª–∏–≤–Ω—è,
—â–µ–±–µ—á–∞ –∏ —à–µ–ª–µ—Å—Ç—è,
–ø—Ä–æ–±—É–∂–¥–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ–ª–∏–Ω–∞.
–í—Å—è —Ç–∞–π–≥–∞ –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö —Å–ª–µ–∑–∞—Ö,
–∑–∞ –æ–¥–∏–Ω –≤–æ–ª—à–µ–±–Ω—ã–π —Ä–æ—Å—á–µ—Ä–∫
–∑–µ–ª–µ–Ω–µ—é—Ç –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö
–∫—Ä–æ–Ω—ã –ª–∏—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—á–Ω–æ–π —Ä–æ—â–∏.
–ü—Ä–æ—Å—ã–ø–∞—é—Ç—Å—è —Ü–≤–µ—Ç—ã
и по-детски шепчут «здрасте!»
–≤ —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ –≤–µ—á–Ω–æ–π –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç—ã,
–≤ –Ω–µ–±–æ–≥–∞—Ç–æ–º –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ.
–î–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä—Ç –≤ —Ö–æ–¥—É –º–æ–ª–≤–∞,
байки, сказки – как угодно,
–¥–µ—Å–∫–∞—Ç—å, –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç–∞ –º–µ—Ä—Ç–≤–∞,
–±–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–∞ –∏ –±–µ—Å–ø–ª–æ–¥–Ω–∞.
–≠—Ç–æ, –ø—Ä–∞–≤–æ, –µ—Ä—É–Ω–¥–∞!
–ù–∞—à–∏ –∫–æ—Ä–Ω–∏ –≤ –ª—É—á—à–µ–º –≤–∏–¥–µ
–∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞
–≤ –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç–µ, –¥–∞ –Ω–µ –≤ –æ–±–∏–¥–µ.
–ò –Ω–µ –≤ —Å–æ—Ä–Ω–æ–π —Å—É–µ—Ç–µ
–ø—Ä–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ —Å—Ç–µ–±–ª–∏,
–∞ –≤ —Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω—å–µ –∫ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–µ
–≤–æ–∑–º—É–∂–∞–ª–∏ –∏ –æ–∫—Ä–µ–ø–ª–∏.
–î–∞, –æ–Ω–∞ –±—ã–≤–∞–µ—Ç –∑–ª–∞,
–±–µ—Å–ø—Ä–∏—é—Ç–Ω–∞, –≤–µ—Ä–æ–ª–æ–º–Ω–∞,
—Ñ–æ–Ω–¥ –±–µ—Å—Ü–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–µ–ø–ª–∞
—Ç—Ä–∞—Ç–∏—Ç –æ—á–µ–Ω—å —ç–∫–æ–Ω–æ–º–Ω–æ.
–ù–æ –∑–∞—Ç–æ —Å–∫—É–ø–∞, –±–µ–¥–Ω–∞
–∏ —É–ø—Ä—è–º–∞ –¥–æ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞,
—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏–º –∂–∏–∑–Ω—å –¥–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞,
—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥—É—à –æ–Ω–∞ —Å–æ–≥—Ä–µ–ª–∞!¬Ý
–ü–æ–Ω–∏–º–∞–µ–º —è –∏ —Ç—ã:
–≤—Å—ë –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ —Å–∫–æ—Ä–æ—Ç–µ—á–Ω–æ.¬Ý
–ü–æ–¥ –õ—É–Ω–æ–π –Ω–∏—á—Ç–æ –Ω–µ –≤–µ—á–Ω–æ.
–ö—Ä–æ–º–µ –≤–µ—á–Ω–æ–π –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç—ã.
¬Ý
–û–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–µ —á—É–¥–∞
–ñ–∏–≤–µ—à—å –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–µ–º —á—É–¥–∞,
—Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–π –æ—Ç –≤–µ—á–Ω—ã—Ö –∑–∞–±–æ—Ç,
–∫–∞–∫–æ–µ –æ–Ω–æ –∏ –æ—Ç–∫—É–¥–∞
–≤ —Ç–∞–µ–∂–Ω–æ–π –ø–æ—Å–µ–ª–æ–∫ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç.
–ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –ø–æ—Å—Ç—É–ø—å—é –∑—Ä–∏–º–æ–π,
—Å–∂–∏–≥–∞—è —Å–Ω–µ–≥–∞ –Ω–∞ –±–µ–≥—É,
–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π –∏ –Ω–µ–ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º—ã–π
–∞–ø—Ä–µ–ª—å –∑–∞–ø–æ–ª–Ω—è–µ—Ç —Ç–∞–π–≥—É.
–ò–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤—Å—Ö–æ–¥—è—Ç –ø–æ—Å–µ–≤—ã
на южных пространствах страны…
–ù–æ –∂–¥–µ—Ç –Ω–µ–¥–æ–≤–µ—Ä—á–∏–≤—ã–π —Å–µ–≤–µ—Ä
—Å–≤–æ–µ–π, –Ω–µ–ø–æ—Ö–æ–∂–µ–π –≤–µ—Å–Ω—ã.
–Ý–æ—Å—Å–∏—è, —Ç—ã —Ç–∞–∫ –º–Ω–æ–≥–æ–ª–∏–∫–∞,
—á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –≤ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏—Ö –ª–µ—Å–∞—Ö
—É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –ø—Ç–∏—á—å–µ–≥–æ –∫—Ä–∏–∫–∞
—Å–≤–æ–π —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç, –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥ –∏–ª–∏ —Å—Ç—Ä–∞—Ö.
–ê –∑–¥–µ—Å—å, —É –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–æ–≤
—Ç–≤–æ–∏—Ö –±–µ—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å,
–∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –∏ –¥–µ–ª–∞ –Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–≤,
—É–∂–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∏–ª—Å—è –∞–ø—Ä–µ–ª—å.
В туманной заре – ни кровинки.
–í–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–∏ –ª–∏—Å—Ç–∞, –Ω–∏ —Ç—Ä–∞–≤–∏–Ω–∫–∏
–∏ –≤—Å–µ –∂–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–µ—Å—Ç—å–µ–º —á—É–¥–µ—Å
—Å—Ç—Ä—É–∏—Ç—Å—è –≤–æ–¥–∞ –∏–∑ —Ä–∞—Å—Å–µ–ª–∏–Ω,
–∏ –≤–æ–∑–¥—É—Ö –ø–æ-–≤–µ—à–Ω–µ–º—É –∑–µ–ª–µ–Ω,
–∏ —è—Å–µ–Ω –ø–æ-–Ω–æ–≤–æ–º—É –ª–µ—Å.
–°—Ç–æ–∏—Ç –≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ –ª–µ—Ç–∞,
–Ω–µ–≤–∏–¥–∏–º—ã–º –ø—É—Ö–æ–º –æ–¥–µ—Ç.
–ï—â–µ –Ω–µ –∏–º–µ—é—â–∏–π —Ü–≤–µ—Ç–∞,
—É–∂–µ –∏–∑–ª—É—á–∞—é—â–∏–π —Å–≤–µ—Ç.
¬Ý
–û–≥—É—Ä—Ü—ã
–ï—â–µ –ø–æ–ª–Ω–∞ –ª–µ—Ç—É—á–∏—Ö –ª—å–¥–∏–Ω–æ–∫
–ø—Ä–µ–¥—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—è—è —Ç–∏—à–∏–Ω–∞,
–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –ú–∞–≥–∞–¥–∞–Ω—Å–∫–∏–π —Ä—ã–Ω–æ–∫
–ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –ø–µ—Ä–≤–∞—è –≤–µ—Å–Ω–∞.
–ù–æ –Ω–µ —Ä—É—á—å–∏ –Ω–∞ —é–∂–Ω—ã—Ö —Å–∫–ª–æ–Ω–∞—Ö
и уж, конечно, не скворцы, –
–µ–µ –Ω–∞ —Ö–≤–æ—Å—Ç–∏–∫–∞—Ö –∑–µ–ª–µ–Ω—ã—Ö
—Å—é–¥–∞ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å—è—Ç –æ–≥—É—Ä—Ü—ã.
–û–Ω–∏ –Ω–µ –≤–µ–¥–∞—é—Ç –Ω–∏ –≥—Ä—è–¥–æ–∫,
–Ω–∏ –≥—Ä–∞–¥–∞ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –ø–æ–ª–æ—Å—ã,
–Ω–µ –∑–Ω–∞—é—Ç, –∫–∞–∫ –±—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–ª–∞–¥–æ–∫
–æ–∑–Ω–æ–± –ø—Ä–µ–¥—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π —Ä–æ—Å—ã.
–ò –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –∏—Ö –Ω–µ –∫–æ—Å–Ω–µ—Ç—Å—è
–≤ —Ä–∞—é —Ç–µ–ø–ª–∏—Ü –∏ –ø–∞—Ä–Ω–∏–∫–æ–≤
–∏—é–Ω—å—Å–∫–æ–µ –∂–∏–≤–æ–µ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ,
—Ç–µ–Ω—å –∫—Ä—ã–ª—å–µ–≤ –∏–ª–∏ –æ–±–ª–∞–∫–æ–≤.
–ò –≤—Å–µ –∂–µ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ø–æ–ª–Ω–æ—á–Ω–æ–π
–Ω–∞—Å –æ–Ω–∏ —Ä–∞–¥—É—é—Ç –≤–¥–≤–æ–π–Ω–µ
—Å–≤–æ–µ–π –ø—Ä–∏—á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∑–∞–æ—á–Ω–æ–π
–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ, —é–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤–µ—Å–Ω–µ.
–î–∞ –∏—Ö –Ω–∏—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –ø—É–≥–∞–µ—Ç,
–¥–∞ –∫ –Ω–∏–º –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–µ—Ç
–Ω–∏ —Å–∫—É–ø–æ—Å—Ç—å —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –ø–æ–∫—É–ø–∞–µ—Ç,
–Ω–∏ –∂–∞–¥–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –ø—Ä–æ–¥–∞–µ—Ç.
–í–µ—Å—å –ú–∞–≥–∞–¥–∞–Ω –≤—Å—Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–µ–Ω –Ω—ã–Ω–µ,
—Å —É—Ç—Ä–∞ —Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç –æ–± –æ–≥—É—Ä—Ü–∞—Ö.
–ò –Ω–∞ –ø—Ä–∏–ª–∞–≤–∫–∞—Ö —Ç–∞–µ—Ç –∏–Ω–µ–π,
–∏ —Ç–∞–µ—Ç –∏–Ω–µ–π –Ω–∞ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö.
¬Ý
–°–Ω–µ–≥ –≤ –Ø–ª—Ç–µ
¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª–∏—é –ü—á—ë–ª–∫–∏–Ω—É
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤ —Ä–∞–∑–≥–∞—Ä –≤–µ—Å–Ω—ã ‚Äì¬Ý
—Å–ª—É—á–∏—Ç—Å—è –∂–µ —Ç–∞–∫–æ–µ! ‚Äì¬Ý
–Ω–∞—Å —á–µ—Ä—Ç–∏ –∑–∞–Ω–µ—Å–ª–∏
–≤ —Å—É–±—Ç—Ä–æ–ø–∏–∫–∏ —Å —Ç–æ–±–æ—é,
—Å—É–º—è—Ç–∏—Ü–∞ —Å–Ω–µ–≥–æ–≤
–Ω–µ–≥–∞–¥–∞–Ω–Ω–æ, –Ω–æ –∑—Ä–∏–º–æ
—Å–≤–∞–ª–∏–ª–∞—Å—å —Å –æ–±–ª–∞–∫–æ–≤
–Ω–∞ –Æ–∂–Ω—ã–π –±–µ—Ä–µ–≥ –ö—Ä—ã–º–∞.
–í —á–µ–º –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã –º—ã?
–ù–∏ –≤ —á–µ–º –Ω–µ –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã!
–î—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ –ö–æ–ª—ã–º—ã
–µ–¥–≤–∞ –∫–æ—Å–Ω—É–ª–æ—Å—å –Ø–ª—Ç—ã.
–ï–µ —Å–∫—É–ø—ã—Ö —Å–µ—Ä–¥–µ—Ü
–Ω–µ –æ—Ç–æ–≥—Ä–µ–ª–æ —Å—Ç—É–∂–µ–π.
–ê –Ω–∞–º —Å —Ç–æ–±–æ—é –∑–¥–µ—Å—å¬Ý
–æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ —Ö—É–∂–µ.
–ú—ã –ø—å–µ–º —Å–≤–æ–µ –≤–∏–Ω–æ,
–º—ã —Å–≤–æ–π —Ç–∞–±–∞–∫ —Å–∂–∏–≥–∞–µ–º,
–º—ã –ø–æ–Ω—è–ª–∏ –¥–∞–≤–Ω–æ ¬Ý
–∫—É–¥–∞ –∏ —Å –∫–µ–º —à–∞–≥–∞–µ–º.
–ü–æ –≤–µ—á–Ω–æ–π –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç–µ,
–≤ –∫–ª—É–±–∞—Ö –º–æ—Ä–æ–∑–Ω–æ–π –ø—ã–ª–∏
–¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –Ω–µ —Ç–µ,
–∫–∞–∫–∏–º–∏ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –±—ã–ª–∏.
–ò —ç—Ç–æ—Ç —Å–Ω–µ–≥ —Å—ã—Ä–æ–π,
–Ω–∞–≥—Ä—è–Ω—É–≤—à–∏–π —Å –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞,
–ø—É—Å—Ç—å –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∞–º —Å —Ç–æ–±–æ–π
–Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω—å–µ–º —Å—Ä–æ–∫–∞.
–ü—É—Å–∫–∞–π —Ç–µ–±–µ –∏ –º–Ω–µ
–Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç –Ω–µ–±–æ,
—á—Ç–æ –º—ã –≤ —á—É–∂–æ–π –≤–µ—Å–Ω–µ,
–∫–∞–∫ —ç—Ç–æ—Ç —Å–Ω–µ–≥, –Ω–µ–ª–µ–ø—ã.
–î–∞, –º—ã –ø–æ–¥ —Å—Ç–∞—Ç—å –µ–º—É,
–∏ –≤ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–π —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–µ,
–±—ã—Ç—å –º–æ–∂–µ—Ç, –ø–æ—Ç–æ–º—É
–Ω–µ —Ç–∞–∫ —É–∂ –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∏.
¬Ý
–õ–∏—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—Ü–∞
–ù–∞ –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏—Ö –∫–æ–ª—ã–º—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–∞—Ö,
–Ω–µ –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å –Ω–∞ –º–∏–ª–æ—Å—Ç—å –≤—Ä–∞–≥–∞,
–≤—Å—ë –∂–∏–≤—É—â–µ–µ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª–∞ –≤ –Ω–æ—Ä–∞—Ö,
–¥–æ –≤–µ—Å–Ω—ã —É—Å—ã–ø–∏–ª–∞ —Ç–∞–π–≥–∞.
–î–∞–∂–µ —Å—Ç–ª–∞–Ω–∏–∫, –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤—É—è —Å—Ç—É–∂—É,
–Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –ø–æ —Å–∫–∞–ª–∞–º –ø–æ–ª–∑—Ç–∏.
–û–Ω —Å–≤–æ—é –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω—É—é –¥—É—à—É
–Ω–µ —É–º–µ–µ—Ç –∏–Ω–∞—á–µ —Å–ø–∞—Å—Ç–∏.
–¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç—ã –æ—Å—Ç–∞–µ—à—å—Å—è –Ω–∞ –≤–æ–ª–µ,
–æ–±–µ—â–∞–Ω–∏–µ–º –≤–µ—à–Ω–µ–π –ª—é–±–≤–∏,
–±—É–¥—Ç–æ –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—Ç –±–æ–ª–∏
—Å–≤–µ—Ç–æ–∑–∞—Ä–Ω—ã–µ –≤–µ—Ç–≤–∏ —Ç–≤–æ–∏.
–°—Ç—É–∂–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç–≤—É–µ—Ç, —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤—É–µ—Ç, –∫—Ä–µ–ø–Ω–µ—Ç.
–¢—å–º–∞ —Ç–æ—Ä–æ–ø–∏—Ç —Å–≤–µ—Ä–∫–∞—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å.
–ò –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–≤–æ–π –Ω–µ–≤–∏–¥–∏–º—ã–π —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç
–ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç –ø–æ—Å–ª—É—à–Ω–∞—è —Ç–µ–Ω—å,
–≤–Ω–æ–≤—å –Ω–µ –∑–Ω–∞—é —è, —á—Ç–æ –±–µ–∑—É–ø—Ä–µ—á–Ω–µ–π,
что прекрасней – не ведаю я
–æ–±–ª–∏–∫ —Ç–≤–æ–π, –æ—Å–ª–µ–ø–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–ª–µ—á–Ω—ã–π,
или тень голубая твоя…
–Ø —Ö–æ—á—É, —á—Ç–æ–±—ã —Ç—ã –∑–∏–º–æ–≤–∞–ª–∞,
—á—Ç–æ–±—ã —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ü–≤–µ–ª–∞ –ø–æ –≤–µ—Å–Ω–µ
–≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π –¥–∞–ª–∏ –æ—Ç –ª–µ—Å–æ–ø–æ–≤–∞–ª–∞,
–æ—Ç –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∑–æ–Ω –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ.
–¢–∞–º –≤ —Ä–∞–∑–º–∞—Ö–µ –∫–æ–º–º–µ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–π —Å–∏–ª—ã,
–≤ –ª–∏—Ö–æ—Ä–∞–¥–∫–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤–Ω—ã—Ö –∑–∞–±–æ—Ç
–±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã–π –ø–æ—Ç–æ–∫ –¥—Ä–µ–≤–µ—Å–∏–Ω—ã
–Ω–∞—à–∏–º –ø–∏–ª–∞–º –æ—Å—Ç—ã—Ç—å –Ω–µ –¥–∞–µ—Ç.
–ù–æ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –∂–∏—Ç–µ–π—Å–∫–∞—è –ø—Ä–æ–∑–∞
–ø–æ–º–µ—à–∞—Ç—å –º–Ω–µ –≤ —Å–º–æ–ª–∏—Å—Ç–æ–π –∏–∑–±–µ
–ø–æ–¥ –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä–µ–≤ –ª–µ—Å–æ–≤–æ–∑–∞
–≤–∏–¥–µ—Ç—å —Å–Ω–µ–∂–Ω—ã–π —Å–Ω—ã ‚Äì –æ —Ç–µ–±–µ.¬Ý
¬Ý
–ü–æ—Å–ª–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–∏—Ö –Ω–µ–¥–µ–ª—å –Ω–µ–ø–æ–≥–æ–¥—ã
–ü–æ—Å–ª–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–∏—Ö –Ω–µ–¥–µ–ª—å –Ω–µ–ø–æ–≥–æ–¥—ã,
–ø—Ä–µ–¥—Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–Ω–æ–π –ø–æ—Ä–æ–π, –≤ —Ç–∏—à–∏–Ω–µ
–Ω–µ–ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã,
–∫–∞–∫ –æ–±–∏–¥–∞, –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª–æ—Å—å –≤–æ –º–Ω–µ.
–Ý–µ–∞–ª–∏—Å—Ç –∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫ –∏–ª–ª—é–∑–∏–π,
—è —Å–µ–±–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: ¬´–ü–æ–≥–æ–¥–∏!
–¢—ã –¥–∞–≤–Ω–æ –≤–µ–¥—å –Ω–µ –º–∞–ª—å—á–∏–∫ –±–µ–∑—É—Å—ã–π,
—É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤—Å–µ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏!
–¢—ã –¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–µ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –º–∞–ª—å—á–∏–∫,
–≤—ã–±–∏—Ä–∞—é—â–∏–π –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—É—Ç—å,
–∏ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç, —á—Ç–æ –≤ –æ–∫–æ—à–∫–µ –º–∞—è—á–∏—Ç,
–Ω–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω —Ç–µ–±—è –æ–±–º–∞–Ω—É—Ç—å.¬Ý
–ü–æ—Å–ª–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–∏—Ö –Ω–µ–¥–µ–ª—å –Ω–µ–ø–æ–≥–æ–¥—ã,
–ø–æ—Å–ª–µ –±—É—Ä—å –∏ –¥–æ–∂–¥–µ–π –±–µ–∑ —á–∏—Å–ª–∞
—ç—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É–ª—ã–±–∫–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã
на рассветный лиман снизошла!..»
–î–∞, –Ω–æ, –≥–ª—è–¥—è –≤ –±–µ–∑–¥–æ–Ω–Ω–æ–µ –Ω–µ–±–æ¬Ý
–∏ –Ω–µ –≤ —Å–∏–ª–∞—Ö –ø–æ—Å—Ç–∏—á—å –≥–ª—É–±–∏–Ω—É, ¬Ý
—Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–∞–¥–∞–µ—Ç –≤ –æ–±–º–æ—Ä–æ–∫ –Ω–µ—Ä–ø–∞
–∏ –∏–¥–µ—Ç –ø–æ —Å–ø–∏—Ä–∞–ª–∏ –∫–æ –¥–Ω—É.
–î–∞, –Ω–æ –≤–µ—Ç–µ—Ä –ø—Ä–æ—â–∞–ª—å–Ω–æ –∏ –≥–æ—Ä—å–∫–æ
–æ–±–ª–∞–∫–∞ –Ω–∞–¥ –ª–∏–º–∞–Ω–æ–º –ø—Ä–æ–Ω–µ—Å
–∏ —Ä–≤–∞–Ω—É–ª–∞—Å—å –æ—Ç –ø–∏—Ä—Å–∞ –º–æ—Ç–æ—Ä–∫–∞,
–∑–∞–¥–∏—Ä–∞—è –æ–±–≤–µ—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–æ—Å. ¬Ý
–ò —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ—Ç –∑–¥–µ—Å—å –æ–±–º–∞–Ω–∞,
—á—Ç–æ –¥–∞–ª—ë–∫–æ, –≤ —Ä–æ–¥–Ω—ã–µ –∫—Ä–∞—è
–Ω–∞–¥ –±–µ—Å—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω—ã–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–º –ª–∏–º–∞–Ω–∞
пролетела свобода моя…
¬Ý
–ê–Ω–∞–¥—ã—Ä—Å–∫–∏–π –ª–∏–º–∞–Ω
–î—É—à–∞ –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤
¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý –ü–∞–º—è—Ç–∏ –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–∞ –ú–∞–ª—è–≤–∏–Ω–∞,
¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—è –≥–∞–∑–µ—Ç—ã
¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬´–ú–∞–≥–∞–¥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –ø—Ä–∞–≤–¥–∞¬ª
–ù–∞—Å—Ç–∞–≤–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –Ω—ã–Ω—á–µ –≤ —Å–∏–ª–µ,
теперь наставникам почет…
–ú—ã –≤—ã–ø–∏–ª–∏ –∏ –∑–∞–∫—É—Å–∏–ª–∏
–Ω–∞ —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–π –ö–æ—Å—Ç–∏–Ω–æ–π –º–æ–≥–∏–ª–µ,
–∏ –≤–µ—Ç–µ—Ä –Ω–∞–º —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ —Å–µ—á–µ—Ç.
–ù—É —á—Ç–æ –∂–µ, –≤–æ—Ç –∏ –ø–æ–º—è–Ω—É–ª–∏,
—Å—É–º–µ–ª–∏ —Å –≥–æ—Ä–µ–º –ø–æ–ø–æ–ª–∞–º.
–ù–∞ –≥–ª–∏–Ω—É –º–µ—Ä–∑–ª—É—é –ø–ª–µ—Å–Ω—É–ª–∏
—Å–≤–æ—é –≤–∏–Ω—É, —Å–≤–æ—é —Ç–æ—Å–∫—É –ª–∏
–∏ –∑–∞—Å–ø–µ—à–∏–ª–∏ –ø–æ –¥–µ–ª–∞–º.
Дела… В редакционной спешке
–º—ã –ø–æ –Ω–∞—á–∞–ª—É –∫–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å
—Ç–µ—Ä–ø–µ–ª–∏ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞—Å–º–µ—à–∫–∏
–∑–∞ –Ω–µ—É–º–µ–Ω–∏–µ –∏ –ª–µ–Ω—å.
–ò, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –∏–∑–ª–∏—à–Ω–µ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ,
–∏–∑–ª–∏—à–Ω–µ –≤—ä–µ–¥–ª–∏–≤–æ –ø–æ–¥ —á–∞—Å
–≤–Ω—É—à–∞–ª –æ–Ω –Ω–∞–º –ø–æ–Ω—è—Ç—å–µ –¥–æ–ª–≥–∞
–∏ —Å—Ç—Ä–æ—á–µ–∫ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –æ—Ç –Ω–∞—Å.
–Ý—ã–±–∞–∫, –æ—Ö–æ—Ç–Ω–∏–∫, –≤—ã–ø–∏–≤–æ—Ö–∞,
–¥—É—à–∞ –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤,
–æ–Ω –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª –æ—Ç–Ω—é–¥—å –Ω–µ –ø–ª–æ—Ö–æ,
—á—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –Ý–æ–¥–∏–Ω–∞, —ç–ø–æ—Ö–∞,
–Ω–æ –∏–∑–±–µ–≥–∞–ª –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã—Ö —Å–ª–æ–≤.
–û–Ω –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ –º–æ–∂–µ—Ç –æ–±–µ—Å—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å
–∏—Ö —á–∏—Å—Ç–æ—Ç—É –∏ –≤—ã—Å–æ—Ç—É
–ø—Ä–µ—Å—ã—Ç–∏–≤—à–∞—è —á—Ä–µ–≤–∞ —á–µ–ª—è–¥—å
–∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É —Å–ø–µ—à–∏–ª –Ω–∞—Ü–µ–ª–∏—Ç—å
нас, молодых, на простоту…
–ê –±—ã–ª–æ –≤–µ–¥—å –µ–º—É –∑–∞ —Å–æ—Ä–æ–∫,
–∫–æ–≥–¥–∞ –æ–≥–Ω–µ–º –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –≤—å—é–≥
—Ç–∞–∏–≤—à–∏–π—Å—è –≤ –≥—Ä—É–¥–∏, –∫–∞–∫ –≤–æ—Ä–æ–≥,
–≥–µ—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π —Ä–æ–∫–æ–≤–æ–π –æ—Å–∫–æ–ª–æ–∫
—É —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ —à–µ–≤–µ–ª—å–Ω—É–ª—Å—è –≤–¥—Ä—É–≥.
–ò –≥–æ—Ä–¥—ã–π, –Ω–µ —Ç–µ—Ä–ø–µ–≤—à–∏–π –ª–µ—Å—Ç–∏,
–Ω–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–≤—à–∏–π –ø–æ–ª—É–º–µ—Ä
–æ–Ω —É–º–µ—Ä –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—á–µ–º –º–µ—Å—Ç–µ,
–Ω–µ —É—Ä–æ–Ω–∏–≤ –ø–µ—Ä–∞ –∏ —á–µ—Å—Ç–∏,
–≤–Ω–æ–≤—å –ø–æ–¥–∞–≤–∞—è –Ω–∞–º –ø—Ä–∏–º–µ—Ä.
–ó–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∞, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –ø–æ–≤–µ—Å—Ç—å.
–ê –æ–Ω, —É–ø—Ä—è–º—ã–π, –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å,
–≤ –∫–æ–ª—ã–º—Å–∫–æ–π –º–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç–µ –ø–æ–∫–æ—è—Å—å,
внушает нам, что значит – совесть,
—Å–≤–æ–∏–º –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ–º —Å—Ä–µ–¥—å –Ω–∞—Å. ¬Ý¬Ý
¬Ý
–ù–æ—á—å –Ω–µ —Ä–µ–∫–µ –ê–Ω–∞–¥—ã—Ä—å
¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý ¬Ý –ï–≤–≥–µ–Ω–∏—é –Ý–æ–∂–∫–æ–≤—É
–ó–∞ –º–∏–≥ –¥–æ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω—å—è —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã
–Ω–∞ –Ω–∞—à–µ–π –ª–æ–¥–∫–µ —Å—Ä–µ–∑–∞–ª–æ –≤–∏–Ω—Ç—ã.¬Ý
–Ý–µ–∫–∞ –ê–Ω–∞–¥—ã—Ä—å. –û—Å–µ–Ω—å. –ú–µ–ª–∫–æ–≤–æ–¥—å–µ.
–ß—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –±—É–¥–µ–º, –í–∞—à–µ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥—å–µ?
«Их благородье», Кава*-моторист
–±—ã–ª –æ—Ç –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã —Ö–º—É—Ä –∏ –Ω–µ —Ä–µ—á–∏—Å—Ç.
–Ý–µ–∫–∞ –¥—ã—à–∞–ª–∞ –≥–ª—É—Ö–æ –∏ –ø—Ä–æ–º–æ–∑–≥–ª–æ ‚Äì¬Ý
–≤ –Ω–µ–π –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞ —É–≤—è–∑–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ –≤–µ—Å–ª–∞.
–ò –ø–æ–Ω—è–ª —è —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –Ω–∞—Ä–∞–≤–Ω–µ
–æ–≥–Ω—è –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω—å–µ,
–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –º–∏–º–æ–ª–µ—Ç–Ω–æ–π –±—ã—Å—Ç—Ä–∏–Ω–µ
–Ω–∞—Å —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–Ω–æ–µ —Ç–µ—á–µ–Ω—å–µ.
–ö—É–¥–∞ –Ω–∞–º –ø–ª—ã—Ç—å? –ö–æ–ª—ã—à–µ—Ç—Å—è —Ä–µ–∫–∞,
–∏ –¥–∞–∂–µ —Ç–∞–º, –≥–¥–µ –º–µ–∂ –ø–æ–ª–æ–≥–∏—Ö —Å–æ–ø–æ–∫
—Ä–∞—Å–∫–∏–Ω—É–ª—Å—è –Ω–µ–≤–∏–¥–∏–º—ã–π –ø–æ—Å–µ–ª–æ–∫,
–Ω–∏ –∑–≤—É–∫–∞ –≤ —Ç–∏—à–∏–Ω–µ, –Ω–∏ –æ–≥–æ–Ω—å–∫–∞.
–í–æ–∫—Ä—É–≥ –¥–æ–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –º–≥–ª–∞.
–í –Ω–µ—ë –≤—Å–µ—Ü–µ–ª–æ –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∞—Å—å —Ç—É–Ω–¥—Ä–∞.
–û–Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∏ —è—â–µ—Ä–∞—Ö –±—ã–ª–∞,
–∫–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å —É—Ç—Ä–æ?
–ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏—Ç —É—Ç—Ä–æ –Ω–∞ –ó–µ–º–ª–µ?
–ò–∑ –º—Ä–∞–∫–∞ –¥–æ–∫–µ–º–±—Ä–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —ç–æ–Ω–∞
–∫—É—Ä–∞–∂–∏—Ç—Å—è, –∑–æ–≤–µ—Ç –Ω–∞—Å –ø–æ–∏–º–µ–Ω–Ω–æ
чукотский дьявол – сказочный Келе.
–ê –≤ –ª–æ–¥–∫–µ –Ω–∞—à–µ–π –≤–æ–≤—Å–µ –∑–∞–Ω–µ–º–æ–≥
бессмысленный транзисторный божок…
–ò –∑–∞—è–≤–ª—è–µ—Ç –ö–∞–≤–∞: ¬´–î–æ–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å!
–ú–æ—è –±–∞—à–∫–∞ –æ–¥–Ω–∞ –Ω–∞ –≤—Å–µ –∑–∞–±–æ—Ç—ã!
–ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–µ –¥–∏–∑–µ–ª–∏—Å—Ç,
–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø—å–µ—Ç –ø–æ —Å–ª—É—á–∞—é —Å—É–±–±–æ—Ç—ã.
–ò –Ω—ã–Ω—á–µ —Å –≤–∞–º–∏ —è –ø–æ–µ—Ö–∞–ª –∑—Ä—è ‚Äì¬Ý
–Ω–µ –≤—ã–ø–∏–≤–∫–∏ –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–æ–π, –Ω–∏ –º–∞—Ö–æ—Ä–∫–∏,
–∏ –Ω–µ–∫–æ–º—É –Ω–∞–ª–∞–¥–∏—Ç—å –¥–∏–∑–µ–ª—è,
пустить электростанцию в поселке...»
–ü—Ä–æ–Ω–∏–∑—ã–≤–∞—è —Å—É–º—Ä–∞–∫ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è,
–≤–∑–≤–∏–ª–∞—Å—å —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞. –ò–∑ –±–∞–≥—Ä–æ–≤–æ–π —Ä–∞–Ω–∫–∏
–≤–¥—Ä—É–≥ –ø—Ä–æ–ª–∏–ª–∞—Å—å –Ω–µ–¥–æ–ª–≥–∞—è –∑–∞—Ä—è
–Ω–∞ –¥–æ–º–∏–∫–∏, –±–∞—Ä–∞–∫–∏ –∏ —è—Ä–∞–Ω–≥–∏.
–ü—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—è –∂–µ–ª–∞–Ω–Ω—ã–π —ç—Ç–æ—Ç –≤–∏–¥,
–æ–±–µ—Ç–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –∫—Ä–∞–π, –ª—é–±–∏–º—ã–π –º–Ω–æ—é,
–≤–æ–≤—Å—é –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –∑–∞–ø–∞—Å–Ω—ã–π –≤–∏–Ω—Ç,
–∑–∞–∫–ª–æ–∫–æ—Ç–∞–ª –∑–∞ –ª–æ–¥–æ—á–Ω–æ–π –∫–æ—Ä–º–æ—é.
–ò –≤—Å–∫–æ—Ä–µ, –∫–∞–∫ —Å–æ–≤–µ—Ç—É—é—Ç –≤—Ä–∞—á–∏,
–¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω—ã–º —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –∏–∑–≥–æ–Ω—è–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–¥—É
—è, –æ–∑–∞—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–ª–∞–º–µ–Ω–µ–º —Å–≤–µ—á–∏,
–∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –≤–æ–≤–µ–∫–∏ –Ω–µ –∑–∞–±—É–¥—É,
–ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å–≤–µ—Ç–∞ –∂–∞–∂–¥–∞–ª –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–∏–≥!
А Кава – черт возьми Его величество –
–ø–æ —Å–ª—É—á–∞—é —Å—É–±–±–æ—Ç—ã –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫
—Ä–∞—Å—Ö–æ–¥–æ–≤–∞—Ç—å –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–µ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ.
–Ø —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤, —á—Ç–æ —Å—É–º–µ–ª —Å–µ–±–µ –ø–æ–º–æ—á—å,
–∏ —á—Ç–æ –≤ —á—É–∫–æ—Ç—Å–∫–æ–º —Å—É–º—Ä–∞–∫–µ —Å—Ç–µ—Ä–∏–ª—å–Ω–æ–º
–Ω–µ –≤–æ—Å–∫–æ–º, –Ω–æ —Ö–æ—Ç—è –±—ã —Å—Ç–µ–∞—Ä–∏–Ω–æ–º
–≤ –º–æ—é —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥—å –ø—Ä–æ–ª—å–µ—Ç—Å—è —ç—Ç–∞ –Ω–æ—á—å.
*Кава (чукотск.) – быстрый, ловкий.
¬Ý
–ò–∑ —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –±–ª–æ–∫–Ω–æ—Ç–∞
–ü—É—Ä–≥–∞ –ø—Ä–∏—Ç–∏—Ö–ª–∞. –°—Ç–µ–ª–µ—Ç—Å—è –ø–æ–∑–µ–º–∫–∞
–ø–æ –∫—Ä—ã—à–∞–º –∑–∞–ø–æ–ª—è—Ä–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–∞,
–Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –ø–æ—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏—Å—å —à–∞–≥–∏.
–î–∞–≤–Ω–æ –ø–æ—Ä–∞! –ü—Ä–æ—à–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ–¥–µ–ª—è,
–∏ –≥–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∏–∏—Å–∫–æ–≤–æ–≥–æ –æ—Ç–µ–ª—è
–Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –æ–¥–∏—á–∞–ª–∏ –æ—Ç –ø—É—Ä–≥–∏.
–ß—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å? –ò —Å—É—Ä–æ–≤—ã–π —Ç–æ—Ä–≥–∏–Ω—Å–ø–µ–∫—Ç–æ—Ä,
–∏ –ø–æ–∂–∏–ª–æ–π –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫-–ª–µ–∫—Ç–æ—Ä,
–∏ —è, –≥–∞–∑–µ—Ç—á–∏–∫, –≤—Å–µ –∏–∑–¥–∞–ª–µ–∫–∞,
–ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞—è —Å–Ω–µ–∂–Ω—É—é –±–ª–æ–∫–∞–¥—É,
–ø—å–µ–º —á–∞–π –∏ –æ—Ç –±–µ–∑–¥–µ–ª—å—è –¥–æ —É–ø–∞–¥—É
–∏–≥—Ä–∞–µ–º –≤ –ø–æ–¥–∫–∏–¥–Ω–æ–≥–æ –¥—É—Ä–∞–∫–∞.
–ù–æ –Ω–∞–º, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º, –∑–∞–ª–µ—Ç–Ω—ã–º,
–æ—Ç –∂–µ–Ω –∏ –æ—Ç –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–º,
–Ω–µ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–∞—Ç—å –∫ –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–º —á—É–¥–µ—Å–∞–º.
–ê –ø–æ –∫–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ —Å–±–∏–ª—Å—è —Å –∫—É—Ä—Å–∞
–∏ —Å—é–¥–∞ –ø–æ–ø–∞–ª –∑–∞–≤—Å–∫–ª–∞–¥–æ–º –£–Ý–°–∞*,
–Ω–µ –∑–Ω–∞–µ–º –º—ã –∏ –æ–Ω –Ω–µ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç —Å–∞–º.
–û–Ω –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω—å–µ —à–æ–∫–∞ –∏ –Ω–∞–¥–ª–æ–º–∞,
–≤ –ø—è—Ç–∏ —à–∞–≥–∞—Ö –æ—Ç —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞,
—Å–¥–∞–≤–∞—è –∫–∞—Ä—Ç—ã, –ø—Ä–∏—á–∏—Ç–∞–µ—Ç –∑–ª–æ:
¬´–°–∫–æ—Ä–µ–µ —Ä–∞—Å–∫–æ–ø–∞–ª –±—ã –Ω–∞ –±—É–ª—å–¥–æ–∑–µ—Ä!
–ö–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ–µ–ª –º–Ω–µ —ç—Ç–æ—Ç –ø–∏–∫–∏-–∫–æ–∑—ã—Ä—å,
мне никогда на пиках не везло!»
А торгинспектор заклинает: «Кайся!»
–ê —Ç–æ—Ç —Å –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–∞–ª—å—Ü–∞
–Ω–µ —Å–≤–æ–¥–∏—Ç –≥–ª–∞–∑ –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç —Ç–∏—à–∏–Ω—ã.
–í–µ–¥—å –ø—É—â–µ –≤—Å–µ—Ö —Ä–µ–≤–∏–∑–∏–π –∏ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–æ–∫
—Å—Ç—Ä–∞—à–∏—Ç—Å—è –æ–Ω —É–ø—Ä–µ–∫–æ–≤ –∏ –∏—Å—Ç–µ—Ä–∏–∫
своей «неуправляемой» жены.
«По женской части – я сама смиренность!
–ï–µ –Ω–µ–æ–±–æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è —Ä–µ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å
гнетет меня!..» И, видно, поделом,
–∫–æ–ª—å –≤ –∏—Å–∫—É–ø–ª–µ–Ω—å–µ –Ω–µ–≤–∏–Ω—ã –æ–Ω —Å–Ω–æ–≤–∞
—Å—Ç–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∫—Ä—É–≥ —Ç—É—Ä–Ω–∏—Ä–∞ –≤ –ø–æ–¥–∫–∏–¥–Ω–æ–≥–æ
достойно завершает под столом…
–û, –ø–∞–º—è—Ç—å —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –±–ª–æ–∫–Ω–æ—Ç–∞ ‚Äì¬Ý
—Å–∫–∏—Ç–∞–Ω–∏–π –±–µ—Å–ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–Ω—ã–π –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫!
–ü–æ—Ä–∞ –≤ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –í–µ—á–Ω–∞—è –∑–∞–±–æ—Ç–∞
–æ–ø—è—Ç—å –≤–∑—è–ª–∞ –º–µ–Ω—è –∑–∞ –≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω–∏–∫.
–ì–æ—Ç–æ–≤–ª—é—Å—å –≤ –ø—É—Ç—å –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–º–µ—á–∞—é,
—á—Ç–æ –≤ —Ä—é–∫–∑–∞–∫–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–∞–∑ –ø–æ–¥—Ä—è–¥
—Å –±–ª–æ–∫–Ω–æ—Ç–æ–º —Ä—è–¥–æ–º, —Ä—è–¥–æ–º —Å –ø–∞—á–∫–æ–π —á–∞—è
–∫–æ–ª–æ–¥–∞ –∫–∞—Ä—Ç –ª–µ–∂–∏—Ç, –∫–æ–ª–æ–¥–∞ –∫–∞—Ä—Ç.
–ù–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è –∏–∑ –≤—Å–µ—Ö –º–æ–∏—Ö –æ—à–∏–±–æ–∫,
–Ω–µ —Å–∞–º–∞—è –æ–ø–∞—Å–Ω–∞—è –∏–∑ –±–µ–¥ ‚Äì¬Ý
–∫–æ–ª–æ–¥–∞ –∫–∞—Ä—Ç, –∂–∏–≤—É—á–∏–π –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç–æ–∫,
—Ç—ã –≤–Ω–æ–≤—å —Å–æ –º–Ω–æ–π, —è —Ä–∞–¥ —Ç–µ–±–µ, –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç!
–Ø –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è —Å–Ω–æ–≤–∞
—Ç–µ–±–µ –ª–∏, –º–Ω–µ –ª–∏ –≤ –¥—Ä—É–∂–µ—Å–∫–æ–º –∫—Ä—É–≥—É
–Ω–µ —Ä–∞–∑, –Ω–µ –¥–≤–∞,
—Å—Ä–∞–∂–∞—è—Å—å –≤ –ø–æ–¥–∫–∏–¥–Ω–æ–≥–æ,
–≥–æ–Ω—è—Ç—å —á–∞–∏ –∏ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞—Ç—å –ø—É—Ä–≥—É.
–ù–∞–º –≤—Å–µ–º —Å –∏–∑–±—ã—Ç–∫–æ–º —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç –Ω–µ–ø–æ–≥–æ–¥—ã,
–∏ –º—ã –µ—â–µ —Å–æ–π–¥–µ–º—Å—è —É —Å—Ç–æ–ª–∞
–æ—Ç–Ω—é–¥—å –Ω–µ —Ä–∞–¥–∏ –∫–∞—Ä—Ç–æ—á–Ω–æ–π –∫–æ–ª–æ–¥—ã ‚Äì¬Ý
–≤–æ –∏–º—è –¥—Ä–∞–≥–æ—Ü–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–µ–ø–ª–∞.
–ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞–≤–∞–Ω—å–µ–º
–Ω–∞–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å
–∏ —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–º –°–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º —Å–∏—è–Ω—å–µ–º
–≤–Ω–æ–≤—å –æ–∑–∞—Ä–µ–Ω –Ω–∞—à –ø–æ–≤—Å–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã–π –ø—É—Ç—å.
*–£–Ý–° ‚Äì —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ —Å–Ω–∞–±–∂–µ–Ω–∏—è.¬Ý
¬Ý
–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫: –ö. –ü–æ—Ç–æ—Ä–æ–∫–∞.