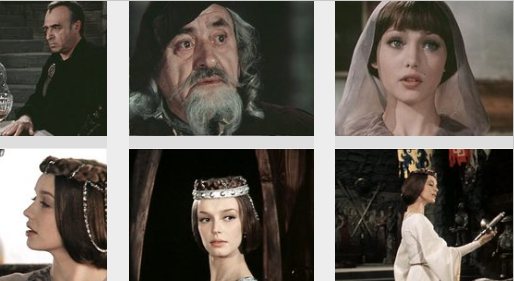«Горчайшие цветы крапивы…»
«Горчайшие цветы крапивы…»

–ê–ø—Ä–µ–ª—å –≤ —è–Ω–≤–∞—Ä–µ
–ö–∞–ø–ª–µ—Ç —Å –∫—Ä—ã—à, –∏ —Ä—É—á—å–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ
–∏–∑—É–º–ª—è—é—Ç —Å–æ–±–∞–∫ –∏ –º–∞–ª—å—á–∏—à–µ–∫.
–ù—É –∫ —á–µ–º—É –Ω–∞–º –∞–ø—Ä–µ–ª—å –≤ —è–Ω–≤–∞—Ä–µ
–∏ —Ç–µ–ø–ª—è –Ω–µ—É—á—Ç–µ–Ω–Ω—ã–π –∏–∑–ª–∏—à–µ–∫?
–≠—Ç–∞, –∫–∞–∂—É—â–∞—è—Å—è, –≤–µ—Å–Ω–∞,
—Å –≤–µ–∫–æ–≤—ã–º–∏ –∑–∞–∫–æ–Ω–∞–º–∏ —Å—Å–æ—Ä—è—Å—å,
–ø—Ä–æ–±—É–¥–∏–ª–∞—Å—å, –∫–∞–∫ —á—å—è-—Ç–æ –≤–∏–Ω–∞,
–∫–∞–∫ –±–æ–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ—Ö–º–µ–ª—å–Ω–∞—è —Å–æ–≤–µ—Å—Ç—å.
–í—Å–µ –≤–µ–¥—å –∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç,
–∏ –∑–∏–º–∞ —Å–≤–æ—é –∫–∞—à—É –¥–æ–≤–∞—Ä–∏—Ç,
–∏ —Ä—É—á—å–∏ –∏—Å–∫–æ–≤–µ—Ä–∫–∞–µ—Ç –ª–µ–¥,
–∏ –ø—Ä–æ—Ç–∞–ª–∏–Ω—ã —Å–Ω–µ–≥–æ–º –∑–∞–≤–∞–ª–∏—Ç.
–ù–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏ –ª—é–¥–∏ –≤–µ—Å–Ω–µ,
–ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞—è –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—É—é —Å—Ç—É–∂—É,
–∫–∞–∫ –∏ —Ç—ã –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∞ –º–Ω–µ,
–∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª —Ç–µ–±–µ –¥—É—à—É.
–ü–æ–∂–∏–º–∞–ª–∞ –ø–ª–µ—á–∞–º–∏: ¬´–°–º–µ—à–Ω–æ–π!
–≠—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∫–∞ —Ç–≤–æ—è, –∞ –Ω–∞ –¥–µ–ª–µ
–Ω–∞–¥–æ –Ω–µ—á—Ç–æ –∏–º–µ—Ç—å –∑–∞ –¥—É—à–æ–π
повесомей и звонче капели!..»
–≠—Ç–æ—Ç –≤–µ—á–Ω—ã–π –∂–∏—Ç–µ–π—Å–∫–∏–π –±—É–∫–≤–∞—Ä—å
—Ç—ã –¥–∞–≤–Ω–æ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –ø—Ä–æ–ª–∏—Å—Ç–∞–ª–∞.
–ù–æ, –Ω–µ –±—É–¥—å —Ñ–∞–Ω—Ç–∞–∑–µ—Ä —è –∏ –≤—Ä–∞–ª—å,
—á—Ç–æ –±—ã –ø–æ–º–Ω–∏–ª–∞ —Ç—ã –ø—Ä–æ —è–Ω–≤–∞—Ä—å
–∏ –Ω–∞–¥ —á–µ–º –±—ã —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ö–æ—Ö–æ—Ç–∞–ª–∞?¬Ý
¬Ý
–ê—Ä–≥–æ–Ω–∞–≤—Ç—ã
–ò—Ç–∞–∫, –¢—Ä–æ—è–Ω—Å–∫–∞—è –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∞
–∏—Å—á–µ—Ä–ø–∞–Ω–∞. –¢—Ä—É–±—è—Ç –æ—Ä–ª—ã,
–∏ –∑–ª–∞—Ç–æ–º —Å—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ –ü—Ä–∏–∞–º–∞
–∫–∞—Ä–º–∞–Ω—ã –≥—Ä–µ–∫–æ–≤ —Ç—è–∂–µ–ª—ã.
–í—Å–µ –ø–æ–¥–≤–∏–≥–∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—ã
–∏ —á—Ç–æ –∂–µ–ª–∞–Ω–Ω–µ–π —Ç–∏—à–∏–Ω—ã,
–∫–æ–ª—å –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞
–¥–æ–º–æ–π –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–∞—è –ï–ª–µ–Ω–∞?
–ù–æ –≤—Å–µ –Ω–µ–ø—Ä–æ—á–Ω–æ, –≤—Å–µ –æ—Ç—á–∞—Å—Ç–∏.
–î–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–Ω—è—è –≤–æ–π–Ω–∞,
–¥–æ–±—ã—á–∞, —Å–ª–∞–≤–∞, —Ç–∏—à–∏–Ω–∞
–Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –∞—Ö–µ–π—Ü–∞–º —Å—á–∞—Å—Ç—å—è.
–ü—Ä–æ—Å—Ç–∏–º –±–µ—Å–ø–æ–º–æ—â–Ω—ã–º –±–æ–≥–∞–º,
–æ–Ω–∏ –Ω–∏ –≤ —á–µ–º –Ω–µ –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã.
Но счастья – нет! И аргонавты
–ø–ª—ã–≤—É—Ç –∫ –¥–∞–ª–µ–∫–∏–º –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º...
–¢–∞–∫ –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–¥–∏–ª —è –∏—Ö –ø—É—Ç–∏,
—Ç–∞–∫ –ø–æ–Ω—è–ª –±—Ä–∞–Ω–Ω—É—é –Ω–∞—É–∫—É.
–ö —á–µ–º—É –µ—â–µ —Ç–∞–∫—É—é –º—É–∫—É
—á–µ—Ä–µ–∑ —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏—è –Ω–µ—Å—Ç–∏?
–ù–æ, —á—Ç–æ–± –Ω–µ–≤–µ–∂–µ–π –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–ª—ã—Ç—å,
–≤ –ö–æ–ª—Ö–∏–¥—É –∑–Ω–æ–π–Ω—É—é –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–≤,
—Å—Ç–æ—é –∏ –∂–¥—É –æ—Ç–≤–∞–∂–Ω—ã—Ö –≥—Ä–µ–∫–æ–≤,
«Зачем пришли?» – хочу спросить.
¬Ý
–£–ª–ª–∏—Å
–ù–µ –±—É–¥—å —ç—Ç–æ–π —Å–∫–∞–∑–∫–∏, —Ç–æ —á—Ç–æ–± —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤ —Å–Ω–µ?
–ê —Ç–∞–∫ –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—Å–Ω–∏–ª–∞—Å—å –º–µ–ª–æ–¥–∏—è –ø–µ—Å–Ω–∏ –ø—Ä–æ—â–∞–ª—å–Ω–æ–π,
–∏ —Ä—ã–∂–∏–π –∑–≤–µ—Ä–µ–∫, —á—Ç–æ, –∫–∞–∫ –ø–ª–∞–º—è, —Å–∫–æ–ª—å–∑–∏—Ç –ø–æ —Å–æ—Å–Ω–µ,
–∏ –±–µ–ª—ã–π –∫–æ—Ä–∞–±–ª—å, –ø–æ–∫–∏–¥–∞—é—â–∏–π –±–µ—Ä–µ–≥ –ø–µ—Å—á–∞–Ω—ã–π.
¬´–£–ª–ª–∏—Å, –¥–æ —Å–≤–∏–¥–∞–Ω—å—è! –£–ª–ª–∏—Å, –¥–∞ —Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç —Ç–µ–±—è –ë–æ–≥!
–°–∫–ª–æ–Ω–∏–≤—à–∏—Å—å –Ω–∞–¥ –ø—Ä—è–ª–∫–æ–π, —è —Å–æ–Ω –ø–æ–∑–∞–±—É–¥—É –∏ –æ—Ç–¥—ã—Ö,
–ø–æ–∫—É–¥–∞ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—å —Ç–≤–æ–π –≤ —Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è –≤–æ–¥–∞—Ö
и пыль твоих странствий не ляжет на милый порог...»
–ö–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ? –í—Å–µ–≥–¥–∞. –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞. –û–≥–ª—è–Ω–∏—Å—å:
—Ç–≤–æ–π —Å–ª–µ–¥ –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—Ç, –∏—Å—á–µ–∑, —Ä–∞—Å—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª—Å—è –≤–æ –º—Ä–∞–∫–µ.
И только лишь ветер в снастях повторяет: «Вернись!»,
–∏ —á—É–¥—è—Ç—Å—è —Å–ª–µ–∑—ã –≤ —Ä–æ—Å–µ, –æ—Å—ã–ø–∞—é—â–µ–π –º–∞–∫–∏.
–ù–µ –±—É–¥—å —ç—Ç–æ–π —Å–∫–∞–∑–∫–∏, —Ç–æ –∫–∞–∫ –±—ã —è –º–æ–≥ —É–º–µ—Ä–µ—Ç—å?
–ê —Ç–∞–∫ –≤ —ç—Ç–æ–º –º–∏—Ä–µ, —á—Ç–æ –º–Ω–æ—é –Ω–∞–≤–µ–∫–∏ –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç.
–ò —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ —Ç–≤–æ–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —É—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –≥–æ—Ä–µ—Ç—å,
–∏ –≥—É–±—ã —Å—É—Ö–∏–µ —Ç–≤–æ–∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –æ—Å—Ç—ã–Ω—É—Ç.
И тонкая пряжа – исток бесконечных дорог
—Å—Ç—Ä—É–∏—Ç—Å—è, –∫–∞–∫ –≤—Ä–µ–º—è, —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è —Ç–∫–∞–Ω—å—é –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞.
–ò –≤–µ—Ç—Ä–æ–º –≤ —Å–Ω–∞—Å—Ç—è—Ö –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è –±–æ–ª—å –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω—Å—Ç–≤–∞:
«Уллис, до свиданья! Уллис, да хранит тебя Бог!..»
¬Ý
–ò–≥—Ä—É—à–µ—á–Ω—ã–π –≥–æ—Ä–æ–¥
–í –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –∏–≥—Ä—É—à–µ—á–Ω—ã–π –≥–æ—Ä–æ–¥.
–û–Ω –º–æ–≥ –±—ã –∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –∂–∏–≤–µ–π,
¬Ý–Ω–æ ‚Äì –º–æ—Ä–æ—Å—å, –ø—Ä–µ–¥—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π —Ö–æ–ª–æ–¥,
—Ç–æ—Å–∫–∞ –ª—é—Ç–µ—Ä–∞–Ω—Å–∫–∏–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–µ–π.
–ò –≤—Å—è —ç—Ç–∞ —Å—ã—Ä–æ—Å—Ç—å —Å–æ—á–∏—Ç—Å—è,
—Å—Ç–µ–∫–∞–µ—Ç –Ω–∞ —É–ª–∏—á–Ω—ã–π —Ö–ª–∞–º
–ø–æ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π –µ–≥–æ —á–µ—Ä–µ–ø–∏—Ü–µ,
–ø–æ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–Ω–∏–º —Å—Ç–µ–Ω–∞–º.
Вот – спящее средневековье,
вот – памятник тем, кто в бою
–ø–ª–∞—Ç–∏–ª–∏ —Å–≤–æ–±–æ–¥–æ–π –∏ –∫—Ä–æ–≤—å—é
–∑–∞ –Ω–æ–≤—É—é –≤–µ—Ä—É —Å–≤–æ—é.
–ö–∞–∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–æ –ø–æ–¥ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ–º!
–¢—ã –º–æ–≥ –±—ã –ø–æ–¥ —Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–º —Ç—é—Ä—å–º—ã
—Å –∞–º–≤–æ–Ω–∞ —à–≤—ã—Ä–Ω—É—Ç—å –∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–Ω–æ—Å—Ü–∞–º
–Ω–∞–ª–∏—Ç—ã–µ –≥–Ω–µ–≤–æ–º –ø—Å–∞–ª–º—ã?..
–ü–æ—Å–ª—É—à–Ω–æ –∏ –±–ª–∞–≥–æ–≥–æ–≤–µ–π–Ω–æ
–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —É—Ç—Ä–æ –ø–æ–¥—Ä—è–¥
–≤–¥—ã—Ö–∞—é —è –∑–∞–ø–∞—Ö –≥–ª–∏–Ω—Ç–≤–µ–π–Ω–∞,
–∫–æ—Ñ–µ–π–Ω—ã–π –≥—É—Å—Ç–æ–π –∞—Ä–æ–º–∞—Ç.
–° —É–ª—ã–±–∫–æ–π —Å–ª–µ–∂—É –∑–∞ –º–æ–Ω–∞—Ö–æ–º,
–ß—Ç–æ, –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç—è—Å—å –∫–æ–µ-–∫–∞–∫,
—Å –∞–ø–æ–∫–∞–ª–∏–ø—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–º
—É —Å—Ç–æ–π–∫–∏ –ª–∞–∫–∞–µ—Ç –∫–æ–Ω—å—è–∫.
–ò –º–Ω–∏–º–æ–µ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≤–µ–∫–æ–≤—å–µ
–ø–æ –¥—Ä—è—Ö–ª–æ–π —Å–≤–æ–µ–π –º–æ—Å—Ç–æ–≤–æ–π
—Å—Ç–µ–∫–∞–µ—Ç –Ω–µ –≤–µ—Ä–æ–π, –Ω–µ –∫—Ä–æ–≤—å—é,
–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –≤–æ–¥–æ–π –¥–æ–∂–¥–µ–≤–æ–π...¬Ý
¬Ý
***
–ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é –≥–æ—Ä–æ–¥ —É—Ç–æ–º–ª–µ–Ω,
–Ω–µ–ª–µ–ø–æ –æ—Ö—Ä–æ—é —Ä–∞—Å–∫—Ä–∞—à–µ–Ω
–∏ –Ω–∏ —Ç–æ–±–æ–π –Ω–µ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω,
–Ω–∏ –º–Ω–æ—é –Ω–µ –æ–±–µ—Å–∫—É—Ä–∞–∂–µ–Ω.
–ö—É–¥–∞ —É–∂ –Ω–∞–º! –°–æ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω
–ø–æ–∂–∞—Ä—ã, –≤–æ–π–Ω—ã, –Ω–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω—å—è
–∏ –¥–∞–∂–µ –ª–µ–≥–∫–æ–≥–æ –≤–æ–ª–Ω–µ–Ω—å—è
–Ω–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –æ–Ω.
–û–¥–∏–Ω –≥–ª—É—Ö–æ–π, —Å–ª–µ–ø–µ—Ü –¥—Ä—É–≥–æ–π,
—Ç–æ—Ç –ø–∞—Ä–∞–Ω–æ–∏–∫, —Ç–æ—Ç –ø—Ä–æ–ø–æ–π—Ü–∞,
–∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π –∑–∞–Ω—è—Ç —Å–∞–º —Å–æ–±–æ–π
–∏ —Å–∞–º –≤ —Å–µ–±–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑–±–µ—Ä–µ—Ç—Å—è.
–ò –≥–æ—Ä–æ–¥ –º–µ—á–µ—Ç—Å—è, —Å–∫—Ä–∏–ø—è
–Ω–∞ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞—Ö —Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∞–º–∏,
–∏ —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞–µ—Ç —Å–∞–º —Å–µ–±—è
–ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏.
¬Ý
–ö—Ä–∞–ø–∏–≤–Ω—ã–π –º–µ–¥
–ì–æ—Ä—á–∞–π—à–∏–µ —Ü–≤–µ—Ç—ã –∫—Ä–∞–ø–∏–≤—ã
—Å—Ä–µ–¥–∏ –∏–Ω—ã—Ö —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤ –∑–µ–º–ª–∏
–Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å, –±—ã—Ç—å –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã,
но что поделать – расцвели.
–¶–≤–µ—Ç–µ–Ω—å–µ –Ω–µ –¥–∞–µ—Ç—Å—è –¥–∞—Ä–æ–º,
–≤–æ—Ç –∏ –æ–Ω–∏ –≤ –º–æ–µ–º —Å–∞–¥—É
–≥–æ—Ç–æ–≤—ã –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –Ω–µ–∫—Ç–∞—Ä–æ–º
–∑–∞ —ç—Ç–∏ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –∏ –±–µ–¥—É.
–ù–æ, –∑–∞—á–∞—Ä–æ–≤—ã–≤–∞—è —Ä–æ—Å—ã
–∏ –ø—á–µ–ª–∞–º –≥–æ–ª–æ–≤—ã –∫—Ä—É–∂–∞,
–ø–ª–æ–¥–∏—Ç –ø–æ–≤—Å—é–¥—É –º–µ–¥–æ–Ω–æ—Å—ã
–≤–µ—Å–Ω—ã –±–µ—Å–ø–µ—á–Ω–∞—è –¥—É—à–∞.
–ö–∞–∫–æ–µ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã,
какое царство красоты –
–ª—É–≥–∞, –ø–æ–ª—è –∏ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥—ã,
–ø–æ–ª—è–Ω—ã, –ø–∞—Ä–∫–∏ –∏ —Å–∞–¥—ã!
–ù–æ —ç—Ç–æ –≤—Å–µ –Ω–µ –¥–ª—è –∫—Ä–∞–ø–∏–≤—ã.
–ï–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥–∞, —Ö–æ—Ç—å —É–º—Ä–∏,
–ª–µ—Å–Ω—ã–µ —Ç–∞–π–Ω—ã–µ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏,
–∑–∞–¥–≤–æ—Ä–∫–∏, —Å–≤–∞–ª–∫–∏, –ø—É—Å—Ç—ã—Ä–∏.
–ö—Ä–∞–ø–∏–≤–∞, –ø–∞–¥—á–µ—Ä–∏—Ü–∞ –ª–µ—Ç–∞,
–¥—É—Ä–Ω—É—à–∫–∞, –∂–≥—É—á–∫–∞, –∞–Ω–µ–∫–¥–æ—Ç.
–ò –≤—Å–µ –∂–µ, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ,
–µ—Å—Ç—å –≤ —É–ª—å—è—Ö –∏ –∫—Ä–∞–ø–∏–≤–Ω—ã–π –º–µ–¥!
–ú–æ–π —Å–∞–¥ –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞—Ä–æ—Å –∫—Ä–∞–ø–∏–≤–æ–π.
–û —Ç–æ–º –Ω–∏–º–∞–ª–æ –Ω–µ —Å–∫–æ—Ä–±—è,
—è —Ä–∞–¥ –∏ –µ–π, –Ω–µ–ø—Ä–∏—Ö–æ—Ç–ª–∏–≤–æ–π,
–ø–æ—Ö–æ–∂–µ–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–µ–±—è.
–ò–∑ –ª–µ—Å–∞ –±–ª–∏–∂–Ω–µ–≥–æ –∑–∞ –¥–∞–Ω—å—é
—Å—é–¥–∞ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –∏ –≤—á–µ—Ä–∞
–ª–µ—Ç–∞–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥—Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–Ω–æ–π —Ä–∞–Ω—å—é
–æ–¥–Ω–∞ —É–≥—Ä—é–º–∞—è –ø—á–µ–ª–∞.
–¢—Ä—É–¥–∏–ª–∞—Å—å —Å —è–≤–Ω–æ–π –Ω–µ–æ—Ö–æ—Ç–æ–π,
–±—ã–ª –≥—É–ª –µ–µ —Ç—è–∂–µ–ª –∏ –∑–æ–ª.
–ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, –∫–∞—Ç–æ—Ä–∂–Ω–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π
–∑–æ–≤–µ—Ç—Å—è —ç—Ç–æ —Å—Ä–µ–¥–∏ –ø—á–µ–ª.
–ê —Ä—è–¥–æ–º —Ü–≤–µ—Ç –∏–Ω–æ–≥–æ —Å–æ—Ä—Ç–∞,
–ø–æ—Ä–∞ –∂–∞—Å–º–∏–Ω–∞ –Ω–∞—Å—Ç–∞–µ—Ç.
–ù–æ –≥–æ—Ä–µ—á—å—é —Å—Ç—Ä—É–∏—Ç—Å—è –≤ —Å–æ—Ç—ã
совсем иной – крапивный мед!
–ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –º—É–¥—Ä–∞—è –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞
–Ω–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∏—Ç —Å–µ–±—è –≤—Ä–µ–¥–∞
–∏ –ª–æ–∂–∫–æ–π –¥–µ–≥—Ç—è –±–æ—á–∫—É –º–µ–¥–∞
–Ω–µ –æ–±–µ—Å—Ü–µ–Ω–∏—Ç –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞.
–õ—é–±—ã–º —Ü–≤–µ—Ç–∞–º –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ —Ä–∞–¥–∞.
–ù–æ –∏—Å—Ç–æ—á–∞—é—Ç –Ω–µ—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç–∞
–∑–∞ –º–Ω–æ–≥–æ –ª—É–Ω –¥–æ –ª–∏—Å—Ç–æ–ø–∞–¥–∞
–Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–µ—á–∏ –∏ —è–¥–∞
–µ–µ –º–µ–¥–æ–≤—ã–µ —É—Å—Ç–∞.
¬Ý
–ö—Ä–∞—Å–Ω–∞—è –∫–Ω–∏–≥–∞
–î–Ω–µ–º –∏ –Ω–æ—á—å—é –≤ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –ø–∞–Ω–∏–∫–µ,
–æ—Ç–ª–æ–∂–∏–≤ –Ω–∞—Å—É—â–Ω—ã–µ –¥–µ–ª–∞,
—á–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –∑–æ–æ–ª–æ–≥–∏, –±–æ—Ç–∞–Ω–∏–∫–∏
–ø–æ–≤—Å–µ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ –±—å—é—Ç –≤ –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞.
–î–∞—Ä–≤–∏–Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω—ã–µ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–∫–∏,
–¥–æ–Ω–∫–∏—Ö–æ—Ç—ã –ø—Ä–µ—Ä–∏–π –∏ –±–æ–ª–æ—Ç
—Å–æ–∑–¥–∞—é—Ç –ø–æ–≤—Å—é–¥—É –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–∏
–∏ –±–µ—Ä—É—Ç –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É –Ω–∞ —É—á–µ—Ç.
–ú–Ω–æ–≥–∏–µ —É–∂–µ –ø–æ—á—Ç–∏ —á—Ç–æ —Å–µ–º—å—è–º–∏,
–∏—Å–∫—É–ø–∞—è –æ–±—â–∏–µ –≥—Ä–µ—Ö–∏,
–¥—Ä—É–∂–∞—Ç —Å –∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª–∞–º–∏ –∏ –∑–º–µ—è–º–∏,
–∏—Å—Ç–æ–≤–æ —Ä–∞–∑–≤–æ–¥—è—Ç –ª–æ–ø—É—Ö–∏.
–°–ª–∞–≤–Ω–æ, —á—Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–∞ –∑–∞ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ—é
–ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç —Å—Ç–æ–π–∫–∏–µ –ø—Ä–∞–≤–∞
–¥–∞–∂–µ –∑–¥–µ—Å—å, –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ—é
–ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–∏ –Ω–æ–≤–∞—è –≥–ª–∞–≤–∞...
–Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, –≤—ã—Ç–µ—Ä–ø–∏—Ç –±—É–º–∞–≥–∏ –ª–∏,
–Ω–æ –æ—Å–º–µ–ª—é—Å—å –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –æ —Ç–æ–º,
—á—Ç–æ–±—ã –∑–∞–Ω–µ—Å–ª–∏ –≤ –Ω–µ–µ –∏ –ú–∞—É–≥–ª–∏,
–≤—Å–∫–æ—Ä–º–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ–ª—á—å–∏–º –º–æ–ª–æ–∫–æ–º.
–î–ª—è –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–æ—à—É –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π –≥—Ä–∞–º–æ—Ç—ã,
–≤–∏–∂—É, —á—Ç–æ –ø–æ–¥ –Ω–∞—Ç–∏—Å–∫–æ–º –≥—Ä–æ—à–∞
–≤—ã–º–∏—Ä–∞—é—Ç –Ω–∞ –ó–µ–º–ª–µ, –∫–∞–∫ –º–∞–º–æ–Ω—Ç—ã,
–±–µ—Å–∫–æ—Ä—ã—Å—Ç—å–µ, –º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–æ, –¥—É—à–∞.
–í–µ–¥—å —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å-—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–µ —Å –∫–æ–≥–æ,
–µ—Å–ª–∏ –≤–¥—Ä—É–≥ –Ω–∞—Å–º–µ—à–Ω–∏–∫ –∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª
–ø–æ–ø–∞–¥–µ—Ç –ø–æ–¥ –ø—É–ª—é –±—Ä–∞–∫–æ–Ω—å–µ—Ä—Å–∫—É—é
–∏–ª–∏ —É–∑–∞–∫–æ–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –æ—Ç—Å—Ç—Ä–µ–ª.
–û–Ω, —á—Ç–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω –¥–∂—É–Ω–≥–ª—è–º, –∫–∞–∫ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤—É,
думая, что все это – игра,
–æ—Ö –∫–∞–∫ –Ω—É–∂–µ–Ω –±—É–¥–µ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤—É
–≤ —Å–∫—É–¥–Ω–æ–º –∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–µ –î–æ–±—Ä–∞!
¬Ý
–ù–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–µ
Плавбаза наша – польская мадам
—Å–∫–æ–ª—å–∑–∏—Ç –Ω–µ—É—Ç–æ–º–∏–º–æ –∫ —Ü–µ–ª–∏ –±–ª–∏–∑–∫–æ–π
–ø–æ –º–æ–ª–æ–¥—ã–º –æ—Ö–æ—Ç–æ–º–æ—Ä—Å–∫–∏–º –ª—å–¥–∞–º,
–∫–∞–∫ –Ý–æ–¥–Ω–∏–Ω–∞ –∫ –º–µ–¥–∞–ª—è–º –æ–ª–∏–º–ø–∏–π—Å–∫–∏–º.
–ê –ª–µ–¥–æ–∫–æ–ª —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç –≤–æ–∑–¥—É—Ö —Ä—Ç–æ–º:
¬´–ö—É–¥–∞ –∂–µ —Ç—ã —Ç–æ—Ä–æ–ø–∏—à—å—Å—è, –∫–∞–Ω–∞–ª—å—è?
–ü—à–µ –ø—Ä–∞—à–µ–º, –ø–∞–Ω–∏, –¥–µ—Å—è—Ç—å —Ç—ã—Å—è—á —Ç–æ–Ω–Ω ‚Äì¬Ý
–∏–∑—Ä—è–¥–Ω—ã–π –≤–µ—Å –¥–ª—è –ø–∞—Ä–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Ç–∞–Ω—å—è!
–ù–µ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∞–π –Ω–∞ –ø—è—Ç–∫–∏, –ø–æ–≥–æ–¥–∏!
Эх, незадача, был бы я моложе...»
–ü–ª–∞–≤–±–∞–∑–∞ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–µ—Ç: ¬´–ù–µ –≥—É–¥–∏,
–Ω–µ –ø—Ä–∏–±–µ–¥–Ω—è–π—Å—è, —Å—Ç–∞—Ä–∞—è –∫–∞–ª–æ—à–∞!
–í—Å–µ —Ö–∏—Ç—Ä–æ—Å—Ç–∏ —Ç–≤–æ–∏ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã –º–Ω–µ,
—Ç–µ–±–µ –≤–µ–¥—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –ø–æ–¥–æ–ª—å—à–µ
—Å —Ä—ã–±–∞—á–∫–æ—é –ø–æ–±—ã—Ç—å –Ω–∞–µ–¥–∏–Ω–µ.
–ê–ª–µ, —Ö–æ–ª–µ—Ä–∞ —è—Å–Ω–∞, –º—ã –Ω–µ –≤ –ü–æ–ª—å—à–µ!
–ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –±–µ–∑ –º–µ–Ω—è –∑–∞ –∫—Ä–æ–º–∫–æ–π –ª—å–¥–∞,
—É–ª–æ–≤–æ–º —â–µ–¥—Ä—ã–º –∑–∞–ø–æ–ª–Ω—è—è —Ç—Ä–∞–ª—ã,
—Å–∫—É—á–∞—é—Ç –ø—Ä–æ–º—ã—Å–ª–æ–≤—ã–µ —Å—É–¥–∞ ‚Äì¬Ý
–º–æ–∏ –æ—Ä—É–∂–µ–Ω–æ—Å—Ü—ã –∏ –≤–∞—Å—Å–∞–ª—ã.
–ê —á—É—Ç—å —é–∂–Ω–µ–µ ‚Äì —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∑–æ–≤–∏ ‚Äì¬Ý
–±–µ—Å—Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π —Ä—ã—Ü–∞—Ä—å, –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä, –ø–æ–ø—É—Ç—á–∏–∫
–Ω–∞ —è–∫–æ—Ä–µ —Ä–∂–∞–≤–µ–µ—Ç –æ—Ç –ª—é–±–≤–∏
изящный иностранный перегрузчик...»
–ò, —Å–ª—É—à–∞—è —Ñ—Ä–∏–≤–æ–ª—å–Ω—ã–π —ç—Ç–æ—Ç —Ç—Ä–µ–ø,
—Ä–∞–¥–∏—Å—Ç —Å–æ–ø–∏—Ç –∏ –º–æ—Ä—â–∏—Ç –±–ª–µ–¥–Ω—ã–π –ª–æ–±.
–û–Ω –≤—ã–∫–ª—é—á–∏—Ç —Å–≤–æ—é –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä—É
–∏ —Ä—É—Ö–Ω–µ—Ç –≤ –∫–æ–π–∫—É —Å –±–æ–ª—å—é –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ,
—á—Ç–æ–±—ã –≤ —Å–Ω–µ –ø–æ–∑–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –£–ö–í
–∫–∞–∫—É—é-—Ç–æ –Ω–µ–≤–µ–¥–æ–º—É—é –ù—é—Ä—É.
–ù–æ, —á–µ—Ä—Ç –≤–æ–∑—å–º–∏, –≤ —ç—Ñ–∏—Ä–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–≤–∏—Å—Ç
–¥–∞ –±–∞—Ä–∏—Ç–æ–Ω —ç—Å—Ç—Ä–∞–¥–Ω–æ–≥–æ –ø–∏–∂–æ–Ω–∞...
–°—Ä–µ–¥—å –Ω–æ—á–∏ –ø—Ä–æ—Å—ã–ø–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–∞–¥–∏—Å—Ç,
–≤ –∏–ª–ª—é–º–∏–Ω–∞—Ç–æ—Ä —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –æ—Ç—Ä–µ—à–µ–Ω–Ω–æ.
А том луна – латунная луна,
а под луной – расколотая льдина.
И – тишина. Пока что – тишина.
Холера ясна, впереди – путина!
¬Ý
***
–ù–∞–¥ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –º–∞—Ä—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ä–µ–∫–æ–π
—è —Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª –µ–µ, —è –ø–ª–∞–∫–∞–ª.
–û–Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –º–Ω–µ, –∫–∞–∫ —Ñ–∞–∫–µ–ª,
–Ω–∞–¥ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –º–∞—Ä—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ä–µ–∫–æ–π.
–Ý–µ–∫–∞ –Ω–µ—Å–ª–∞ –æ–±–ª–æ–º–∫–∏ –ª—å–¥–∞,
–ø–æ–≤–µ–ª–µ–≤–∞–ª–∞ –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º–∏.
–ê –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –≥–æ—Ä–¥–∞,
–∏ –Ω–µ–±–æ –±—ã–ª–æ –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞–º–∏!
–û–Ω–∞ –º–æ–≥–ª–∞ —Å —Ä–µ–∫–æ—é –ø–ª—ã—Ç—å,
–≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–∂–∞—è –≤–æ–¥—É.
–û–Ω–∞ –º–æ–≥–ª–∞ —Ä–∞–±—ã–Ω–µ–π –±—ã—Ç—å,¬Ý
но – сторожа свою свободу.
–ò–≥—Ä–∞—Ç—å, –Ω–µ —Ç—Ä–æ–≥–∞—è —Å—Ç—Ä—É–Ω—ã,
–ª–≥–∞—Ç—å, –æ–∂–∏–¥–∞—è –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω—å—è.
–°—Ö–æ–¥–∏—Ç—å —Å —É–º–∞ –∏ –≤ —Ç–æ –∂–µ –≤—Ä–µ–º—è
–≤—Å–µ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç—å —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã...
–Ø –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª —Ç–∞–∫–æ–π.
–û, –ì–æ—Å–ø–æ–¥–∏, —Å–∫–∞–∂–∏ –Ω–∞ –º–∏–ª–æ—Å—Ç—å:
–∫–∞–∫–∞—è —Ç–∞–π–Ω–∞ –º–Ω–µ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å
–Ω–∞–¥ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –º–∞—Ä—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ä–µ–∫–æ–π?
¬Ý
–û–∫—Ç—è–±—Ä—å
–£—Å—Ç–∞–ª–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã –æ—Ç —Å–ª–æ–≤ –¥–æ –±–∞–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤–µ—á–Ω—ã—Ö,
–≤ –Ω–∏—Ö –≤—Å–µ –ª–∏—à—å –æ —Ç–æ–º, –¥–ª—è –∫–æ–≥–æ –∏ –∑–∞—á–µ–º —è –∂–∏–≤—É.
–°—Ç–æ–∏—Ç –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–µ –±–µ—Ä–µ–∑–æ–≤—ã–π –±–µ–ª—ã–π –ø–æ–¥—Å–≤–µ—á–Ω–∏–∫,
–∏ –≤–æ—Å–∫ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–π, –æ—Å—Ç—ã–≤–∞—è, —Å—Ç—Ä—É–∏—Ç—Å—è –≤ —Ç—Ä–∞–≤—É.
–ò —ç—Ç–æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–µ–π, —á–µ–º —Ç—ã—Å—è—á–∞ —Å–º–µ–ª—ã–π –ø–æ–ø—ã—Ç–æ–∫
—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–º, –Ω–∞–π—Ç–∏ –µ–º—É –º–µ—Å—Ç–æ –∏ —Ä–∞–Ω–≥.
–ó–¥–µ—Å—å —Å–ª–æ–≤–æ –±–µ—Å—Å–∏–ª—å–Ω–æ, –∑–¥–µ—Å—å –≥—Ä—É—Å—Ç–∏ –∏ —Å—á–∞—Å—Ç—å—è –∏–∑–±—ã—Ç–æ–∫,
–∑–¥–µ—Å—å —Ç–∏—Ö–∏–π —Ä—É—á–µ–π —É–≥–ª—É–±–ª—è–µ—Ç –∏ –≥—É–±–∏—Ç –æ–≤—Ä–∞–≥.
–ó–¥–µ—Å—å, —Å—Ç–æ—è –ø–æ–¥ –Ω–µ–±–æ–º, —à–∞—Ç–∞—è—Å—å –ø–æ —Ç—Ä–∞–≤–∞–º –∏ –ø–∞—à–Ω—è–º,
—Å–ª–µ–¥—è –∑–∞ –ø–æ–ª–µ—Ç–æ–º –±–µ—Å—à—É–º–Ω–æ–π –æ–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π –ª–∏—Å—Ç–≤—ã,
—è, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —Å–º–æ–≥—É –ø–æ–∑–∞–±—ã—Ç—å –æ –≤—á–µ—Ä–∞—à–Ω–µ–º,
–æ —á–µ–º —É–∂ –¥–∞–≤–Ω–æ –ø–æ–∑–∞–±—ã—Ç—å –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å –∏ –í—ã...
¬Ý
–ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã –±–∞—Ç–æ–≥–∏
–ú–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏–π –∏ —Ç–∞–π–Ω —Å–æ–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö,
—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–π
—Ç—ã —É—Å–ª—ã—Ö–∞–ª –æ—Ç —Å—Ç–µ–ø–Ω—ã—Ö —Å—É—Ö–æ–≤–µ–µ–≤,
–¥–∏–∫–∏–π —Ü–∏–∫–æ—Ä–∏–π.
–°–æ–ª–æ–Ω—á–∞–∫–∏ –ø–æ—Å–µ–¥–µ–ª–∏ –æ—Ç –∑–Ω–æ—è,
–≤—ã–¥–æ—Ö–ª–∏—Å—å —Ä–æ—Å—ã...
–û, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ–∂–æ –ø–æ–ª—ã—Ö–∞–ª–∏ –≤–µ—Å–Ω–æ–π
–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≥—Ä–æ–∑—ã!
–°–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤ –ø–æ —Å—Ç–µ–ø—è–º —Ä–∞—Å–ø–ª–µ—Å–∫–∞–ª–∏
–≤–µ—à–Ω–∏–µ –ª–∏–≤–Ω–∏!..
–í—Å–µ —Å–æ–∂–∂–µ–Ω–æ, –≤—Å–µ —Å–º–µ—à–∞–ª–æ—Å—å —Å –ø–µ—Å–∫–∞–º–∏,
–∫—Ä–æ–º–µ –ø–æ–ª—ã–Ω–∏.
–ù–æ –Ω–µ –∏—Å—Å—è–∫–ª–∏, –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–∫–æ—Ä–Ω–µ–π ‚Äì¬Ý
—Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–∫—Ä–µ–ø–ª–∏,
–æ–∂–µ—Å—Ç–æ—á–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ —Ç–≤–æ–∏ –∫–æ—Ä–Ω–∏,
—Ö–ª–µ—Å—Ç–∫–∏–µ —Å—Ç–µ–±–ª–∏.
–ß—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ª—è –∑–∞–º–µ—Ç–∞—è —Å–Ω–µ–≥–∞–º–∏,
–±–æ–ª—å–Ω–æ –∏ –≤–¥–æ—Å—Ç–∞–ª—å
–≥—Ä–µ—à–Ω—É—é –∑–µ–º–ª—é —É—á–∏–ª –±–∞—Ç–æ–≥–∞–º–∏
–ü–µ—Ç—Ä-–∞–ø–æ—Å—Ç–æ–ª.
¬Ý
–ü—Ç–∏—Ü–µ–ª–æ–≤
–Ø –≤—Å—é –∑–∏–º—É –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª —Å–∏–ª–∫–∏,
–∏–∑–Ω—ã–≤–∞–ª –æ—Ç —Ç–æ—Å–∫–∏ –∏ –ø–µ—á–∞–ª–∏.
–ó–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –≤—ã—Å–∏ —Ç–≤–æ–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–∏,
–¥–∞–ª–µ–∫–∏ —Ç–≤–æ–∏ –¥–∞–ª—å–Ω–∏–µ –¥–∞–ª–∏.
–ü—Ä–æ–∫–ª–∏–Ω–∞—è –º–æ—Ä–æ–∑–Ω—É—é —Ç–∏—à—å,
–ø—Ä–∏–≤—ã–∫–∞—è –∫ —Å—ã—Ä–æ–º—É —Ç—É–º–∞–Ω—É,
—è –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —Ç—ã –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–∏—à—å
–Ω–∞ –º–æ—é –∑–æ–ª–æ—Ç—É—é –ø–æ–ª—è–Ω—É.
–ü—Ä–∏–∑—Ä–∞–∫ —Ö—Ä—É–ø–∫–∏—Ö –∏ —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–Ω—ã—Ö –∫—Ä—ã–ª,
–æ–ø–µ—Ä–µ–Ω—å–µ —Ç–≤–æ–µ, –Ω–µ–¥–æ—Ç—Ä–æ–≥–∞,
—è –∑–∞–≤–µ–¥–æ–º–æ –±–æ–≥–æ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª,
–∫–∞–∫ —è–∑—ã—á–Ω–∏–∫, –Ω–µ –≤–µ–¥–∞–≤—à–∏–π –ë–æ–≥–∞.
–ü—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –≤ —á—É–∂–∏–µ –∫—Ä–∞—è,
—Ä–∞–∑–±—É–¥–∏–ª–∞ —Ä—É—á—å–∏ –∏ –∫–∞–ø–µ–ª–∏ ‚Äì¬Ý
–¥–æ–ª–≥–æ–∂–¥–∞–Ω–Ω–∞—è –ø—Ç–∏—Ü–∞ –º–æ—è,
—Å–∏–Ω–µ–≥–ª–∞–∑–æ–µ —á—É–¥–æ –∞–ø—Ä–µ–ª—è.
–Ø –ø—Ä–æ—à—É —Ç–µ–±—è, –ø—Ç–∏—Ü–∞, –º–æ–ª—é:
–Ω–µ –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–π —Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞ –∏ –≥–Ω–µ–≤–∞!
–Ø –ø–æ–π–º–∞—é —Ç–µ–±—è, –∏–∑–ª–æ–≤–ª—é,
приголублю и – выпущу в небо.
–¢—ã –≤—Å–ø–æ—Ä—Ö–Ω–µ—à—å, —Ç—ã —Ä–∞—Å–ø—Ä–∞–≤–∏—à—å –∫—Ä—ã–ª–∞,
–Ω–µ —Å–∫–∞–∂—É –Ω–∞ –ø—Ä–æ—â–∞–Ω—å–µ –Ω–∏ —Å–ª–æ–≤–∞,
—á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Å–∫–æ—Ä–µ–µ —Å–º–æ–≥–ª–∞
–ø–æ–∑–∞–±—ã—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ø—Ç–∏—Ü–µ–ª–æ–≤–∞.
¬Ý
–Ý—É—á–µ–π –ü—à–µ–Ω–∏—á–Ω—ã–π
–Ý—É—á–µ–π –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∏ –º—ã –ü—â–µ–Ω–∏—á–Ω—ã–º.
–û–Ω –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞–ª –Ω–∞–≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É –Ω–∞–º
–ø–æ –æ—Ç–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è–º —Ç—Ä–µ—Ç–∏—á–Ω—ã–º,
–ø–æ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–∏—á–Ω—ã–º –≤–∞–ª—É–Ω–∞–º.
–í –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö –Ω–∞—à–µ–≥–æ –º–∞—Ä—à—Ä—É—Ç–∞,
—Å—Ç–∞—Ä–∞—è—Å—å –∏–∑ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö —Å–∏–ª,
–æ–Ω —Ç—Ä–∏–∂–¥—ã –≤—ã–≥–∏–±–∞–ª—Å—è –∫—Ä—É—Ç–æ,
–ø–æ–¥ –∑–µ–º–ª—é –¥–≤–∞–∂–¥—ã —É—Ö–æ–¥–∏–ª.
–Ý—É—á–µ–π, –∑–∞–ø—É—Ç–≤—à–∏–π—Å—è –≤ —Ç—Ä–∞–≤–∞—Ö,
—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ —Ç—Ä–µ—â–∏–Ω–∞—Ö —Å–∫–∞–ª—ã,
–±—ã–ª, –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –ø—Ä–∞–≤—ã—Ö
–ø—Ä–∏—Ç–æ–∫–æ–≤ —Ä–µ—á–∫–∏ –î–∂–µ–ª–≥–∞–ª—ã.¬Ý
–ï–≥–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—å–µ –∏ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—ã
—Ä—É–∫–∞ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç—É –Ω–∞–Ω–µ—Å–ª–∞,
—Ö–æ—Ç—å –Ω–∏–∫–∞–∫–∞—è —Ç–∞–º –ø—à–µ–Ω–∏—Ü–∞,
–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å—Ä–æ–¥—É –Ω–µ —Ä–æ—Å–ª–∞.
–ê –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫: –Ω–∞ –¥–Ω–µ–≤–∫–µ –Ω–∞—à–µ–π
–≤ –≤–µ—Ä—Ö–æ–≤—å—è—Ö —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä—É—á—å—è
–ø–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—å –º—ã –ø—à–µ–Ω–∏—á–Ω–æ–π –∫–∞—à–µ–π ‚Äì¬Ý
–≤–∫—É—Å–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∏ –≥–æ—Ä—è—á–∞!
–ò –≤—Å–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞–º –æ—Ç–º–µ–Ω–Ω—ã–º:
—á—É—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–∑—Ä–µ–≤—à–∞—è —Ç—Ä–∞–≤–∞,¬Ý
–≤–æ–¥–∞ —Ä—É—á—å—è —Å –æ—Ç–ª–∏–≤–æ–º –º–µ–¥–Ω—ã–º,
–∏ –æ—Ç–º–µ–ª–∏, –∏ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞.
–ò –Ω–∞ –ø–µ—Å–∫–µ –≤–¥–æ–ª—å –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å—è,
–∑–∞ –≥—Ä–µ–±–Ω–µ–º –≥–∞–ª–µ—á–Ω–æ–π –≥—Ä—è–¥—ã,
–≥–ª—É–±–æ–∫–∏–µ —Å–ª–µ–¥—ã –º–µ–¥–≤–µ–∂—å–∏,
–æ—Ç–Ω—é–¥—å –Ω–µ —Ä–æ–±–∫–∏–µ —Å–ª–µ–¥—ã...
–ù–∞–º, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞, –ø–∏–ª–æ—Å—å –∏ –µ–ª–æ—Å—å,
–∏ —á—É–¥–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç.
–¢–∞–∫ –ø–æ—á–µ–º—É –∂–µ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å
–Ω–∞–º —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∏–∑ —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Å—Ç?
–í–µ–¥—å –∏—Å–ø–æ–∫–æ–Ω –≤–µ–∫–æ–≤ –¥–æ–Ω—ã–Ω–µ
неподневольные – ничьи
–≤ –ª—é–±–æ–π –Ω–µ—Ö–æ–∂–µ–Ω–æ–π –¥–æ–ª–∏–Ω–µ
–µ—Å—Ç—å –±–µ–∑—ã–º—è–Ω–Ω—ã–µ —Ä—É—á—å–∏.
–ò —Ç—ã, –∫–∞–∫ —Å–≤–æ–µ–º—É —Ä–µ–±–µ–Ω–∫—É,
–ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–π –∏–º—è –∏–ª–∏ —Å—Ç–∏—Ö,
\—á—Ç–æ–± —Ö–æ—Ç—å –Ω–µ –ø–æ–¥ –æ–¥–Ω—É –≥—Ä–µ–±–µ–Ω–∫—É,
–æ—Å–≤–∞–∏–≤–∞—è, —Å—Ç—Ä–∏–≥–ª–∏ –∏—Ö.
Не долго ждать – размах привычный,
–∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ, —Ç—Ä–∞–∫–∞–º–∏ –ø—ã–ª—è,
воздвигнет здесь карьер «Пшеничный»
—Å–≤–æ–∏ –æ—Ç–≤–∞–ª—ã-—ç—Ñ–µ–ª—è.
Что – время? Всплеск и дуновенье.
–ò —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –Ω–µ –≤ —Å–∏–ª–∞—Ö —Ç—ã
–º–µ—á—Ç—É –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω—å–µ
–∏ –Ω–µ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–æ–π –º–µ—á—Ç—ã.
–ö–æ—Å—Ç—Ä–∞ —Å–≤–µ—á–µ–Ω—å–µ –≥–æ–ª—É–±–æ–µ.
–¢–∞–µ–∂–Ω—ã–π —Å—É–º—Ä–∞–∫ —Å–º–æ–ª—è–Ω–æ–π.
–õ–∞–∑—É—Ä–Ω—ã–π –∑–Ω–æ–π –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ—é.
–ú–µ—Ä–∑–ª–æ—Ç–Ω—ã–π —Ö–æ–ª–æ–¥ –ø–æ–¥ —Å–ø–∏–Ω–æ–π.
¬Ý
–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫: –õ. –ü—Ä—ã–≥—É–Ω–æ–≤.