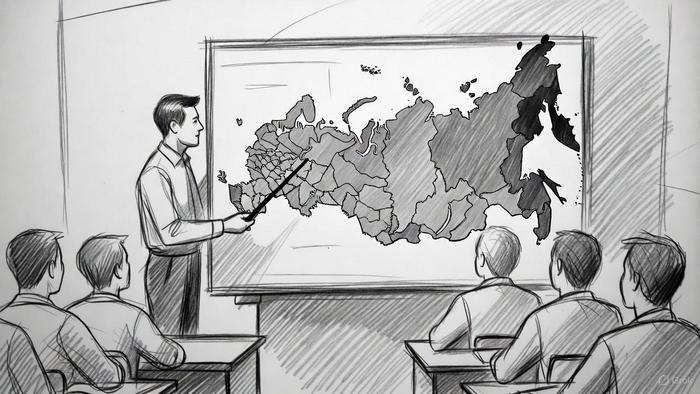Достоевский о всемирности и всечеловечности русского человека
Достоевский о всемирности и всечеловечности русского человека

«Тот, кто не понимает своего назначения, всего чаще лишен чувства собственного достоинства»
(27, 89) (1).
Достоевский определил «силу духа русской народности» как «стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности» (26, 147). Слово «дух» здесь нужно подчеркнуть. Далее будет понятно, почему.
Это – и другие подобные высказывания Достоевского – слишком часто вызывают его оппонентов на следующие ответы: 1) Достоевский не знал русского народа, те, кто знали русский народ, и во времена Достоевского писали о нем нечто совершенно иное; 2) сейчас русский народ – это уже совсем не тот народ, что во времена Достоевского.
В сущности, конечно, это не два суждения, а одно – «то, что писал о русском народе Достоевский, не имеет отношения к тому русскому народу, который нам известен». И тогда встает вопрос: а какой народ известен нам и какой – Достоевскому? Понятно, что фактор времени здесь уже не имеет значения: разный русский народ был известен не только Достоевскому и его потомкам, но и Достоевскому и его современникам. Глядя на один и тот же народ, мы и Достоевский видим разное. Очевидно, разница не в том, на что мы глядим, а в том, как мы смотрим.
И тут чрезвычайно интересно еще одно обстоятельство – Достоевский прекрасно видел русский народ и так, как его видим мы. Более того – если мы проследим, как Достоевский пишет о современном ему актуальном состоянии русского человека – мы удивимся тому, насколько все даваемые им характеристики могут быть отнесены как раз к человеку сегодняшнего дня, нашему соседу и современнику. Достоевский констатирует, что человеку пореформенной эпохи XIX века свойственны: 1) уединение, 2) утрата общих, единых оснований и ценностей, 3) стремление к богатству, принимаемому теперь за единственную несомненную опору и действенную силу в жизни, поставление комфорта и удовлетворения суетных и страстных желаний превыше всего, возведение их в ранг целей человеческой жизни (в то время как они не более чем условия существования).
Вот лишь несколько цитат. «Право, мне всё кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего обособления. Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает всё, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но всё же они оторвались, стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут. Между тем ни в чем почти нет нравственного соглашения; всё разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы. И главное, иногда даже с самым легким и довольным видом» (22, 80). «Самолюбия у нас много, а уважения к собственному мнению никто не имеет» (11, 119). «Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономии: “Так ли я вошел? Так ли я сказал?” Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что всё принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слыхали ли вы про такие записочки: “Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решил покончить с жизнью…” И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: “Для чего-де и жить, как не для гордости?” А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство» (22, 5).
Можно возразить, что это Достоевский пишет скорее про общество. Но вот он сетует на размах народного пьянства: «Ведь иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, - и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, взросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти пока еще ничтожные, ввиду неисчислимых будущих ужасов. <…> вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность <…> носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь всё, заключает в себе всякую силу, а что всё, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, - всё вздор <…>: “вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и всё твое, и всё можешь”. Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и проницает всё мало-помалу. Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей» (22, 29-30).
Именно этот народ Достоевский и объявляет – не только в Пушкинской речи, но и задолго до нее – спасителем России и соединителем человечества. Вспоминая стихотворение Некрасова «Влас», Достоевский пишет: «Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой “кутеж” еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним “Власа” и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки – свет и спасение воссияют снизу…» (21, 41).
Через несколько лет, в февральском выпуске «Дневника писателя» 1876 года, Достоевский попытается разъяснить видимое противоречие. «Я вот, например, написал в январском номере “Дневника”, что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, “варвар, ждущий света”. А между тем я только что прочел в “Братской помочи” (сборник, изданный Славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян), - в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова, что русский народ давно уже просвещен и “образован”. Что же? Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? Нисколько, я вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко согласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор эти обе темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается l’Ordre и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренне, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и всё это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если при том и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что всё это – лишь наносное и временное, наваждение диавольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет» (22, 42-43).
Кстати, полагаю, что в российских политических событиях конца 2011 года, когда люди вышли на улицы, возмущенные нечестностью (!), и это после стольких лет цинической обработки характеров и умов наших современников, - и в том, как они это сделали, - вполне проявились все те же простодушие и честность, искренность и широкий, незашоренный никакими навязываемыми идеями ум. Ну и тоска от обступившей и накопившейся грязи, конечно, в окончательность торжества которой, что примечательно, оказался абсолютно неспособен поверить русский человек, несмотря на запредельное давление обстоятельств…
Далее, в том же выпуске «Дневника писателя», в замечательной зарисовке «Мужик Марей» (22, 46-50), Достоевский старается наглядно продемонстрировать самую суть своего видения. Перемещая фокус текста между двумя событиями: своей встречей в 9 лет с мужиком Мареем, успокоившим мальчика, до дрожи перепуганного криком: «Волк бежит!» - по сути, защитившим его от его собственного страха, и своим пребыванием в 29 лет на каторге, среди пьяных, празднующих Пасху (2), вызывающих в нем страх и омерзение, он показывает, как, если только раз удастся по-настоящему увидеть сияющее любовью сердце человека из народа, - начнешь неизбежно и неизменно узнавать его в любом, самом страшном, самом неприглядном обличии. Он рисует нам образы ужасных, отвратительных каторжников, в каждом из которых скрыт все тот же Марей, глядящий на своего барчонка с материнской любовью, нежностью, готовностью защитить, придти на помощь. А в глубине образа Марея, материнская улыбка (3) которого трижды, рефреном, упоминается Достоевским на протяжении рассказа, сияет образ Марии, материнский покров Которой осеняет всю русскую землю. Образ человека у Достоевского здесь оказывается трехсоставным: наносная грязь, то, что первое бросается в глаза, что отталкивает и пугает; человеческий облик, то, что так ясно бывает видно в лучших представителях народа, но, раз увиденное, узнается во всех под слоем наносной грязи, – и – открывающийся за этим обликом Божественный лик, красота – свет, вечный свет, бьющий из глубины раскрывшегося навстречу ближнему в сочувствии и сострадании человека.
Человек у Достоевского принципиально не сводим к самому себе, он – проход, тоннель, впускающий в мир Божество, дающий присутствовать вечному в тленном и временном – а если человек своим усилием по самообособлению все же сводит себя исключительно к себе самому – то появляются такие герои Достоевского, как Лужин и Ракитин – плоские и неинтересные, скучные существа, намеренно и сознательно окопавшиеся в бастионе своей наносной грязи… но таких – исчезающе мало в его романах.
Без понимания способа видения Достоевским реальности нельзя понять в полноте его Пушкинской речи, нельзя понять, как он видит русский народ. Нельзя понять, почему то, что он говорит, имеет отношение отнюдь не к утопическому социализму – а к христианскому мистицизму.
Ибо структура народной личности, как она видится Достоевскому, повторяет структуру личности человеческой.
Русский народ потому предназначен к особой роли, потому способен, по мысли Достоевского, стать всеобъединяющим для всего человечества, что он обладает качествами, делающими его структурно и функционально аналогичным Христу – а потому наиболее подходящим быть «носителем Христа» (26, 170) в этом мире. Он сам своим самоназванием выбрал такую судьбу: «Он назвал себя крестьянином, то есть христианином, и тут не одно только слово, тут идея на все его будущее» (26, 170). А суть Христа в том, что Он собирает в Себе, в Своем теле – Церкви, все человечество воедино. Христос как бы является матрицей (4), соединяясь с которой каждый человек (и каждый народ) в полноте проявляет свою личность, являющуюся одним из аспектов Христа. И никто не исключен из лона Всеобъемлющего Синтеза (5) – каждый (и человек, и народ) важен для его окончательного осуществления, и важен именно в своей уникальности, в своей непохожести на других, потому что именно эта непохожесть и есть тот аспект личности Бога, который более нигде не проявлен.
Вот как Достоевский описывает природу Христа в центральной для понимания его философской мысли черновой записи, сделанной над гробом умершей первой жены «Маша лежит на столе…»: «Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в Я Христа как в свой идеал. Достигнув этого, он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой же цели, вошли в состав его окончательной натуры, то есть в Христа. (Синтетическая натура Христа изумительна. Ведь это натура Бога, значит, Христос есть отражение Бога на земле.) <…> Мы будем — лица, не переставая сливаться со всем <…> и в различных разрядах (в дому Отца Моего обители многи суть)» (20, 174-175). Христос здесь – единая природа («натура») обоженного человечества, соединяющая в Своем Лике все бывшие отдельными лица, не просто складывающаяся из них, но возвращающая каждому способность ощущать всех остальных как себя самого («Мы будем – лица, не переставая сливаться со всем»). Достоевский описывает здесь окончательный итог преображения человечества, его судьбу уже не во времени, но в вечности – но ведь и окончательное осуществление миссии русского народа он тоже видит «в конце концов» - и неизменно просит подчеркнуть это «в конце концов» (26, 147).
Уникальность русского человека и состоит, по мнению Достоевского, в способности принять и признать, извинить и оценить любую непохожесть – и, как это уже было реализовано в высшем проявлении сути русского человека – в Пушкине (способном «воплотить в себе с такой силой гений чужого <…> народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания» (26, 145)), - вжиться в эту непохожесть, тем самым воссоединив ее с единой природой человечества, раздробленного на лица и нации, разные, не понимающие друг друга, и в своем правом стремлении к единству видевшие прежде только один путь – неправедно исключить, уничтожить, сравнять эту разность. Или – как это теперь проявляется в идее мультикультурализма – признать эти разности и оставить их существовать в отделенных друг от друга, замкнутых в самих себе резервациях, сохранить их как разрозненные части, вне контакта и воссоединения.
На исключительную роль в человечестве, на роль объединителей человечества, по мысли Достоевского, претендовало множество народов. Но они видели себя завершением человечества, замковым камнем свода, куполом. Они ощущали свою национальную идею как исключительную, такую, для которой все остальные народы с их частными идеями должны были послужить лишь материалом (а порой и – расходным материалом).
Такова, по Достоевскому, идея французского социализма (восходящая в самой основе своей еще к идее Римской империи) – идея насильственного единения человечества без Христа, адепты которой провозгласили своим лозунгом: «Свобода, равенство, братство – или смерть» (25, 7) – то есть вместо Посредника-Христа, соединяющего людей любовью, дающего им почувствовать другого как себя самого, поставили посредником разделяющий людей карающий закон, замещающий и вытесняющий собой любовь. (Ныне мы видим, как идея эта развилась и захватила мир – и как закон претендует на то, чтобы всеобъемлюще определять собою отношения людей – даже супругов, даже родителей и детей. Как закон, своим давлением и угрозой, стремится заставить их любить…)
Такова и германская идея своей предназначенности к руководству миром: «германец, верящий слепо, что в нем лишь обновление человечества <…>, уверен <…>, что никто не может стать вместо него в главе мира и его возрождения. Верит он этому гордо и неуклонно; верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире и что Германия лишь одна может изречь его. Ему смешно даже предположить, что есть хоть что-нибудь в мире, даже в зародыше только, что могло бы заключать в себе хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать в себе предназначенная к руководству мира Германия» (25, 7-8).
В таком же духе были восприняты и высказывания Достоевского о русском народе. А. Градовский в статье, на которую отвечает Достоевский в выпуске «Дневника писателя» 1880 года, посвященном «Пушкинской речи», писал: «Еще слишком много неправды, остатков векового рабства засело в нем (то есть в народе нашем), чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г-н Достоевский» (26, 170).
Но Христос – камень в основании здания, здание человечества не завершается Им, но на Нем зиждется. И русский народ – не купол над народами (полагающий предел их росту), но чаша для народов, предоставляющая им бесконечный простор для самоосуществления. Национальная идея русского народа не исключительна, она состоит именно в том, чтобы включить в себя все национальные идеи без исключения. Она не есть то, что полагает естественный конец всякому развитию, но есть то, что дает ему единственно возможное основание для реализации себя в полноте. О русской идее Достоевский напишет: «Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполнясь мировым общением народов до всеобщего единства, как великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю» (6) (25, 100).
Русская идея не в том, чтобы править человечеством или завершить его, а в том, чтобы служить человечеству и нянчить его («Братья Карамазовы» пронизаны идеей человечества как Божьего дитятки, взрастающего на земле: «все – дитё», - скажет Митя Карамазов), растить его, как сад, становящийся в перспективе единым многоцветным древом.
Недаром именно русским святым – старцем Силуаном Афонским – в XX веке было представлено видение христианской иерархии как перевернутой иерархии, той, где купол становится чашей, где то, что мыслилось верхней точкой устремления, оказывается нижней точкой опоры (7). Вот как описывает этот опыт старца архимандрит Софроний:
«Христос, как Творец, т.е. причина, по-славянски – вина бытия, и в этом смысле, как “Виновник” бытия мира, взял на Себя тяготу – грех всего мира. Он – вершина опрокинутой пирамиды, вершина, на которую давит тягота всей пирамиды бытия. <…>
Христианин идет вниз, туда – в глубину опрокинутой пирамиды, где сосредоточивается страшное давление, где взявший на Себя грех мира – Христос.
Когда сердца касается благодать Божия, тогда в нем начинает действовать сила любви Христовой, и влекомая этой любовью душа действительно опускается на глубину опрокинутой пирамиды, стремясь ко Христу, уподобляясь Ему. В пределах своих сил человек берет на себя тяготу братьев. <…>
На дне опрокинутой пирамиды, глубочайшее дно-вершина которой взявший на Себя грех и тяготу всего мира, по любви к миру распятый Христос, совсем особая жизнь, совсем особый свет, особое благоухание. Туда любовью увлекается подвижник Христов. Любовь Христова своего избранника мучает, тяготит и делает его жизнь невыносимо тяжелой, доколе не достигнет она своего последнего желания, и пути к достижению этой последней цели она избирает необычные.
“Молиться за людей – это кровь проливать”.
И мы видели и свидетельствуем, что блаженный старец Силуан, молясь за людей, за мир, за все человечество, за всего Адама, в этой молитве отдал свою жизнь.
Такая молитва есть покаяние за грехи людей, и, как покаяние, есть взятие на себя тяготы их, и, как молитва за весь мир, есть в какой-то мере несение тяготы мира» (8).
Спасение всегда приходит снизу, потому что Христос – внизу…
Достоевский задолго до архимандрита Софрония описал сам процесс переворота пирамиды, превращения купола в чашу, момент, когда личность, стремившаяся вверх, вдруг осознает всем существом, что верх – это низ, что первые – это последние, что осуществившему в себе в полноте свою личность, свое предназначение остается только одно – отдать эту личность всем: «Что же, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека» (5, 79).
Русский народ зачастую упрекают в отсутствии личности. То, что кажется этим наблюдателям безличностью, - есть слабое мерцание самого высшего развития личности, свет этой необычной личности – не личности-аспекта, не личности-ветви, но личности-матрицы, личности-ствола – прорывающийся сквозь густую наносную грязь. Русский народ является, по сути, для Достоевского зерном начинавшейся в истории, но и по сию пору не реализованной «новой, неслыханной дотоле (т.е. до пришествия Христова – Т.К.) национальности – всебратской, всечеловеческой, в форме общей вселенской Церкви» (26, 169).
Неумение русского народа отстаивать свои национальные и свои личные интересы (и даже если такие попытки делаются – всегда как бы стыдиться этих попыток, всегда чувствовать, что нет в этом ни правоты, ни правды) происходит отсюда же – ветвь может захотеть отъединиться и обособиться от ствола, ствол не может захотеть отъединиться от ветви. Ствол не так прекрасен и ярок по сравнению с ветвями, ствол как бы не проявлен, ствол самоотдается ветвям. Русский народ был стволом империи и на этом стволе пышно расцветали личности – и национальные, и человеческие. Можно сказать, что он играет служебную роль… Можно сказать, что он играет роль несущую… но – лишь в конце концов – «это подчеркните». Можно сказать, что это проигрышная позиция. Но «тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит их в будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной» (26, 164).
Мы видим здесь, что Достоевский всегда говорит о полной реализации мерцающих в народной личности потенций – в вечности, не во времени. Но вечность – это не бесконечно далекое будущее, это – осуществление истинного смысла личности, всегда готовое к проявлению в настоящем (Достоевский называл это «Золотой век в кармане»). Текущее мгновение бытия – это всегда открытый для нас выход в вечность. Каждое текущее мгновение, каждое совершаемое действие может стать нашим самоосуществлением – явлением нами окружающим не наносной грязи, но красоты вечного света. Этот выход из мгновения в вечность редко удается реализовать нациям в целом, но гораздо чаще – личностям. Именно поэтому Достоевский придавал огромное значение «единичным случаям», поступкам отдельных людей, часто ни для кого не заметным, в которых как бы концентрировалась и являла себя душа народа.
В первом выпуске «Дневника писателя» за 1876 год он пересказывает следующую историю: «- “Герои, - вы, господа романисты, все ищете героев, сказал мне на днях один видавший виды человек, - и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного Государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер, - вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалования, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, - в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырех человек и, когда помер, семье ничего не оставил. Всё это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой: это “идеалист сороковых годов” и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подобрее к России и не бросать в нее за всё про всё грязью”. Я помещаю здесь этот анекдот (кажется, совсем не идущий к делу) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности. И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина» (22, 25).
Достоевский здесь не только показывает проявление души народа в жизни и подвиге одного человека, он на протяжении всего «Дневника писателя» будет подспудно настаивать на том, что когда один человек дает возможность явиться свету народной души в своих никем не замеченных действиях, в своей тихо, без общественного шума и одобрения прошедшей жизни, это становится началом просветления всей нации, впущенный в одном месте свет распространяется неудержимо – и через двадцать лет после скромных и незаметных – но зачинающих – действий этого «человечка» вся страна освобождает крестьян…
И кто знает, сколько таких зачинающих действий «маленьких человечков» мы не замечаем сегодня вокруг нас…
Для западников (а разделение нас на западников и славянофилов, тысячу раз похороненное, увы, никуда не ушло и до сих пор) русский народ есть косность, косная материя, бесформенная и безвидная, которую должно оформить внешним образом наложенными на нее европейскими идеями. Достоевский называет попытки такого оформление развратом, подчеркивая, что он вовсе не утверждает этим, что европеец развратен, а говорит лишь, что такое внешнее натягивание мертвых форм на совсем иную, живую, несущую в себе собственные формы сущность – есть разврат (то есть разворот, утрата своего истинного пути).
Для Достоевского русский народ есть дух, становящийся колыбелью любой формы. Нельзя сформировать личность внешним образом, наложением на нее внешних форм, скорлуп, мертвых слепков другой личности – личность есть прорвавшееся из глубин человека видимое присутствие в нем Бога, видимое присутствие того аспекта Божества, который именно ему дано воплотить. Не может ствол влиться в формы ветвей. Внешняя форма есть маска, не просто скрывающая лицо, но искажающая истинный облик. Достоевский будет говорить о безличности как раз не народа, а западника, русского скитальца; безличности, являющейся следствием его отрыва от народной души: внешние формы не создадут личности, а связь с исходящим из глубин формирующим духом почти утрачена. Но в стремлении западника послужить Западу, в его способности понять и признать правду, иногда глубоко внутренне принять западные формы, перевоплотиться в них, Достоевский видит как раз остаточное действие направляющего народного духа.
Суть Христа в том, что Он посредник – посредник между Богом и человеком, открывающий человеку красоту и милость – человечность – Божества, а Богу – божественность человека. Суть Христа в том, что он – Любовь, а любовь и Есть – посредник между двумя или многими; тот, кто показывает им их единство, скрытое в их разности и другое, дополняющее единство, проистекающее именно из их разности. Суть русского народа, по Достоевскому, – в том, что это народ-посредник, умеющий увидеть, принять и объяснить, явить всем остальным каждую национальную личность в ее красоте и правде. Вот что имеет в виду писатель, вопрошая: «Почему же нам не вместить последнего слова Его?» (26, 148). Последнего – то есть выражающего не один из Его аспектов, а самую суть, стержень Его существа.
В.В. Путин в своем четырехчасовом телевизионном общении с гражданами в 2011 году, как бы обидевшись за принижение мирового значения России, произнес: «Россия никакой не мост (имелось в виду – между Востоком и Западом – Т.К.), она самостоятельная сила».
Но самостоятельная сила самых мощных духовных сил нашего мира – именно в том, что они – мосты и двери, связующие звенья между разным, которое должно стать единым, не утратив всего своего многообразия и многоразличия. Христос сам про Себя говорит, что Он – путь и дверь. Богоматерь мы прославляем как небесную лествицу и мост, переводящий нас от земли на небо. Так и величайшее значение России, по мысли Достоевского, в том, что она – чаша миру и мост между мирами. И отказаться – внутренне отказаться – от этого значения для нее – все равно, что отречься от себя самой.
Татьяна КАСАТКИНА - доктор филологических наук
(1) Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Здесь и далее в тексте после цитаты в скобках указываются том и страница. Курсив в цитатах – мой, жирный шрифт – выделено цитируемым автором. – Т.К.
(2) Чрезвычайно символично, что все это происходит на Пасху – именно в Воскресение Христово для глаз Достоевского в глубине ветхого, изуродованного человека, ставшего, по-видимому, гробом из наносной грязи, открывается, воскресает внутренний человек, проводник Божественного света, - и Достоевский отныне навсегда сохранит это двойное видение.
(3) Достоевский подчеркивает здесь в русском мужике женственную божественную сущность, поскольку уникальность русского народа по отношению к европейским народам, по Достоевскому, в том, что тем свойственно покорять и господствовать, а ему – взращивать и пестовать, что в земном плане скорее выражено в женском способе отношения к окружающему.
(4) Здесь бы можно представить себе нечто вроде вала с винтами, на которые насаживается единственно подходящая для каждого винта насадка, и насадка эта только в соединении с валом начинает функционировать именно так, как ей глубинно свойственно… или, еще лучше – могучий ствол, к которому прививают самые разные ветви кустов и деревьев, каждую к своему, сродному ей месту, и они начинают цвести и плодоносить, впервые обретая свою истинную красоту, мощь и изобилие.
(5) «Всеобщий синтез» - так Достоевский называет Бога, в лоне которого совершается обновление мироздания (20, 173).
(6) Это, по видимости поэтическое, описание на самом деле очень технологично. Здесь подробно и технически точно описан процесс собирания тела Христова (целиком вошедшего в человечество) из разрозненных и часто противостоящих друг другу его аспектов – личностей и народов.
(7) Кстати, неотразимые, по мнению ряда философов, и разделяемые Достоевским, по мнению ряда литературоведов, постулаты Ивана Карамазова имеют вид неотразимости, только если читатель (или слушатель) принимает первоначальную посылку и считает Бога точкой устремления. Алеша, первоначально поставленный Иваном «на свою точку», вырывается из-под гипноза «неотразимых» рассуждений как раз потому, что ухватывает ложь (абсолютизацию одного из аспектов правды) первоначальной посылки и указывает на Бога как на точку опоры.
(8) Старец Силуан. Сретенский монастырь, 1999. С. 330-332.