–ë–Α–Ι–Κ–Η –Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è―Ö
–ë–Α–Ι–Κ–Η –Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è―Ö
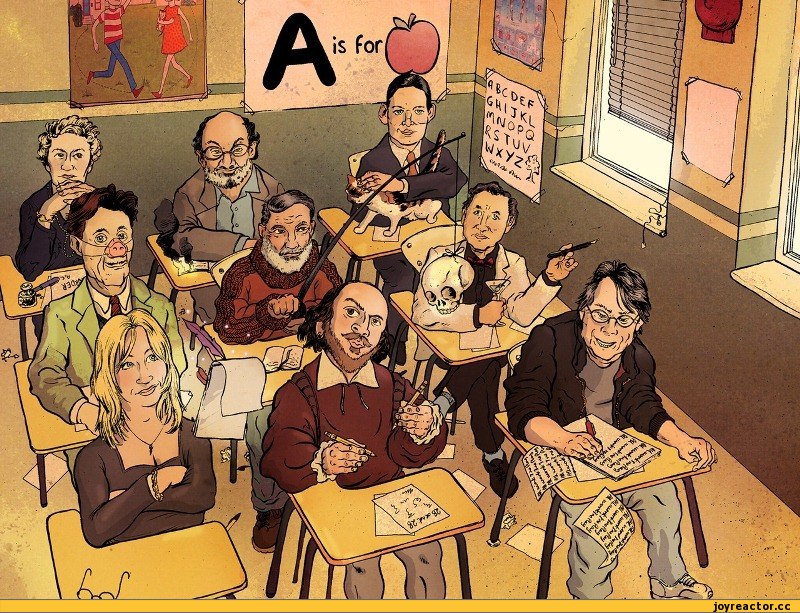
–î―è–¥―¨–Κ–Α –·–Κ―É–±
–≠―²–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –€―΄ –Ε–Η–Μ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –™–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Η―΅–Α―Ö, –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É―à–Η. –ù–Ψ –Ψ―²–Β―Ü, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η ―¹–Β–±―謆 –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Η–Μ–Α ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ―É―é –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―é, –Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ–Γ–Γ–†, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨, –Ψ―â―É―â–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –™–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Η―΅–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β.
–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Α―è –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η―è –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α―¹–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι. –ï–≤―Ä–Β–Β–≤, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤―΄–±–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄, –Α –Η―Ö –≤ –™–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Η―΅–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―²―΄―¹―è―΅ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –¥–Β―¹―è―²–Η. –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É. –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―΄ –Η–Ζ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―Ö―É―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι―Ü–Β–Ϋ―²―Ä, –Ϋ–Ψ –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –‰ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η–Φ–Η.
–û―²–Β―Ü –±―΄–Μ –±―É―Ö–≥–Α–Μ―²–Β―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ ―¹―é–¥–Α –Η–Ζ –†–Β―΅–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –î–Ϋ–Β–Ω―Ä–Β. –€–Α–Φ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –≥–Ψ–Φ–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è, –Η–Ζ –ö–Ψ―¹―²―é–Κ–Ψ–≤–Κ–Η, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β. –ù–Ψ –≤ 1952 –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―è, –Η ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Φ–Α–Φ–Α –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ―É, ―΅―²–Ψ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Β–Ι –Ϋ–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨.
–ù–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ ―è ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è, –Ψ―²–Β―Ü ―¹―²–Α–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α –≤ –€–Η–Ϋ―¹–Κ–Β. –ï–≥–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-–Κ–Α―Ä―²―ë–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Α―à–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –≥–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Η―΅―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –Η –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ω―É–Μ―¨–Κ―É¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Β―³–Β―Ä–Α–Ϋ―¹, –≥–Μ–Α–≤–≤―Ä–Α―΅ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Γ―΄―΅―ë–≤ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Ι ―Ä–Α–Ι–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Α –®–Η–Ϋ–≥–Β–Μ―¨. –ö–Α–Κ –Η –Φ―΄, –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Η–Φ–Η.
- –ö–Ψ―¹―²―è, - –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –®–Α–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤,¬† - –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―à―¨ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² βÄ™ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β–Φ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Η–≥―Ä–Α―²―¨. –€―΄ –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β ―¹ –≤―΄―¹―à–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.
–û―²–Β―Ü –Ω–Ψ–Κ―Ä―è―Ö―²–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ. –‰ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –≤ –€–Η–Ϋ―¹–Κ ―¹–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é ―¹–Β―¹―¹–Η―é.
- –½–Α―Ö–Ψ–Ε―É ―è –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –Ω–Ψ―É–Ε–Η–Ϋ–Α―²―¨βÄΠ - ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β.
- –€–Η–Ϋ―É―²–Κ―É, - –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–Μ ―è –Β–≥–Ψ, - ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Ε–Η–Ϋ–Α–Β―² –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β?
–£ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―è ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ ―΅–Β–Φ―É.
- –Δ–Α–Κ ―è –Ε–Β –Ζ–Α–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ, - –≤―΄–Ω―É―΅–Η–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ψ―²–Β―Ü, - –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –±―É―Ö–≥–Α–Μ―²–Β―Ä –Φ–Β–Ε–Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ―¹―²―Ä–Ψ―è, –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è, –Φ–Ψ–≥ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨.
- –ê ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ?
- ¬Ϊ–½–Α―Ä―è¬Μ, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Φ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä–Φ–Α–≥–Ψ–Φ. –ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²–Η –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α, ―³–Η–Κ―É―¹―΄ –≤ –Κ–Α–¥–Κ–Α―Ö, –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²–Κ–Η –≤ ―³–Α―Ä―²―É–Κ–Α―Ö. –· ―¹–Β–Μ, –≤–Ζ―è–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –Φ–Β–Ϋ―é, –Α –Φ–Ϋ–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―¹―É―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Β –±―É―²―΄–Μ–Κ―É –≤–Η–Ϋ–Α, ―¹–Α–Μ–Α―² –Η –Κ–Ψ―²–Μ–Β―²―É ―¹ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–Φ. ¬Ϊ–Γ―²–Ψ–Ω, - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²–Κ–Β, - ―è –Β―â―ë –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ¬Μ.
- –ê ―è –¥―É–Φ–Α―é, –Κ―É–¥–Α –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –¥–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨? βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Η–Ζ –Κ―É―Ö–Ϋ–Η –Φ–Α–Φ–Α. βÄ™ –ù–Η –¥–Β―²―è–Φ –Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Κ―É–Ω–Η―²―¨, –Ϋ–Η ―¹–Β–±–Β –Κ–Ψ―³―²–Ψ―΅–Κ―É.
- –Θ ―²–Β–±―è ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ―³―²–Ψ―΅–Β–Κ! βÄ™ –Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü. βÄ™ –ß―²–Ψ –≤―΄ –≤―¹―ë –Ω–Β―Ä–Β–±–Η–≤–Α–Β―²–Β? –· –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é.
- –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Ι, - –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ ―è.
- ¬Ϊ–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ, - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²–Κ–Β, - –Α –≤―΄ –≤–Η–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η. –· –Η –Ϋ–Β –Ω―¨―é –≤–Η–Ϋ–Α¬Μ. βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Α –·–Κ―É–±–Α –ö–Ψ–Μ–Α―¹–Α, - –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –Ψ–Ϋ–Α, - –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –≤ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –±―É―²―΄–Μ–Κ―É –≤–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ―É –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ¬Μ.
- –½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ! βÄ™ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ ―è.
- –· –≤―΄–Ω–Η–Μ –Ζ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –¥―è–¥―¨–Κ–Η –·–Κ―É–±–Α –Η –Ω–Ψ―à―ë–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –Ψ–±―â–Β–Ε–Η―²–Η–Β.
- –¦―É―΅―à–Β –±―΄ –Ψ–Ϋ ―²–Β–±–Β ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ, - –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ –Κ―É―Ö–Ϋ–Η.
- –ß―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ –≤ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è―Ö! βÄ™ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ―¨―é –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―É –Ψ―²–Β―Ü. βÄ™ –ë―É―²―΄–Μ–Κ–Α –≤–Η–Ϋ–Α, ―¹–Α–Μ–Α―² –Η –Κ–Ψ―²–Μ–Β―²–Α. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―²!
–€–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―Ü –±―΄–Μ –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η–Φ –Ψ―² –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –· –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ ¬Ϊ–ü―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε –Ψ ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ–Β –Η –Φ–Η―Ä–Β¬Μ, –≤ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ.
–ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Α–≤: –¥―è–¥―¨–Κ–Α –·–Κ―É–± –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –ï–≥–Ψ ―²―Ä–Η–Μ–Ψ–≥–Η―é ¬Ϊ–ù–Α ―Ä–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ―è―Ö¬Μ ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–≥–Ψ–Ι. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É―à–Η.
–ü–Ψ–Ζ–Ε–Β ―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―ë–Φ –·–Κ―É–±–Α –ö–Ψ–Μ–Α―¹–Α –≤ –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Η –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι ―¹―²–Ψ–Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Α –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è.¬†
 
–¦–Ψ―¹–Κ –¥–Μ―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι
–ù–Α –£―΄―¹―à–Η–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ 1983 –≥–Ψ–¥―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―²–Α –Ζ–Α―¹―²–Ψ―è. –ü–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ζ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α―Ä―΄. –‰–Φ –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ ―¹ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨―é –Φ–Β―²―Ä–Α–Φ–Η, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Κ–Α–Κ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―à–Β–¥–Β–≤―Ä―΄. –¦–Β―²–Ψ–Φ –Φ―΄ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤ –î–Ψ–Φ–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α. –· –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Η―Ö βÄ™ –ö–Ψ–Κ―²–Β–±–Β–Μ―¨, –ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥―É, –·–Μ―²―É, –î―É–±―É–Μ―²―΄, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü.
–ê –£―΄―¹―à–Η–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è–Φ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ―¹–Κ–Α. –ï―¹–Μ–Η ―²–Β–±–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ, –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, ―²―΄ –±―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –ö–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –≤ –Ψ–±―â–Β–Ε–Η―²–Η–Η –Ϋ–Α –î–Ψ–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Ψ–≤–Α, –¥–≤–Β―¹―²–Η ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι ―¹―²–Η–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Η, –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η –Μ–Ψ―¹–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ.
–‰–Ζ –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ü―΄―¹–Η–Ϋ, –ü―ë―²―Ä –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¨–Κ–Ψ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –ö–Α―Ä–Ω―é–Κ, –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –ê–¥–Α–Φ―΅–Η–Κ, –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –™―Ä–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Φ–Ψ–Ι –Κ―É–Φ–Η―Ä –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅. –ü―Ä–Η―΅―ë–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä ¬Ϊ–î–Η–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ö–Ψ―²―΄ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è –Γ―²–Α―Ö–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Κ–Α –û–Μ―¨―à–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Β―â―ë –Η ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Β. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Β –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –Ψ―²–±–Μ–Β―¹–Κ–Η –Μ–Ψ―¹–Κ–Α, –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β.
- –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅ –¦–Α–¥–Ψ–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Φ–Ψ–Ι ―²–Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅–Β.
- –ö―²–Ψ? - –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ ―è.
- –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅.
–™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅ –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―², –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―΅―ë–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅? –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ ¬Ϊ–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄¬Μ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅–Α –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –£ –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹–Η ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.
- –€―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Α –£–¦–ö ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅, - –Η ―è ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Η –≤–Β–¥―¨ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β, –Α ―è –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―à―ë–Μ. –•–Α–Μ–Κ–Ψ, ―É –Ϋ–Η―Ö ―¹ –î―É―¹–Β–Ι –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨.
- –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –î―É―¹–Β–Ι? - –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Μ―¹―è ―è.
- –‰―Ö –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Ψ–Β –Η–Ζ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η βÄ™ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅ –Η –ï–≤–¥–Ψ–Κ–Η―è –¦–Ψ―¹―¨. –ù–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Ω–Α―Ä–Α. –†–Ψ―¹–Μ―΄–Β, ―¹―²–Α―²–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Β. –ù–Ψ –Ε–Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―à–Κ–Α ―¹ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Ψ–Ι. –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅―É ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨.
- –ö―²–Ψ?
- –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è.
–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅–Α. –ï―¹–Μ–Η ―É–Ε –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨, ―²–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–≤–Β–¥–Α.
- –ö―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è? - –¥–Ψ–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―è.
- –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β. –ê –Ζ–Α –î―É―¹–Β–Ι –≤–Β―¹―¨ –Κ―É―Ä―¹ ―É―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α–Μ.
–™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅–Α.
¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι! - –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ–Ϋ. - –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ ―²–Β–±–Β –Ζ–Α ¬Ϊ–½–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Η–Μ―΄–Β, –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―¹―²–Η―Ö–Η. –½–Α–≤–Η–¥―É―é ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―É–Φ–Β–Β―² ―¹―²–Η―Ö–Η –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι –Ω–Η―¹–Α―²―¨. –· ―É–Φ–Β―é ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Β. –†–Α–¥, ―΅―²–Ψ ―²–Β–±–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨. –‰–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Η―à―É –Φ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é –Ψ–± –Ψ–±―â–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ,¬† –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Η –Ψ ―²–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Β―². –‰ ―Ö–Ψ―΅―É ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –Θ–Φ–Β―Ä–Μ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ε–Β–Ϋ–Α, –¥―Ä―É–≥ –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–Ϋ―è. –Δ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –£. –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅¬Μ.
–‰ –¥–Α―²–Α βÄ™ 2 –Φ–Α―è 1983 –≥–Ψ–¥–Α.
- –ß–Α―¹―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ? - ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Α―É–Ζ―΄.
- –ß–Α―¹―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –î―É―¹―è. –û–Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ¬Ϊ―²–Α―²–Κ–Ψ–Ι¬Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α. –Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η ―ç―²–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Κ–Η.
–· –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α –¥–≤―É―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Κ–Α―Ö ―¹ –≤–Η–¥–Α–Φ–Η –£–Η–Μ―¨–Ϋ―é―¹–Α –Η –ö–Α―É–Ϋ–Α―¹–Α.
¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Α –Ϋ–Α―à –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι! –ù–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ψ―² ―²–Β–±―è –≤–Β―¹―²–Ψ―΅–Κ―É. –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Κ―É―Ä―¹―΄, –Η –≤―¹―é –Ϋ–Α―à―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é (–Μ―É―΅―à–Β–Ι, –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è ―²―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –≤ –Β–Ε–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü–Α―Ö), –Η –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―à―¨. –ê ―è ―²–Β–±―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ―΅–Α―¹―²–Ψ, ―¹–Μ–Β–Ε―É –Ζ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η ―²–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Η –≤―¹–Β―Ö, ―Ä–Α–¥―É―é―¹―¨ –Η–Φ –Η –≥–Ψ―Ä―é―é –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²―è–Φ–Η. –ß―²–Ψ –Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η, –Α –Φ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ζ–Α ―²–Β –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Κ –±―΄ –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Η –Ζ–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ βÄ™ –±–Ψ–Μ–Η―² –≤―¹–Β–Φ. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ ―²–Β–±–Β –Ζ–Α –ê–ë–£, –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨. –· –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –≤ –€–Η–Ϋ―¹–Κ–Β βÄ™ –Κ―Ä–Ψ–≤ –Η –¥–Ψ–Φ ―É ―²–Β–±―è –Β―¹―²―¨. –Δ–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Ι 22-22-38. –ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Ι, –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Ι. –Θ –ê―Ä―²–Α―à–Β―¹–Α –ü–Ψ–≥–Ψ―¹―è–Ϋ–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –¥–Ψ―΅–Κ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ, –Ψ–Ϋ –±―΄–≤–Α–Β―² ―É –Ϋ–Β―ë –Η –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Β–¥–Ψ–Φ. –û–±–Ϋ–Η–Φ–Α―é ―²–Β–±―è –Η ―Ü–Β–Μ―É―é, –Ε–Β–Μ–Α―é ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤. –Δ–≤–Ψ–Ι –£. –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅. 14 –Η―é–Μ―è 82 –≥.¬Μ.
- –ê –Κ―²–Ψ –Β―â―ë ―¹ –≤–Α–Φ–Η ―É―΅–Η–Μ―¹―è? - ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è.
- –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –°―Ä–Η–Ι –™–Ψ–Ϋ―΅–Α―Ä–Ψ–≤, –ö–Α–Φ–Η–Μ―¨ –Γ―É–Μ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤, –ê–¥–Α–Φ –®–Ψ–≥–Β–Ϋ―Ü―É–Κ–Ψ–≤... –£ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Κ―É―Ä―¹―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄.
- –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅ ―¹–Α–Φ―΄–Ι, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è. - –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –Μ―é–±―è―².
- –ù–Α –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η, - –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Η―΅. - –€–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –î―É―¹―é –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―à–Μ–Α –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.
–ï–≤–¥–Ψ–Κ–Η―è –¦–Ψ―¹―¨ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α –≤ 1977, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Β–≤–Η―΅ βÄ™ –≤ 1984 –≥–Ψ–¥―É, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α...
–Γ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –ë―΄–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Ϋ–≥–Ψ–Μ–Α. –ö―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α―²―¨ –≤ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Κ–Ϋ–Η–≥―É. –Θ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ε–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨–Β. –Θ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―¹―΄–Ϋ –Η–Μ–Η –¥–Ψ―΅–Κ–Α. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö –±―΄–Μ–Η ―É –≤―¹–Β―Ö, –¥–Α–Ε–Β ―É –Φ–Β–Ϋ―è. –· –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Κ–Β, –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –£–¦–ö.
–ü–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η –Φ―΄ ―ç―²―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ –î–Ψ–Φ–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –Δ–Α–Φ –±―΄–Μ–Η –¥–≤–Α –±―É―³–Β―²–Α, –±–Α―Ä –Η ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –≤ –î―É–±–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β. –Γ―²–Η–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―²―¨ ―ç―²–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ―¨. –ß–Β–≥–Ψ ―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Α–Μ. –û–¥–Ϋ–Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Μ―è―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Β. –î―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Ω–Α–Μ–Η –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –≤ ―¹–Α–Μ–Α―². –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ –¥―Ä–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Α–Η–Κ–Ψ–Φ. –°―Ä–Η–Ι –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄–Ω–Η–≤–Α–Μ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ –≤–Ψ–¥–Κ–Η. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ë–Ψ–±―Ä–Ψ–≤ –Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–¥ –≥–Η―²–Α―Ä―É ―¹–≤–Ψ–Η ―¹―²–Η―Ö–Η.
–ü–Ψ―ç―²–Α –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –ü–Β―Ä–Β–¥―Ä–Β–Β–≤–Α –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η–Ζ –î―É–±–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Η –¥–≤–Α –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Α. –Θ ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η –ü―ë―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è.
- –· ―¹–Α–Φ! - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ―ç―².
–€–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥―Ä–Β–Β–≤ –Ζ―΄―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ, ―É―Ö–≤–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ ―²―Ä–Η ―è―Ä―É―¹–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―΅–Η―¹―²―΄–Β ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, –Η –¥―ë―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –™―Ä–Ψ―Ö–Ψ―² –±―¨―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α –Ϋ–Η –≤ ―΅―ë–Φ –Ϋ–Β ―É―¹―²―É–Ω–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤―É ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α.
–ü–Β―Ä–Β–¥―Ä–Β–Β–≤―É –Ζ–Α ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –≤ –î–Ψ–Φ–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤.
–Γ–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –£–¦–ö –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –ü–Β―Ä–Β–¥―Ä–Β–Β–≤, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η –≤–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–±―è ―²–Η―à–Β. –î–Α –Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –Γ–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –≤–Β–Μ–Η –€–Β–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –¦–Β―¹–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι. –î―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥–Η―é βÄ™ –†–Ψ–Ζ–Ψ–≤ –Η –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Α―è. –ü―Ä–Ψ–Ζ―É ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –®―É―Ä―²–Α–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ –≠―Ä–Ϋ―¹―² –Γ–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–†―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β¬Μ. –ü―Ä–Ψ―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ –£–¦–ö –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Α–Μ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™–Ψ―Ä–±–Α―΅―ë–≤–Α. –ê ―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ –ü–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤.
–û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―è –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ –Μ–Η–Ϋ–≥–≤–Η―¹―²―É –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤―É. –Γ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Φ–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ ―¹ –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Β–≥–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ. –£ –Φ–Α–Β 85-–Ψ–≥–Ψ –≤ ¬Ϊ–°–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ ¬Ϊ–û―à–Η–±–Κ–Α¬Μ, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ζ―΄ –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –ë–Ψ–±―Ä―΄–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Κ―¹―², ―²–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―΅–Β―¹–Α–Μ –Ζ–Α―²―΄–Μ–Ψ–Κ. –Δ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨.
–· ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é ―Ä–Β–±―è―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –£–¦–ö.
–£–Α―¹―è –Δ―Ä–Α–≤–Κ–Η–Ϋ, –€–Η―à–Α –ë–Α–Ζ–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –ö–Ψ–Μ―è –†―É―¹―¹―É, –Γ–Α―à–Α –¦–Η―¹–Ϋ―è–Κ, –Δ–Α–Ϋ―è –ë―Ä―΄–Κ―¹–Η–Ϋ–Α, –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –î–Α–≥―É―Ä–Ψ–≤, –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Μ–Η–Ω–Β–Ϋ―΅―É–Κ, –ê–Μ–Μ–Α –Δ―é―²―é–Ϋ–Ϋ–Η–Κ, –û–Μ–Β–≥ –Ξ–Μ–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –°―Ä–Α –ö–Ψ–±―Ä–Η–Ϋ, –€–Η―à–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ë–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –ù–Α–¥―è –ü–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Θ–Μ―É–≥–±–Β–Κ –ï―¹–¥–Α―É–Μ–Β―²–Ψ–≤, –ô–Ψ–Ϋ–Α―¹ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α―É―¹–Κ–Α―¹, –€–Ζ–Η―è –Ξ–Β―²–Α–≥―É―Ä–Η... –‰–Ϋ―΄―Ö ―É–Ε–Β –Η –Ϋ–Β―² ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―à―É –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ.
–ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Μ–Ψ―¹–Κ–Α, ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ω–Η―à―É―â–Β–Φ―É, ―²–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Δ–≤–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä–Β, 25. –Δ–Α–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―É–Φ–Β–Μ―¨―Ü―΄ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –ï―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹.
–ù–Α–Φ –Ε–Β –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ ―É―΅–Η―²―¹―è –Η –±―É–¥–Β―² ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –¦–Η―²–Β. –Θ –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―ë –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η.
 
–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–± –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ?
–· ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Ε–Η–Μ –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ψ ―¹–Β–±–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Α―Ä―É –±–Α–Β–Κ.
–û ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨―Ü–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ. –ü–Ψ―ç―² –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –ß―É–Β–≤, –Ζ–Α–Κ–Α–¥―΄―΅–Ϋ―΄–Ι –¥―Ä―É–≥ –≤―¹–Β―Ö –Μ―ë―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Κ―É–Μ―É–Α―Ä–Α―Ö –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è.
- –Γ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –≤―΄–Ω–Η–≤–Α–Μ? βÄ™ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è.
- –ù–Β―², - –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è ―è.
- –ê ―è –≤―΄–Ω–Η–≤–Α–Μ! βÄ™ –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹. βÄ™ –ö–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―²―É–Ϋ. –½–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―¹–±–Η―²―΄―Ö –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Α?
- –®–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –¥–≤–Α, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
- –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –¥–≤–Α, - –ß―É–Β–≤ –Ψ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―à―ë–Ω–Ψ―². βÄ™ –ê –Β―â―ë –¥–Β–≤―è―²―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö.
- –€―΄ –Ε–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η. βÄ™ –· ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –Ϋ–Α ―à―ë–Ω–Ψ―².
- –ê –≤ –ö–Ψ―Ä–Β–Β?
–Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –≤–Ζ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―ë–Φ –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ–Β –Η ―¹―²–Α–Μ –Β―ë –≤―΄–Κ―Ä―É―΅–Η–≤–Α―²―¨.
- –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–± ―²–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Β–Ι, –Η –Μ–Β―²–Α―²―¨ –Β–Φ―É, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Β–¥―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι!
- –Δ―Ä–Η–Ε–¥―΄, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
–· –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ψ―²–Ϋ―è―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―É, –Ϋ–Ψ –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Β―ë, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α –≥–Α―à–Β―²–Κ―É –Ω―É―à–Κ–Η, –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²―¨–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α.
- –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–± ―¹–Α–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –≤–Ζ–Μ–Β―²–Α–Μ –Η –Μ―É–Ω–Η–Μ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤, –Κ–Α–Κ ―¹–Η–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Ζ! –î–Β–≤―è―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Η–Μ, ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –ê –±―΄–Μ–Η –Β―â―ë –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω–Α―Ä–Ψ―΅–Κ–Α ―Ä–Β–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö.
- –€–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω―¨―ë―à―¨, - ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―è.
- –· ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é: ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―É –≤–Α―¹ –Μ―ë―²―΅–Η―Ü–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²? –Θ –ü–Ψ–Κ―Ä―΄―à–Κ–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ―ç―²–Α–Ε–Β―Ä–Κ–Α¬Μ, –Α ―É –≤–Α―¹?¬Μ –ê –Ψ–Ϋ, –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―΄. –£ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –≤–Ω–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι.
–Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –¥–Ψ –Ϋ–Ψ–≥.
- –‰ ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ?
–· –≤―¹―ë –Ε–Β –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―É –Η–Ζ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤ –ß―É–Β–≤–Α.
- –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ë–Β―Ä―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―ë―² –≤―Ä–Α–≥–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²―¨–Β –Η –¥–Α–≤–Μ―é –Ϋ–Α –≤―¹–Β –≥–Α―à–Β―²–Κ–Η!¬Μ –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²―¨–Β¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ–Β ¬Ϊ―ĬΜ: –Ω–Β―Ä―ç–Κ―Ä―ç―¹―²―¨–Β.
- –Θ –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
- –ù–Ψ ―²―΄ –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹, –Α –Ψ–Ϋ –Η–Ζ –ß–Β―Ä–Ϋ–Η–≥–Ψ–≤–Α, - –Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹.
- –€–Ψ–Ι –¥–Β–¥ ―²–Ψ–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–≥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è. βÄ™ –£―¹–Β –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–±―΄ –Ψ―²―²―É–¥–Α. –ö–Ψ–Ε–Η –¥―É–±–Η–Μ–Η. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ε–Β–Φ―è–Κ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è ―²–Α–Κ–Α―è.
- –‰―à―¨ ―²―΄! βÄ™ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―²–Η–Μ―¹―è –ß―É–Β–≤. βÄ™ –ù–Α–¥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨.
–£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–± –‰–≤–Α–Ϋ–Β –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–±–Β ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―ç―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –î–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ.
–£ –î–Ψ–Φ–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–ü–Η―Ü―É–Ϋ–¥–Α¬Μ ―è ―à―ë–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ö–Ψ–Μ–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β –Κ –Μ–Η―³―²―É.
- –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–±! βÄ™ –Ψ–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨–Β–≤ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä―É. βÄ™ –ù–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ–Κ –Ζ–Α –≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Β–¥–Β―à―¨?
- –ù–Β―², - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è –Η –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ –Μ–Η―³―².
–Δ–Α–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –î–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –î–Ψ–Φ–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –±―΄–Μ–Η ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –ö―É―Ä―à–Β–≤–Β–Μ―è. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ε―ë–Ϋ―΄ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Η –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι.
–•–Β–Ϋ–Α –î–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Β―²–Α –≤–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ–Β. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η –±―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Α―Ö, –≤ ―É―à–Α―Ö –Η –Ϋ–Α ―à–Β–Β –±―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Β―ë ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β.
- –£―΄ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅–Α? βÄ™ –Ψ―¹–≤–Β–¥–Ψ–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α, –≤–Ζ–¥―ë―Ä–Ϋ―É–≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –±―Ä–Ψ–≤―¨.
- –û–¥–Ϋ–Ψ―³–Α–Φ–Η–Μ–Β―Ü, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
- –ê ―è –¥―Ä―É–Ε―É ―¹ –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, - ―É―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α. βÄ™ –û–Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–≥―Ä–Α–Β―² –≤ –Κ–Α―Ä―²―΄.
- –£ –Ψ―΅–Κ–Ψ? βÄ™ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è ―è.
- –£ –Ω―Ä–Β―³–Β―Ä–Α–Ϋ―¹, - ―²–Ψ–Ε–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α. βÄ™ –û–±―΄–≥―Ä―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―¹–Η–¥–Η―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ –¥―Ä―É–Ε–±–Β.
–û–Ϋ–Α ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―É―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. –î–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α―à ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä.
–ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Μ–Η―³―² –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è, –Η ―è –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―΄―à–Β–Μ.
¬Ϊ–Γ―²–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨, - –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ ―è, - –Ε–Β–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Α –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–±–Α –Η–≥―Ä–Α–Β―² –≤ –Κ–Α―Ä―²―΄. –ê ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ?¬Μ
–£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –±―΄–Μ ―΅–Η―¹―²–Ψ ―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι. –€–Α―Ä―à–Α–Μ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ–≥ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β –Ω–Ψ –¥―É―à–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Ϋ―è –Η –Ϋ–Ψ―΅–Η.
–£ –¥–≤–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι –î–Ϋ–Β–Ι ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε. –ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―²―΄―¹―è―΅–Β–Μ–Β―²–Η―è –Ψ―² –†–Ψ–Ε–¥–Β―¹―²–≤–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Α –±―Ä–Α―²―¨―è-―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α–Φ, –Η –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.
- –ü–Ψ–Β–¥–Β―à―¨ –≤ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―ç―² –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –û―Ä–≥–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α.
- –ü–Ψ–Β–¥―É, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
–î–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α –î–Ϋ―è―Ö ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –€–Η–Ϋ―¹–Κ–Β, –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―Ö –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Β ¬Ϊ–°–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Α―è¬Μ. –Δ–Α–Φ ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ―΄–Φ. –û–Ϋ–Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Η–≤–Α–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Κ―É―¹―΄–≤–Α–Μ–Η, –Η ―¹–Β―Ä–±―΄ –Ϋ–Β ―¹―¹–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―Ö–Ψ―Ä–≤–Α―²–Α–Φ–Η, –Α –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Η ―¹ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η.¬†
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ ¬Ϊ–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Β¬Μ –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–¦–Α–¥¬Μ, –Η –¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è.
- –•–Α–Μ–Κ–Ψ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Β–Φ―É –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. βÄ™ –· ―²–Β–±―è –≤–Ψ –≤―¹–Β ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Η –≤―¹―²–Α–≤–Η–Μ.
–ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ ―É–Β―Ö–Α–Μ –≤ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ –Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η.
- –½―Ä―è ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –≤ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –≤–Ψ–Ι–¥―è –≤ –Φ–Ψ–Ι –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―².
- –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β? βÄ™ –≤―¹―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è ―è.
- –Λ–Α–Φ–Η–Μ–Η―è ―É ―²–Β–±―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è.
–ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ ―É―Ö–Φ―΄–Μ―¨–Ϋ―É–Μ―¹―è.
- –ù―É, –¥–Α, - ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―è.
- –Δ―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―à―¨, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α.
–‰ –ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –≤–Μ–Η–Ω –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Ι –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η.
–£ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Β. –£―΄–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ βÄ™ –Α ―²–Α–Φ ―¹―É–Β―²–Α, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α―Ö, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä. ¬Ϊ–•–¥―É―² –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ¬Μ, - –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ –Η –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä―Ä–Ψ–Ϋ.
- –Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–± –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ? βÄ™ –Ω–Ψ–¥–±–Β–Ε–Α–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –Ω–Α–Ω–Α―Ö–Β.
–‰ –ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ.
–û–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―à–Α–≥ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―Ä―É–Κ–Η –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―É –Η –≤―΄–Ω―è―²–Η–Μ ―É–Ε–Β –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –±―Ä―é―à–Κ–Ψ.
- –Θ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–±–Α, - –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, - –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α. –· –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ.
- –ù–Ψ –Φ–Α―Ä―à–Α–Μ –≤–Β–¥―¨ –Μ–Β―² –¥–Β―¹―è―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―É–Φ–Β―Ä, - –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ ―è.
- –≠―²–Ψ –¥–Μ―è ―²–Β–±―è ―É–Φ–Β―Ä, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ. βÄ™ –ê –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ϋ –Ε–Η–≤–Β–Β –≤―¹–Β―Ö –Ε–Η–≤―΄―Ö.
–ë–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―é–Κ–Α –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β –Μ―É―΅―à–Β–Ι –≤ –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε–Β –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―΄. –ù–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β. –£ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Α–±–Μ–Η―΅–Κ―É ―¹ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι ¬Ϊ–ö–Ψ–Ε–Β–¥―É–±¬Μ –Η ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β―ë. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ.
- –ê –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η! βÄ™ –Ζ–Α–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –≥–Μ–Α–Ζ–Α. βÄ™ –· –Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–≤ –Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤―ë–Ζ, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –Γ―É–≤–Β–Ϋ–Η―Ä―΄ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –ù–Β―², ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è ―É ―²–Β–±―è ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è.
–· –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Β–Φ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Α –≤―¹―è –Φ–Ψ―â―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ù–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α―Ö –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –î–Ϋ―è –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –≥–Ψ–¥ –Ψ―² –≥–Ψ–¥–Α –Κ―Ä–Β–Ω―΅–Α―é―â–Η―Ö, ―è –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η―² –Μ–Η ―ç―²–Α ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –≤ ―Ä―è–¥―É ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö.
–û–Ϋ–Α –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α.
–£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –î–Ϋ―è―Ö ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨.
–ù–Β –Ζ–≤–Α–Μ–Η.¬†
 
–ê –Φ―΄ –±–Α–Μ–Κ–Α―Ä―Ü―΄
–û―² –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –ê–Μ–Η–Φ–Α –ö–Β―à–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α –≤ –ù–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ. –£ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨, ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ, –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Γ–Γ–Γ–†. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –¦–Η―²―³–Ψ–Ϋ–¥, –Α ―²–Ψ–≥–¥–ΑβÄΠ
–· –Ϋ–Α―à―ë–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –±–Η–Μ–Β―² ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –¦–Η―²―³–Ψ–Ϋ–¥–Α –Γ–Γ–Γ–†, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö–Β―à–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ. ¬Ϊ–£ –ù–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Β –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ¬Μ, - –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ ―è.
–¦–Β―²–Β–Μ ―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―ë–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.
- –ö―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –ö–Β―à–Ψ–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è.
- –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ! βÄ™ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅.
- –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –ù–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Α–Β–Φ –≤ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―² –€–Η–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –£–Ψ–¥?
- –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é,¬† - –Ω–Ψ―΅–Β―¹–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―²―΄–Μ–Ψ–Κ.
–ù–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥–Α–Μ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–≤–Β–Ζ―²–Η –≤ –ù–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –Η ―è ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ―¹―è.
–£ –€–Η–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –£–Ψ–¥–Α―Ö –Ϋ–Α―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –€―É―Ä–Α–¥, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–Ζ –ù–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α. –ß–Β–Φ-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β―É–Μ–Ψ–≤–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. ¬Ϊ–ë–Ψ―Ä–Β―Ü¬Μ, - –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ―¹―è ―è, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―Ö–Ψ.
- –ö–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è.
- –£ ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö.
- –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ―ë–≤–Α –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨?
- –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ! βÄ™ –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –€―É―Ä–Α–¥. βÄ™ –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―²―΄ –Ϋ–Α―à?
- –ë–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤ –±―΄–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―², - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
–€―É―Ä–Α–¥ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Α–±–Α―Ä–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Α –±–Α–Μ–Κ–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β.
–û –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―è ―¹―²–Α–Μ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Α―â–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β. –Γ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è ―¹–Β–Ϋ―²–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η.
–€―΄ ―¹–Β–Μ–Η –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η. –£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α ―¹–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α ―¹ ―à–Ψ―¹―¹–Β –Η –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Α –≤ –≥–Ψ―Ä―΄.
¬Ϊ–ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –ö–Β―à–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α?¬Μ - –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ ―è.
- –≠―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α―è ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –€―É―Ä–Α–¥. βÄ™ –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ―É―à–Α–Β–Φ.
–€–Α―à–Η–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―²―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―³–Β. –€―΄ –≤―΄―à–Μ–Η.
- –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―É, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–≤―à–Α―è –Ϋ–Α―¹ ―É –¥–≤–Β―Ä–Η.
–û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –Ψ–±―â–Β–Ω–Η―²–Α, –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η βÄ™ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≤–Β―¹.
- –≠―²–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤.
- –ù–Β―², –Ϋ–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Η¬† ―΅―ë–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Β―à―¨, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö. –ù–Α –Ϋ―ë–Φ –¥―΄–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ε–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―É―¹–Κ–Η –±–Α―Ä–Α–Ϋ―¨–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Β–Ι–Κ–Η. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Φ―΄ –Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ ¬Ϊ–Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Κ–Η¬Μ.
- –½–¥–Β―¹―¨, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥–≤―É―Ö –±–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η, - –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤.
- –Δ―Ä―ë―Ö, - ―É―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è ―è.
- –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ–Ψ –≤―΄–Ω―¨–Β–Φ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –€―É―Ä–Α–¥. βÄ™ –£―¹–Β –±–Ψ―Ä―Ü―΄ βÄ™ –±―Ä–Α―²―¨―è.
–€―΄ –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Β–Ι–Κ―É. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α.
- –ù–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Β ―É–Φ–Β―é―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Ψ–±―¹–Α―¹―΄–≤–Α―è –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ―É. βÄ™ –ù–Ψ –Ω―Ä–Η ―΅―ë–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±–Ψ―Ä―Ü―΄? –€―΄ –≤–Β–¥―¨ –Κ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η.
- –≠―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Η–Ϋ–Κ–Α, - –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –€―É―Ä–Α–¥. βÄ™ –ù–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Β –±–Ψ―Ä–Β―Ü βÄ™ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨.
–€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨. –Θ–Ε ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≤―ë―Ä. –ê –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―² –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―². –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Α –Κ–Ψ―Ä–Β–Ι–Κ–Α. –î–Α –Η –≤–Ψ–¥–Ψ―΅–Κ–ΑβÄΠ
- –Γ–Μ―É―à–Α–Ι, ―è –Ϋ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Β–Μ –Η –Ϋ–Β –Ω–Η–Μ, - ―à–Β–Ω–Ϋ―É–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α ―É―Ö–Ψ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤. βÄ™ –ê ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –¥–Α–Μ―¨―à–Β?
- –ü–Ψ–Β–¥–Β–Φ –≤ –ù–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, - ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ –Β–≥–Ψ –€―É―Ä–Α–¥. βÄ™ –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ö–Β―à–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α.
- –Δ―΄ –Κ–Β–Φ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―à―¨? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è –Β–≥–Ψ.
- –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É.
- –ù–Α –Κ–Ψ–≤―ë―Ä –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨?
- –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ.
–€―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η.
–î–Α–Μ―¨―à–Β –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –€―É―Ä–Α–¥.
–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –ö–Β―à–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Φ–Ϋ–Β –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Η–Φ. –ê –Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ.
–ù–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –ö–Β―à–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―É –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ ―é–±–Η–Μ―è―Ä–Α.
–ü–Β–Μ–Η –Η –Ω–Μ―è―¹–Α–Μ–Η –Α―Ä―²–Η―¹―²―΄ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Κ–Α–±–Α―Ä–¥–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ.
–ù–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η.
- –½–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Κ–Α–±–Α―Ä–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è.
- –ö–Α–±–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Κ–Η, - ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
- –ß–Β―Ä–Κ–Β―à–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η.
- –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Β –Β―¹―²―¨ –Η ―΅–Β―Ä–Κ–Β―¹―΄! βÄ™ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è ―è.
- –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è, - ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≥–Μ–Α–≤–Α. βÄ™ –‰ ―΅–Β―Ä–Κ–Β―à–Β–Ϋ–Κ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―²―¹―è –≤–Η―à–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä―²–Β.
- –ü―É―¹―²―¨ –±―É–¥―É―² –≤–Η―à–Β–Ϋ–Κ–Η, - ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―è.
–ù–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Η–Ζ―è―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ϋ–Α –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β, –Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.
–£―¹–Β –Κ–Α–≤–Κ–Α–Ζ―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―²―¹―è ―â–Β–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –Η –Κ–Α–±–Α―Ä–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –· –Ω–Η–Μ –Η –Β–Μ ―¹ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é.¬† –ù–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Μ–Β―²–Α―²―¨ –Η–Ζ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α ―¹ ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Ψ―² –±–Ψ–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –î–Α –Η ―¹–Β―Ä–¥―΅–Η―à–Κ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε –Ϋ–Β ―é–Ϋ–Ψ―à–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–≤―Ä–Β.
–· –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–±–Α―Ä–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η –±–Α–Μ–Κ–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ζ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α.
¬Ϊ–Θ –Ϋ–Η―Ö –≤–Β–¥―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Η¬Μ, - –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―è.
- –ê –Ε–Η–≤―ë–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Β, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≥–Μ–Α–≤–Α –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η. βÄ™ –ë―΄–≤–Α―é―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –±–Ψ―Ä–Β–Φ―¹―è.
¬Ϊ–ë–Β–Ζ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ –Ϋ–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è¬Μ, - ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―è.
¬†–ë–Α–Ϋ–Κ–Β―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è, –Φ―΄ ―¹ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Β–Φ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―Ä–Α―²–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Α–≤–Κ–Α–Ζ―Ü–Α–Φ–Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Α–Μ–Α, ―¹–Β–Μ–Η –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É –Η ―É–Κ–Α―²–Η–Μ–Η –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É. –ù–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤ –±―΄–≤―à–Β–Φ ―¹–Α–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Π–ö, –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―ç–Μ–Η―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Β–Μ―¨. –½–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Η ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Ε–Η―è–Φ–Η, –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Κ ―¹ –Μ–Η―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η, ―Ü–Β―¹–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η, –≥–Ψ―Ä–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η –±–Β–Μ–Κ–Α–Φ–Η.
- –½–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, - –≤―¹–Μ―É―Ö ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è, –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α―è―¹―¨ –≤ –Ω–Η–Ε–Α–Φ―É. βÄ™ –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―¹–Ψ–Ϋ.
–£ –¥–≤–Β―Ä―¨ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η. –· –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –±―΄–≤–Α–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α―Ö –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―É–Κ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―² –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―é―² –≥–Ψ―¹―²–Η.
¬Ϊ–ê –Φ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ε–¥―ë–Φ¬Μ, - –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ ―è.
–Γ―²―É–Κ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è, –Η ―è –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –¥–≤–Β―Ä―¨.
–€–Ψ–Η–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Μ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–Κ―¹–Α–Κ–Α–Μ–Ψ–≤. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Α–Ω–Α―Ö–Α―Ö –Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²―É.
- –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨! βÄ™ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―à–Α–≥ –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ –Α–Κ―¹–Α–Κ–Α–Μ–Ψ–≤. βÄ™ –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö ―É –Κ–Α–±–Α―Ä–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ê –Φ―΄ –±–Α–Μ–Κ–Α―Ä―Ü―΄ –Η ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Ψ―² –¥―É―à–Η ―É–≥–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―è. –Δ–Η–Φ―É―Ä, –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η!
–€–Η–Φ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―É–Φ–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α–Κ–Β―²–Α–Φ–Η. –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Η ―¹ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Η –±–Μ―é–¥–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ―è―¹–Ψ–Φ, –Ψ–≤–Ψ―â–Α–Φ–Η –Η ―³―Ä―É–Κ―²–Α–Φ–Η.
–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –≤–Ψ―à―ë–Μ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Γ―É–¥―è –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Φ –±―Ä―é–Κ–Α–Φ –Η ―²–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α–Φ, –Β–≥–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η.
- –≠―²–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²–≤–Ψ–Η –±–Ψ―Ä―Ü―΄ –≤―¹―ë ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ.
- –ë–Α–Μ–Κ–Α―Ä―Ü―΄, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
- –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι―²–Β ―Ä―É–Κ–Η –≤–≤–Β―Ä―Ö, - ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Η–Μ―¹―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η–Ζ –Α–Κ―¹–Α–Κ–Α–Μ–Ψ–≤. βÄ™ –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Φ―΄ –Ϋ–Α–¥–Β–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Α―¹ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Η―²–Β―Ä–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Β―², ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Β.
–€―΄ ―¹ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Β–Φ –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Η –≤–≤–Β―Ä―Ö.
–£ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α―Ö –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β, ―²–Α–Κ ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ.
 
–û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι, –®–≤–Β–Ι–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β
–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―¨ –≤ –ë–Β―Ä―ë–Ζ―É, ―΅―²–Ψ –≤ –ë―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η. –Γ–Α–Φ ―è –±―Ä–Β―¹―²―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Α.
- –ö―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―¨? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è.
- –ë–Β―Ä―ë–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹―΄―Ä–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Α―².
¬Ϊ–≠―²–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β¬Μ, - –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ ―è.
- –£―΄ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α―à –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ? βÄ™ ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α.
- –½–Β–Φ–Μ―è–Κ, - ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―è. βÄ™ –ê –Κ–Ψ–≥–Ψ ―è –±―É–¥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨?
- –†–Ψ―¹―¹–Η―é.
- –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è. βÄ™ –ö―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –±―É–¥–Β―²?
- –‰–Ζ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ! βÄ™ –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ―¹―è –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ. βÄ™ –î–Α–Ε–Β –Η–Ζ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η–Β–¥―É―².
–ë–Β―Ä―ë–Ζ–Α –±―΄–Μ –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹ ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η –¥–Ψ–Φ–Α–Φ–Η. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –≤ –ë–Β–Μ–Α―Ä―É―¹–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―¹–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹―΄―Ä–Ψ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Α―² ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―² ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―¨, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α.
–™–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –£―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Φ―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Α―²―É.
- –£―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –î–Ψ–Φ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―²―¨? βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Μ–Β―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α, –Ω–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É βÄ™ ―΅–Β―Ö. βÄ™ –û–¥–Η–Ϋ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä!
- –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, - ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―è. βÄ™ –‰–Ζ –ü―Ä–Α–≥–Η?
- –î–Α, –Η–Ζ –ü―Ä–Α–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―΅–Κ–Α.
–· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –ß–Β―Ö–Η–Η –Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―΅–Κ–Η.
- –ö–Α–Κ –Ζ–Ψ–≤―É―²?
- –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι.
–€―΄ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É ―Ä―É–Κ–Η.
- –ê –≤―΄ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι.
- –î–Α.
- –ü–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –°―Ä–Η―è –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β?
- –ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
–ü–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –°―Ä–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β, –Η –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ.
- –· ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤ –ü―Ä–Α–≥–Β –≤–Ζ―è–Μ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Η –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι.
–î–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η–Ζ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄ –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η.
- –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤ ―É–Φ–Β–Β―² –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é, - ―Ö–Φ―΄–Κ–Ϋ―É–Μ ―è.
- –î–Α, - –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι. βÄ™ –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Η–Ζ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄.¬†
- –‰–Ζ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄? βÄ™ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ ―è.
- –î–Α, ―É―²―Ä–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Η―è, ―²―Ä–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä―É―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―É–≤–Β–Ζ–Μ–Η –≤ ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ.
- –½–Α―΅–Β–Φ?
- –î–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η, - –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι. βÄ™ –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Η–Ζ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―É–Ε–Β ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η. –‰ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –¥–Α―é―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.
- –‰–Ζ-–Ζ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é? βÄ™ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―è –≤―ä–Β―Ö–Α―²―¨ –≤ ―¹―É―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄.
- –Θ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤, –Ψ –ö―Ä―΄–Φ–Β. –‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η.
- –·―¹–Ϋ–Ψ, - –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. βÄ™ –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Α ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ?
- –ù–Β―², –Ϋ–Α ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―¨ ―è –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ–Α.
- –Γ–Μ–Ψ–≤–Α―΅–Κ–Α?!
- –û–Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―΅–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤―ë―² –≤ –ü―Ä–Α–≥–Β. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Β–Ι –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Φ―É–Ε, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―²–Α―¹–Κ–Α―é―² –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Η―é –Η ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è―é―² ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –û–Ϋ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α.
–û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ.
- –î–Β―²–Η –Β―¹―²―¨?
- –î–Ψ―΅–Κ–Α. –Δ–Ψ–Ε–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è.
- –î–Β–Μ–ΑβÄΠ - ―è –Ω–Ψ–¥―ë―Ä–≥–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ζ–Α –Φ–Ψ―΅–Κ―É ―É―Ö–Α. βÄ™ –€–Ψ–Ε–Β―², –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é?
- –· –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―². –‰ –Ω–Ψ―ç―².
–ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α –Ψ–Ω–Ω–Ψ―Ä―²―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ. –‰–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β?
- –ü–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ι, - –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, - –Α –Κ–Α–Κ ―É –≤–Α―¹ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –™–Α―à–Β–Κ―É? –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ –®–≤–Β–Ι–Κ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ?
–û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ, –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ, –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―².
- –®–≤–Β–Ι–Κ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±―è―²,- –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ. βÄ™ –‰–¥–Η–Ψ―² –Η –≤―¹―ë ―²–Α–Κ–Ψ–ΒβÄΠ –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –±―΄―²―¨ –Η–¥–Η–Ψ―²–Ψ–Φ.
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Η ―è ―¹―²–Α–Μ –Ψ–Ζ–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α–Φ. –€―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –≤–Β―â–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ.
- –ê ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
- –· –Ζ–Ϋ–Α―é, - –Κ–Η–≤–Ϋ―É–Μ –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι. βÄ™ –¦―é–¥―è–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è ―¹–Φ–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η. –ù–Α–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι βÄ™ –Ϋ–Β―².
–£―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η ―è ―¹ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Ψ–Ι ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Β–Φ. –û–Ϋ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Η βÄ™ ―΅–Η―²–Α–Μ ―¹―²–Η―Ö–Η, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―²–Ψ―¹―²―΄, –Β–Ζ–¥–Η–Μ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η.
–Γ–Α–Φ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β –±―΄–Μ–Α –Η–Ζ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Η.
- –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è.
- –ê –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β ―²–Ψ –Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―²–Ψ –Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è–Φ–Η –Ψ―²―¹―é–¥–Α, - –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥. βÄ™ –ë–Α―Ä–±–Α―Ä–Α –≤–Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –†―É–Ε–Α–Ϋ–Α―Ö –Η –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ζ–¥–Β―à–Ϋ–Β–Φ –Κ–Ψ―¹―²―ë–Μ–Β.
–ë–Α―Ä–±–Α―Ä–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―ç―²–Β―¹―¹–Α –Η–Ζ –¦–Ψ–¥–Ζ–Η. –û–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Α, –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤.
- –û―²–Κ―É–¥–Α –Ω–Α–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α.
- –Θ―΅–Η–Μ –≤ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è. βÄ™ –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Κ–Ψ―à–Κ–Α –ë–Α―¹―è.
–ë–Α―Ä–±–Α―Ä–Α –Ω―΄–Μ–Κ–Ψ –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Η ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α.
- –ü–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, - –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α. βÄ™ –†―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤―è―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ü–Β–Μ―É―é―² –Ϋ–Β –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α, –Α ―²―Ä–Η.
- –ê –≤–Ψ―² –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ―Ä–Α–≤―è―²―¹―è, - –Ζ–Α―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è ―è.
- –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Α―¹ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―². –ê –≤–Ψ―² –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β―¹–Α―Ö –≤―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Η―ÖβÄΠ
–· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―è–Κ–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―É–¥―É―² –Ψ–± –Ψ―²―²–Ψ―Ä–≥–Ϋ―É―²―΄―Ö ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è―² –Η –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄. –ö―²–Ψ ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ―²–Ϋ―è–Μ?
- –ù–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –ë–Α―Ä–±–Α―Ä–Α. βÄ™ –ù–Α–¥–Ψ –¥–Α–≤–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É. –½–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η.
- –û–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è.
–½–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ –Ω–Ψ―ç―²–Β―¹―¹–Α–Φ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η ―è –Ζ–Α―Ä―ë–Κ―¹―è –Μ–Β―² ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―É.
–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―³–Β―Ä–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ¬Ϊ–Ζ―É–±―Ä–Ψ–≤–Κ―É¬Μ. –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―Ä―É–Κ–Β.
- –•–Α–Μ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω―¨―é―² –Ω–Η–≤–Ψ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ.
- –£–Ψ―² –Ω–Η–≤–Ψ, - –≤–Ζ―è–Μ ―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α –±―É―²―΄–Μ–Κ―É.
- –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Η–≤–Ψ.
–û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –±―΄―²―¨ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ―΄–Φ –≤ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Η ―ç―²–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Ψ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―ç―²―΄, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ψ–±―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ ―¹ –Φ–Ψ―¹–Κ–Α–Μ―ë–Φ.¬†
- –ü–Ψ–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨―¹―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η―è, - –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –≤ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ω–Ψ―ç―² –û–Μ–Β–Κ―¹–Η–Ι, - –Φ―΄ ―¹ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ψ–±―â–Α–Β–Φ―¹―è!
–ö –Ϋ–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –ö–Α―Ä–Β–Μ –Δ–Κ–Α―΅, ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ü–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―².
- –ê –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–Η –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―²–Β? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ϋ. βÄ™ –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ―É―é?
–£ –ö–Α―Ä–Β–Μ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Α –¥–≤–Α ―Ä–Ψ―¹―²–Α, –Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤–Η―¹–Α–Μ –Ϋ–Α–¥ –û–Μ–Β–Κ―¹–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Α–Η―¹―² –Ϋ–Α–¥ –Μ―è–≥―É―à–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Φ.
–û–Μ–Β–Κ―¹–Η–Ι –¥―ë―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ. –£―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –≤ –¥–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η―é ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä―É.
- –½–¥–Β―¹―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è, –Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α―è, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι. βÄ™ –ë–Β–Ζ –Ϋ–Α―Ä―É―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.
- –ë–Β–Ζ –Ϋ–Α―Ä―É―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Η–Κ―²–Α―²―É―Ä–Α, - ―É―¹–Φ–Β―Ö–Ϋ―É–Μ―¹―è ―è. βÄ™ –€–Ψ–Ε–Β―², ―²–Β–±–Β –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –Η–Ζ –ü―Ä–Α–≥–Η?
- –· ―Ö–Ψ―΅―É –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –®–≤–Β–Ι–Κ, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –û–Ϋ–¥–Ε–Β–Ι. βÄ™ –€―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η.
–Γ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –®–≤–Β–Ι–Κ–Α. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –Ω―Ä–Α–≤–¥―É –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄.¬†¬†



