–ñ–∏–∑–Ω—å –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –±–ª—é–¥–µ–π. –ï—ë –≤–µ–¥—å–º–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –•–∏–Ω–∞ –ß–ª–µ–∫ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –í–∏–µ–≤–∞ –≤–µ–∫–∞
–ñ–∏–∑–Ω—å –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –±–ª—é–¥–µ–π. –ï—ë –≤–µ–¥—å–º–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –•–∏–Ω–∞ –ß–ª–µ–∫ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –í–∏–µ–≤–∞ –≤–µ–∫–∞
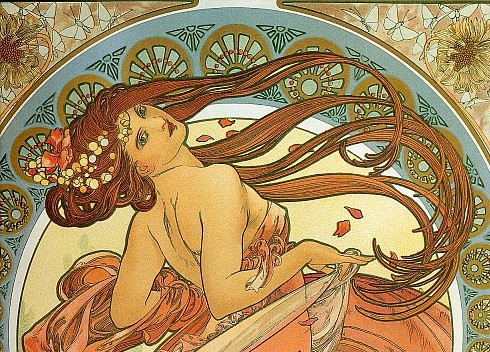
(–ü–æ –º–æ—Ç–∏–≤–∞–º –∫–Ω–∏–≥–∏ –ê–ª–∏—Å—ã –ì–∞–Ω–∏–µ–≤–æ–π ¬´–ï—ë –ª–∏–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ¬Ý
¬Ý–õ—é—Ü–∏—Ñ–µ—Ä–æ–≤–∞ –≤–µ–∫–∞¬ª, –ú., –ñ–ó–õ, 2019)
–Ø–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –•–∏–Ω—ã –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç, –∫–∞–∫ —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É—é—Ç –ª–µ—Ç–æ–ø–∏—Å—Ü—ã, —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª–æ—Å—å –∏–∑—É–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è–º–∏. –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–µ —Ñ–æ–Ω—Ç–∞–Ω—ã –∑–∞–±–∏–ª–∏ —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–º —à–∞–º–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–º, —Å–µ–ª—ë–¥–∫–∞ –ø–æ–¥ —à—É–±–æ–π –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∞—Å—å –º–µ—Ç–∞—Ç—å —Ä–µ—Å—Ç–æ—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–æ—Ä—Ü–∏—è–º–∏ —á—ë—Ä–Ω—É—é –∏ –∫—Ä–∞—Å–Ω—É—é –∏–∫—Ä—É, –∞ –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ –¥–≤—É—Ö —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü –∏ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏—Ö –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å —â–µ–∫–æ—á—É—â–∏–µ –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –≥—É—Å—Ç–æ–ø—Å–æ–≤—ã–µ –∞—Ä–æ–º–∞—Ç—ã –∞—Ñ—Ä–æ–¥–∏–∑–∏–∞–∫–∞.
–ï–¥–≤–∞ –Ω–æ–≤–æ—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–∞—è –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞ —Å–≤–æ–∏ –∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∫–æ—Ñ–µ–π–Ω—ã–µ –±–ª—é–¥—Ü–∞, –≥–ª–∞–∑–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞—Å–º–µ—Ä—Ç—å –ø–∞–ª, —Å—Ä–∞–∂—ë–Ω–Ω—ã–π –∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω—ã–º –æ–≥–Ω—ë–º, –≤—Ä–∞—á-–∞–∫—É—à–µ—Ä, –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–≤—à–∏–π –µ—ë –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–∏—Ä. –ß—Ç–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ç–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –•–∏–Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–¥—Ä–∞—Å—Ç–∞—Ç—å, –Ω–µ—Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å. –î–æ–±–∏–≤–∞—è—Å—å –µ—ë –≤–∑–∞–∏–º–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≥–∏–º–Ω–∞–∑–∏—Å—Ç—ã —Ç—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å, –≥—É—Å–∞—Ä—ã —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏—Å—å, –±–∞–Ω–∫–∏—Ä—ã —Ä–∞–∑–æ—Ä—è–ª–∏—Å—å, –∞ –∏–≥—Ä–æ–∫–∏ –ø—Ä–æ—Å–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ø—É—Ö –∏ –ø—Ä–∞—Ö. –î–∞–∂–µ —Å–∞–º –ì—Ä–∏—à–∫–∞ –Ý–∞—Å–ø—É—Ç–∏–Ω, –∑–∞–≤–∏–¥–µ–≤ –≤ –≤–∞–≥–æ–Ω–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞ —ç—Ç—É —é–Ω—É—é, –∫–∞–∫ —Ä—ã–∂–∞—è –∑–∞—Ä—è, –≥–∏–º–Ω–∞–∑–∏—Å—Ç–∫—É, –≤–¥—Ä—É–≥ —Å–¥–µ–ª–∞–ª—Å—è –º–æ—Ä–¥–æ–π –±—É–¥—Ç–æ –≤–∞—Ä—ë–Ω—ã–π —Ä–∞–∫, –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–∑–µ—Ä–Ω–∏—Å—Ç–æ –≤—Å–ø–æ—Ç–µ–ª –∏ –∫—Ä—è–∫–Ω—É–ª.
– Ты, этта, девонька, заходи! Нонеча занят, царицка просьбишками заела. Но бываю и досуж. Эхма! Ножки-то, ножки-то каки! Паучьи лапки! А глазища горя-а-ат – ведьма! Право слово – ведьма.
Хина благосклонно зевнула и поехала дальше. По обе стороны дороги и так штабелями лежали вожделеющие её стильных прелестей мужчинки. Каждому из них в ответ на банальное «Желаю-с познакомиться!» Хина с резонной оригинальностью отвечала:
– Знакомиться лучше всего в постели.
Когда, спустя несколько десятилетий, поэт-шестидесятник Андрэ Явнушенский написал своё знаменитое: «Постель была расстелена, и ты была растеряна», Хина лишь недоуменно подняла нарисованную стрелкой Амура бровь. Ещё до «Великого Октября», презирая старорежимную мораль, она выкрикнула с балкона в Хендриковом переулке личнозаветный лозунг: «Сексуальная революция forever!» И за долгие годы неустанным телом доказала свою правоту.
Хину любили все – все, кроме одного, Йоси Члека. Вечно ироничный, не опускающийся до практики теоретик литературы, он был ещё и знатоком платной свободной любви. Таскал Хину за собой по борделям, типа на познавательные экскурсии. Хотя чем же там было удивить столь продвинутое в будущее существо, изначально ведавшее всеми женскими тайнами.
Они поженились, и, не обременяя себя супружескими условностями, зажили так дружно и счастливо, что семейную гармонию никто не мог нарушить. Взявшись за руки, вступили в ряды ГПУ, дабы с пользой для личного и общего дела проводить свободное от богемы время. На огненно-рыжий ледяной Хинин жар отовсюду слепошаро слетались, как шальные мотыльки, многочисленные поклонники: искатели пряных ощущений, служители искусства и «товарища маузера».
–ê–≤–∞–Ω–≥–∞—Ä–¥–Ω—ã–π –ø–æ—ç—Ç –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π, –ø—Ä–∏–≤–æ–ª–æ–∫–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –ø–æ–Ω–∞—á–∞–ª—É –∑–∞ –µ—ë –º–ª–∞–¥—à–µ–π —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π –§–∏–Ω–æ–π, —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤–ª—é–±–∏–ª—Å—è –≤ –≥–æ—Ä—è—á–µ–≥–ª–∞–∑—É—é –≥–µ—Ç–µ—Ä—É. –î–µ–≤—è—Ç—ã–º —Ñ—É—Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –≤–∞–ª–æ–º –æ–Ω –æ–±—Ä—É—à–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–æ—é–∑ –•–∏–Ω—ã –∏ –ô–æ—Å–∏, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ –º–æ–ª–æ–¥–æ–∂—ë–Ω—ã –≤—ã—Å—Ç–æ—è–ª–∏. –û–Ω–∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É –≤–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ –Ω–µ—É–≥–æ–º–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ–∑–¥—ã—Ö–∞—Ç–µ–ª—è –≤ —Å–≤–æ—é –Ω–µ—Ä—É—à–∏–º—É—é —è—á–µ–π–∫—É –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –∏ –≤—Ç—Ä–æ—ë–º —Å—Ç–∞–ª–∏ –∂–∏—Ç—å –µ—â—ë –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏—á–Ω–µ–µ.
Будимир строчил стихи и поэмы как тот самый паровоз «вперёд лети – в коммуне остановка». Каждую строку он спешил прочитать в первую очередь Хине. Бывало, завалится оглоблей в её убранный по наисвежайшей парижской моде будуар, встанет в позу трибуна и ну гудеть паровозным гудком:
– Служил Гаврила в пропаганде,
–ù–∞—Ä–æ–¥ –ì–∞–≤—Ä–∏–ª–∞ –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–ª—è–ª.
–•–∏–Ω–∞, –≤ —Å–∏—Ä–µ–Ω–µ–≤–æ–º –ø–µ–Ω—å—é–∞—Ä–µ –æ—Ç –°–µ–Ω-–õ–æ—Ä–∞–Ω–∞, —Å —Å–∏—Ä–µ–Ω–µ–≤–æ–π —Å–∏–≥–∞—Ä–æ–π –æ—Ç –î–∏–æ—Ä–∞ –≤ –æ–±–≤–æ—Ä–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Å–∫–∞–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∑—É–±–∞—Ö, –Ω–∞ —Å–∏—Ä–µ–Ω–µ–≤–æ–º –ø—É—Ñ–µ –æ—Ç –ü–∞—Ä–∞–¥–∂–∞–Ω–æ–≤–∞, –≤—ã–≥–∏–±–∞–µ—Ç—Å—è –±–∞–ª–µ—Ä–∏–Ω–æ–π –∏ —Å–Ω–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫–∏–≤–∞–µ—Ç –≤ —Ç–∞–∫—Ç, –∞ –Ω–∞–¥ –µ—ë —Ü–µ–ø–∫–∏–º–∏ –∫–æ–≥–æ—Ç–∫–∞–º–∏ –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–æ–ª–¥—É—é—Ç –º–∞–Ω–∏–∫—é—Ä—à–∞ —Å –ø–µ–¥–∏–∫—é—Ä—à–µ–π.
– Ну что ж, актуально, Будик, в тему дня! – взбодрит обольстительница чуткое авторское самолюбие. – Так и продолжай, противный Щеник, на радость нашим Йосику и Анатоль-Васильичу.
Не потому ли воодушевлённый поэт посвящал всё сочинённое только ей – перманентной, как всемирная революция, Музе. Вскоре Москва, а затем и Париж с Берлином стали величать Хину Члек «второй Беатриче». Хотя почему же «второй»? Она не только ничем не уступала легендарной итальянке по количеству посвящений, но и легко превзошла её по, так сказать, женской части, ибо чувство Данта к Беатриче было всего лишь платоническим. К тому же «сто томов партийных книжек» Будимира Маньяковского по идейности, партийности и прочим литературным критериям нового времени значительно перевешивали незамысловатый и, будем откровенны, исполненный мракобесия, однотомник Алигьери.
С Будимиром в дом тройственной четы пришёл вполне заслуженный рахат-лукум. Поэт в творчестве пылал как домна, Стахановым выдавал на-гора рекордные рифмы. Шибающее афродизиаком посвящение «Хине Члек» заполонило печатные листы, и читатели порой принимали это загадочное звукосочетание за имя автора стихов.
– Я всю свою звонкую силу поэта
Тебе отдаю, бесподобная Кис! –
–Ω–∞—Ä–∞—Å–ø–∞—à–∫—É –¥–µ–∫–ª–∞–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —Å —ç—Å—Ç—Ä–∞–¥—ã –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä, –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–æ–±—â–∞—è –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–∞ –∫ –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–º—É –∏–º–µ–Ω–∏ —Å–≤–æ–µ–π –ú—É–∑—ã.
–ì–æ–Ω–æ—Ä–∞—Ä—ã –∏–∑ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∏ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∫–∞—Å—Å –ø—Ä—è–º–∏–∫–æ–º —Ç–µ–∫–ª–∏ –≤ –æ–±—ä—ë–º–∏—Å—Ç—É—é, —Ç–æ–Ω–∫–æ–π –≤—ã–¥–µ–ª–∫–∏ –∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª–æ–≤—É—é —Å—É–º–æ—á–∫—É –•–∏–Ω—ã, –¥–µ–ª–∞—è –µ—ë —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∏–º–æ–µ –≤–µ—Å–æ–º–µ–π. –ô–æ—Å—è –µ—â—ë –≥–ª—É–±–∂–µ, –≤—Å–µ–π —Å–≤–æ–µ–π –æ–±–ª—ã—Å–µ–≤—à–µ–π –æ—Ç –º—É–¥—Ä–æ—Å—Ç–∏ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π —Å —É—à–∞–º–∏, —É—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Ç–µ–æ—Ä–∏—é –∞–≤–∞–Ω–≥–∞—Ä–¥–Ω–æ–≥–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞. –ê –•–∏–Ω–∞ –æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ –∑–∞–≤–∞–ª–∏–≤–∞–ª–∞ –≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –ø–∞–∂–∞ —â–µ–ø–µ—Ç–∏–ª—å–Ω—ã–º–∏ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏—è–º–∏.
¬Ý‚Äì –©–µ–Ω–∏–∫! ‚Äì —â–µ–±–µ—Ç–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. ‚Äì –î–ª—è —Ç–æ–≥–æ —á—Ç–æ–±—ã —Ä–∞–∑–¥–µ—Ç—å –¥–∞–º—É, –Ω–∞–¥–æ –µ—ë –¥–ª—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ–¥–µ—Ç—å. –ê –º–µ–Ω—è —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Ä–∞–∑–¥–µ—Ç—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –∏ —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å-—Ç–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –ù–∏ —Ç–µ–±–µ –ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–Ω–æ–π –Ω–æ—Ä–∫–æ–≤–æ–π —à—É–±–∫–∏, –Ω–∏ –ø–∞—Ä—á–æ–≤–æ–π —é–±–∫–∏ –∞-–ª—è –º–∞–¥–∞–º –ü–æ–º–ø–∞–¥—É—Ä, –Ω–∏ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–∞ —à—ë–ª–∫–æ–≤—ã—Ö —Ç—Ä—É—Å–∏–∫–æ–≤ ¬´–ò–Ω—Ç–∏–º–Ω–∞—è –Ω–µ–¥–µ–ª—å–∫–∞¬ª –æ—Ç –ö–æ–∫–æ –®–∞–Ω–µ–ª—å. –Ø, –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞—é. –ó–∞ —á—Ç–æ –º–Ω–µ ‚Äì –º–Ω–µ! ‚Äì —ç—Ç–æ?
–ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –æ—Ç —Å—Ç—ã–¥–∞ –∫—Ä–∞—Å–Ω–µ–ª, –∫–∞–∫ –≤–æ—Å–ø–µ—Ç–æ–µ –∏–º –Ω–∞ –≤—Å–µ –ª–∞–¥—ã –∑–Ω–∞–º—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª—Å—è –≤ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ —Ç—É—Ä–Ω–µ –∫—É–¥–∞-–Ω–∏–±—É–¥—å –Ω–∞ —é–≥–∞.¬Ý
Провинциальная публика не везде проявляла сознательность, и поэт, видя полупустой зал, праведно гневался на коснеющего «гегемона» и обмещанившийся комсомол. Врываясь наутро в местное ГПУ, ставил вопрос политическим ребром: «Кто не с нами, тот против нас!». Под «нами» он, разумеется, первым делом имел ввиду Кисёныша-Йосёныша с собой, но чекистам, чтобы не расхолаживать, сокровенного не раскрывал. Постепенно Маньяковский вообще наладился первым делом посещать ГПУ, а уж потом идти в концертный зал. Авторитет «органов» в деле пропаганды социалистической литературы, ввиду не остывающего от работы «товарища маузера», был так высок, что выступления пошли с аншлагом.
Благодаря этому Хина наладилась регулярно укатывать с Йосей в Европу, дабы отдохнуть от Совдепии и не пропустить последнего писка моды. Быть самой элегантной в московском бомонде, несмотря на гражданскую войну, военный коммунизм и прочие досадные обстоятельства, – иначе она не могла! Благо, сестра Фина обосновалась в Париже замужем за прогрессивным поэтом Луи Тарасконом и держала её в курсе всех достижений высокой моды, переправляя лучшие образцы в Москву дипломатической почтой. Фина также сотрудничала с «товарищами из ЧК» и теперь напористо приобщала безалаберного сюрреалиста Луи к надёжным ценностям соцреализма и коминтерна. Вскоре Луи приобщился столь плотно, что записался в компартию Франции и, наведываясь с женой в Москву, сделался штатным другом молодой, не избалованной вниманием, Советской республики.
–§–∏–Ω–∞ –ø–æ –ø—Ä–æ—Å—å–±–µ –•–∏–Ω—ã —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–∏—Ç—å —Å—Ç–∏—Ö–∏ –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –Ω–∞ —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–π. –° –ª–∏—Ä–∏–∫–æ–π –æ–Ω–∞ –µ—â—ë —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∞—Å—å, –∞ –≤–æ—Ç —Å —Ä–µ–∫–ª–∞–º–Ω—ã–º —à–µ–¥–µ–≤—Ä–æ–º –ø–æ—ç—Ç–∞ ¬´–ù–∏—á–µ–≥–æ –∫—Ä–æ–º–µ, –∫–∞–∫ –≤ –ú–æ—Å—Å–µ–ª—å–ø—Ä–æ–º–µ¬ª –≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º–∏–Ω–∫–∞.¬Ý
– Поднажми, – густо подкрашивая ядовито-багровой помадой губы, убеждала её Хина. – Это лучшее, что создал Будик. Впрочем, нет. Ещё это:
–¢–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏ –±–ª—é–¥–∏!
–ù–∞ –ø–æ–ª –Ω–µ –ø–ª—é–π—Ç–µ!
‚Äì –ß—Ç–æ –∑–∞ –±–ª—é–¥–∏?¬Ý
– Неологизм! Каково, а?! Щен гений, как сказанёт – картина.
– Где же?
– Не скажи. Только вслушайся: тут и блюды, и верблюды, и блювать. Да мало ли что!
– А Йося?
– В восторге! Сказал: бедный Витя Хлебников отдыхает.
– Но как это переведёшь для парижан?
‚Äì –í–æ—Ç —Ç—ã –∏ –∫—É–º–µ–∫–∞–π, –∞–≤–æ—Å—å –¥–æ—Ç—É–º–∫–∞–µ—à—å!¬Ý
–§–∏–Ω–∞ –ø–æ–º–æ—Ä—â–∏–ª–∞—Å—å –æ—Ç —Ç–∞–∫–∏—Ö –±–∞–∑–∞—Ä–Ω—ã—Ö —Å–ª–æ–≤–µ—á–µ–∫, –æ—Ç–Ω–µ—Å—è —ç—Ç–æ –∫ –ø–ª–æ—â–∞–¥–Ω–æ–π –ª–µ–∫—Å–∏–∫–µ –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –∑–∞–±–∏–≤—à–µ–π –•–∏–Ω–µ –≤—Å–µ —É—à–∏ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä–∏—Ñ–º–∞–º–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ —Ä–∞–∑–≤–µ –∂–µ –æ—Ç–∫–∞–∂–µ—à—å —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–π —Å–µ—Å—Ç—Ä–µ, —Å –µ—ë –≤–ª–∞—Å—Ç–Ω–æ–π –º–∞–≥–∏–µ–π –æ—á–∞—Ä–æ–≤—ã–≤–∞—Ç—å! –í —Å–≤–æ—ë –≤—Ä–µ–º—è –•–∏–Ω–∞ –≤ –º–æ–º–µ–Ω—Ç —É–≤–µ–ª–∞ –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –æ—Ç –≤–ª—é–±–ª—ë–Ω–Ω–æ–π –§–∏–Ω—ã, –∏ –æ–Ω, –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, —É–ª–µ–ø—ë—Ç—ã–≤–∞–ª, –∑–∞–±—ã–≤ –ø—Ä–æ –≤—Å—ë –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç–µ, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —â–µ–Ω–∫–∞ —Å —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ –∑–∞–≤–∏–ª—è–≤—à–∏–º —Ö–≤–æ—Å—Ç–æ–º. –≠—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –µ—â—ë –¥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π. –ë—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–∞—è –¥–µ–≤–∏—Ü–∞ –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ–¥—ã –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∞ –∏–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç —Å–≤–æ–µ–≥–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ –¥–∞–∂–µ –µ—ë —Ä–µ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å –±–µ–∑–º–æ–ª–≤–Ω–æ –ø–æ–∫–æ—Ä—è–ª–∞—Å—å —á–∞—Ä–∞–º –•–∏–Ω—ã.
И вроде красивой Хину не назовёшь: худого росточка, ноги как спички, подбородок тяжеловат да впридачу загорбок на шее, искусно скрываемый фулярами, – а любого мужчинку, если захочет, в два счёта приворожит. Импозантные чиновники, хрустящие ремнями бравые комбриги, замшелые учёные, свежерумяные комсомольцы, лоснящиеся от жира нэпманы… И если бы только сильный пол! Светские столичные красавицы, равно как и серые мышки домработницы, были от Хины без ума, преданно служа ей. Особой её фишкой были жёны любовников, от которых она нисколько не таилась и которые тем не менее от ненависти быстро переходили к обожанию этой властительницы чувств. Отставленным супружницам Хина вмиг объясняла, что ревность – это дремучий пережиток средневековья и что свободная любовь есть до того осознанная необходимость, что сдерживать свои подсознательные прихоти просто-напросто вредно для здоровья.
–§–∏–Ω–∞ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å: –∫–∞–∫, –¥–µ—Å–∫–∞—Ç—å, —Ç–µ–±–µ —ç—Ç–æ –≤—Å—ë —É–¥–∞—ë—Ç—Å—è?
– Я даю мужчинкам то, чего они не могут получить в домашней койке, – ответила Хина. – Вот они и выстроились ко мне в очередь, как в мавзолей самого человечного человека. Ясно?
–ù–æ –§–∏–Ω–∞ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ —Ç–æ–ª–∫–æ–º –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª–∞, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Å–≤–æ–π –Ω–µ–º–∞–ª—ã–π —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–π –æ–ø—ã—Ç.
–û–Ω–∞ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª–∞, –∫–∞–∫ –Ω–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å –≤ –ü–∞—Ä–∏–∂–µ —Å –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–º –ø–æ –∞–≤—Ç–æ—Å–∞–ª–æ–Ω–∞–º. –ê –≤—Å—ë –∑–∞—Ç–µ–º, —á—Ç–æ –•–∏–Ω–∞ –º–æ–ª–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ —Ç–æ–º—É –∏–∑ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –Ω–∞ –∞–¥—Ä–µ—Å –¢–∞—Ä–∞—Å–∫–æ–Ω–æ–≤: ¬´–©–µ–Ω–∏–∫, –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–∏ –º–Ω–µ —Ñ–æ—Ä–¥–∏–∫ –∏–ª–∏ —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫—É—é-–Ω–∏–±—É–¥—å —Ä–µ–Ω–æ—à–∫—É, –∞ —Ç–æ —è —Å–±–∏–ª–∞ –≤—Å–µ –∫–∞–±–ª—É—á–∫–∏ –Ω–∞ —ç—Ç–∏—Ö –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö –º–æ—Å—Ç–æ–≤—ã—Ö. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å –ø–æ–ª–Ω—ã–º –Ω–∞–±–æ—Ä–æ–º –∑–∞–ø—á–∞—Å—Ç–µ–π, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –≤ —ç—Ç–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∑–∞–ø—á–∞—Å—Ç–µ–π –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –æ—Ç—ã—â–µ—à—å. –ü–æ–∑–¥—Ä–∞–≤—å, —É–∂–µ —Å–¥–∞–ª–∞ —ç–∫–∑–∞–º–µ–Ω –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ –≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è. –ú—É—Ä-–º—É—Ä, —Ç–≤–æ–π –ö–∏—Å—ë–Ω—ã—ପ. –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä, –ø–æ–∑–∞–±—ã–≤ –ø—Ä–æ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –≥–∞—Å—Ç—Ä–æ–ª–∏, –∫–∏–Ω—É–ª—Å—è –≤—ã–±–∏—Ä–∞—Ç—å –•–∏–Ω–µ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç, –∏ –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –Ω–∞—à—ë–ª –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ ¬´–Ý–µ–Ω–æ¬ª, –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —Å –ø–æ–º–æ—â—å—é —Ç–µ—Ö –∂–µ ¬´–º–æ–ª–Ω–∏–π¬ª, —Å–æ–≥–ª–∞—Å–æ–≤–∞–≤ —Å–æ —Å–≤–æ–µ–π –ö–∏—Å–æ–π —Ü–≤–µ—Ç. –Ý–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å –±—ã–ª —Ç—É—Ç –∂–µ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É —Å –¥–≤–æ–π–Ω—ã–º –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–º –∑–∞–ø—á–∞—Å—Ç–µ–π. –¢–∞–∫ –≤ –æ–±–æ–¥—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–µ–π –∏ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω–æ–π —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–µ –•–∏–Ω–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞—Å—å –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–æ–π-–∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–∏—Å—Ç–∫–æ–π —Å –ø—Ä–∞–≤–∞–º–∏ –Ω–∞ –≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –ª–∏—á–Ω–æ–π –º–∞—à–∏–Ω—ã.
–ù–µ –Ω–∞—à–ª–∞ –§–∏–Ω–∞ —Ä–∞–∑–≥–∞–¥–∫–∏ –∏ –≤ –ø–æ—ç–º–µ –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ ¬´–ü—Ä–æ —ç—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ¬ª ‚Äì –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ª–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –ø–æ—ç—Ç–∞ –æ—Ç –≤–µ—á–Ω—ã—Ö –∞–≥–∏—Ç–æ–∫. –•–∏–Ω–∞ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –ø–∞—Ä—É –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤ –æ—Ç–ª—É—á–∏–ª–∞ –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –æ—Ç —Å–µ–±—è –ª–∏—á–Ω–æ, –∏ —Ç–æ—Ç, —á—É—Ç—å –Ω–µ –∑–∞–≥–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç —Ç–æ—Å–∫–∏ –∏ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–∞, —Ä–∞–∑—Ä–∞–∑–∏–ª—Å—è –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –ª–∏—Ä–∏–∫–æ-–ª—é–±–æ–≤–Ω—ã–º —Ä—ë–≤–æ–º.¬Ý
Собственно, то была первая и последняя поэма, на которую поэта непосредственно вдохновила его перманентная Муза, ведь «Облако без порток» появилось ещё до их роковой встречи… «Пусть немного пострадает, – заметила Хина, беспечно веселясь с другими обожателями. – Для сочинителя стихов это полезно. Заодно хоть немного отвлечётся от своего агитпропа». И она оказалась права, убедившись потом, что поэмка получилась на славу. Главное, все снова могли прочесть будоражившее посвящение – «Хине Члек».
Бывало всё же, беззаботность покидала Хину – когда её Щена утаскивало на сторону. Увлечённый какой-нибудь смазливой особой, Будимир на миг забывал про твёрдое воспитание, полученное от Хины с Йосей, и в нём просыпалась подспудная мечта о простом мещанском счастье. Как-то будучи в Париже, совсем отбившись от рук, он даже посвятил одной русской эмигрантке пару стихотворений, дышащих тоской по банальному бракосочетанию. Хину это не на шутку встревожило, попускать такому отступничеству она никак не имела права. Хина приняла аварийные меры – свела поэта с легкомысленной московской актрисой. А потом получилось так, что Маньяковскому не дали очередную визу на выезд в Париж, куда он рвался на свидание с эмигранткой. Мнительный поэт воспринял это как политическое недоверие власти и не на шутку захандрил. Тем временем, чтобы его голова окончательно развеялась от мути, Хина, прихватив Йосю, срочно отбыла к своей маме в Лондон. Остальное хорошо известно: вконец расстроенный поэт, оставшись без неё и без парижанки, а лишь с одной нерешительной актриской, всё никак не бросающей мужа, покончил с собой…
–§–∏–Ω–µ –∂–∏–≤–æ –ø—Ä–∏–≤–∏–¥–µ–ª–æ—Å—å, –∫–∞–∫ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –æ–Ω–∞ —Å–∞–º–∞ –ø—Ä–∏—Ç–∞—â–∏–ª–∞ –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –≤ –¥–æ–º –∫ –•–∏–Ω–µ —Å –ô–æ—Å–µ–π ‚Äì —á—Ç–æ–±—ã —Ç–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ —á—Ç–µ–Ω–∏–µ –µ–≥–æ –ø–æ—ç–º—ã ¬´–ê–ø–æ—Å—Ç–æ–ª –ò—É–¥–∞¬ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ —Ü–µ–Ω–∑—É—Ä–∞ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–ª–∞ –≤ ¬´–û–±–ª–∞–∫–æ –±–µ–∑ –ø–æ—Ä—Ç–æ–∫¬ª. –ú–æ–ª–æ–¥–æ–π –ø–æ—ç—Ç, –µ–¥–≤–∞ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–≤ –Ω–∞ —Ö–æ–∑—è–π–∫—É, —Ç—É—Ç –∂–µ –≤—ã—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∫–∞—Ä–∞–Ω–¥–∞—à –∏ –∫—Ä—É–ø–Ω–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –ø–æ–¥ –∑–∞–≥–ª–∞–≤–∏–µ–º: ¬´–ü–æ—Å–≤—è—â–∞–µ—Ç—Å—è –•–∏–Ω–µ –ß–ª–µ–∫!¬ª –û—Ç —è—Ä–æ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞–∂–∏–º–∞ –≥—Ä–∏—Ñ–µ–ª—å —Å–ª–æ–º–∞–ª—Å—è –∏ –æ—Ç–ª–µ—Ç–µ–ª –Ω–∞ –ø–æ–ª–º–µ—Ç—Ä–∞, –Ω–æ —Å—É–ø—Ä—É–≥ –ô–æ—Å—è, –ø—Ä–∏–≤—ã–∫—à–∏–π –∫ –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–º –∫–∞–∑—É—Å–∞–º, –±—ã–ª –Ω–µ–≤–æ–∑–º—É—Ç–∏–º. –ü–æ—ç–º–∞ –µ–º—É —Å –•–∏–Ω–æ–π —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å: —Å —Ç–∞–∫–∏–º –Ω–∞–∫–∞–ª–æ–º –±–æ–≥–æ—Ö—É–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –∑–∞–º–µ—à–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ –ª—é–±–æ–≤–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏, –æ–Ω–∏ –µ—â—ë –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. ¬´–î–∞ —ç—Ç–æ—Ç –ø–∞—Ä–Ω–∏—à–∞ –≥–µ–Ω–∏–π!¬ª, ‚Äì –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–Ω–æ —à–µ–ø–Ω—É–ª –ô–æ—Å–∏–∫ –∂–µ–Ω–µ –∏ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≥–æ—Å—Ç—é, —á—Ç–æ —Å–∞–º–æ–ª–∏—á–Ω–æ –∏–∑–¥–∞—Å—Ç –ø–æ—ç–º—É. –ß—Ç–æ –∏ –±—ã–ª–æ, –Ω–∞ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º, –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª–µ–Ω–æ –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–µ –º–µ—Å—è—Ü—ã. –•–æ—Ç—è –ô–æ—Å–∏–∫ –∏ —Å–ª—ã–ª –Ω–µ–∏—Å–ø—Ä–∞–≤–∏–º—ã–º —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏–∫–æ–º, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ –∑–¥–µ—Å—å –≤ –Ω—ë–º –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–∞–ª—Å—è —Å–∞–º—ã–π –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫.¬Ý
–û–Ω —Å—á—ë–ª –Ω—É–∂–Ω—ã–º —Ö–æ—Ç—å –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–¥–∫–æ–≤–∞—Ç—å –ë—É–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –≤ —Ç–µ–æ—Ä–∏–∏ –∞–≤–∞–Ω–≥–∞—Ä–¥–∞, –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è –∏ –æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫–µ. –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ –±—ã–ª —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–º-–Ω–µ–¥–æ—É—á–∫–æ–π –∏ –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–π —Å–ª–æ–≤–µ—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ ¬´—Ä—É–±–∏–ª¬ª. –ö–Ω–∏–≥–∏ —á–∏—Ç–∞–ª —Å –±–æ–ª—å—à–æ–π –Ω–µ–æ—Ö–æ—Ç–æ–π –∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –¥–æ—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª. –ó–∞—Ç–æ —á–∞—Å–∞–º–∏ —Å –∞–∑–∞—Ä—Ç–æ–º –≥–æ–Ω—è–ª —à–∞—Ä—ã –≤ –±–∏–ª—å—è—Ä–¥–Ω–æ–π –∏–ª–∏ –∂–µ –Ω–æ—á–∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–∂–∏–≤–∞–ª –∑–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∞–º–∏. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —É—Ä–æ–∫–∏ –ô–æ—Å–∏ —Å—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –ª–µ—Ç—É, –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ, –µ—â—ë –∏ –≤ —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ç –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã—Ö –ø–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—Å–º–æ—Ä–∫–æ–≤, —É–∂–µ –∫—Ä—ã–ª –≤ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö –≤—Å—é –Ý–æ—Å—Å–∏—é —á—É—Ç—å –ª–∏ –Ω–µ –º–∞—Ç–æ–º: ¬´–Ø –Ω–µ —Ç–≤–æ–π, —Å–Ω–µ–≥–æ–≤–∞—è —É—Ä–æ–¥–∏–Ω–∞¬ª. –ë–æ–≥ –∏ –±—ã–≤—à–µ–µ –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –±—ã–ª–∏ –∏–º –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä–≥–Ω—É—Ç—ã ‚Äì –Ω–∞ —Å–º–µ–Ω—É –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –•–∏–Ω–∞ –∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –≤–ª–∞—Å—Ç—å.
–ì—Ä—è–¥—É—â–∏–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è –ª–∏—à—å –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ–∑–æ—Ä–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å –ô–æ—Å–∏ –ß–ª–µ–∫–∞: —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞, –≤–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤ –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–µ ¬´–û–±–ª–∞–∫–∞ –±–µ–∑ –ø–æ—Ä—Ç–æ–∫¬ª, –º–Ω–æ–≥–æ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –æ–∫—É–ø–∏–ª–∏—Å—å. –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∞–ª –¥–ª—è –≤—Å–µ–π —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–π —Ç—Ä–æ–∏—Ü—ã –¥–æ–±—ã–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–º –Ω–µ —Ç–æ —á—Ç–æ –º–∏–Ω–∏–º—É–º–∞ ‚Äì –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç–æ—á–Ω–æ–≥–æ –º–∞–∫—Å–∏–º—É–º–∞. –î–∞–∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –ø–æ—ç—Ç –∑–∞—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª—Å—è, –æ–Ω –¥–æ–ª–≥–∏–µ –≥–æ–¥—ã –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏–≤–∞–ª –•–∏–Ω—É —Å –ô–æ—Å–µ–π, –∏–±–æ –µ–≥–æ –ú—É–∑–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –ø—Ä–∞–≤ –∑–∞ –ø–µ—Ä–µ–∏–∑–¥–∞–Ω–∏—è –∞–≤—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∞. –≠—Ç–æ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª–æ –µ–π –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ —ç–ø–æ—Ö–∏ –±–µ—à–µ–Ω–æ–≥–æ –ù–∏–∫–∏—Ç–∫–∏-¬´–∫—É–∫—É—Ä—É–∑–Ω–∏–∫–∞¬ª –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ –æ—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –≤–∞–ª—é—Ç–Ω–æ–π ¬´–ë–µ—Ä—ë–∑–∫–µ¬ª, –∞ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—é—â–∏–µ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –¥–µ–ª–∏–∫–∞—Ç–µ—Å—ã, –≤—Ä–æ–¥–µ –≤–∏–Ω–∞, —Å—ã—Ä–æ–≤, —Å–≤–µ–∂–∏—Ö —É—Å—Ç—Ä–∏—Ü –∏ –º–æ–¥–Ω—ã—Ö –Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∞ –∏–∑ –ü–∞—Ä–∏–∂–∞ —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –§–∏–Ω–∞.¬Ý
–°–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏ —Ä–∞–¥–∏ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –•–∏–Ω–∞ –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å, –Ω–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∞ —Å–ª–æ–∂–∞ —Ä—É–∫–∏. –û–Ω–∞ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–∏—Å–µ–º —Å–∞–º–æ–º—É –°—Ç–∞–ª–∏–Ω—É, –¥–∞–±—ã —Ç–æ—Ç –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —É–≤–µ–∫–æ–≤–µ—á–∏–ª –ø–∞–º—è—Ç—å –ø–æ—ç—Ç–∞-—Ç—Ä–∏–±—É–Ω–∞. –í—Ä—è–¥ –ª–∏ –¥–æ ¬´–∫—Ä–µ–º–ª—ë–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Ä—Ü–∞¬ª –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —ç—Ç–∏ –ø–æ—Å–ª–∞–Ω–∏—è, –Ω–æ –æ–¥–Ω–æ –∏–∑ –ø–∏—Å–µ–º –≤—Å—ë –∂–µ –ø–æ–ø–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞. –ï–≥–æ —É–º—É–¥—Ä–∏–ª—Å—è –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—å —á–µ—Ä–µ–∑ —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã—Ö —Ç–µ–∫—É—â–∏–π –º—É–∂ –•–∏–Ω—ã –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞—Ä–º –ë—É—Ä–º–∞–∫–æ–≤, –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è–Ω–Ω—ã–π —Ç–∏—Ä–∞–Ω–æ–º. –°—Ç–∞–ª–∏–Ω –≤—ã–∑–≤–∞–ª –≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç–∏—è.¬Ý
– Скажи, дарагой, шьто ты думаешь о таварыше Маньяковском?
– Как же, проверяли. Источники сообщили: дома пусто, только на стене портрет товарища Ленина. Как уставится на фотографию, так часами сидит и что-то бормочет.
– Нэ шьто-то, Лаврентий, а стихи, – поправил Сталин. – Слюшай сюда:
–¢–∞–≤–∞—Ä—ã—à –õ—ç–Ω–∏–Ω, —è –≤–∞–º –¥–æ–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é
–ù—ç –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Å—Ç–∏, –∞ –ø–æ –¥—É—à–µ.
–¢–∞–≤–∞—Ä—ã—à –õ—ç–Ω–∏–Ω, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –∞–¥–æ–≤–∞
–ë—É–¥—ç—Ç —Å–¥—ç–ª–∞–Ω–∞ —ã –¥—ç–ª–∞–µ—Ç—Å—è —É–∂–µ.
–ù—ç–ø–ª–æ—Ö–æ, –∞? –ú–∞–ª–∞ —Ç—ã –µ—â—ë —Å–ª—ç–¥–∏—à—å –∑–∞ —Å–∞–≤—ç—Ç—Å–∫–æ–π –ø–æ—ç–∑–∏–µ–π‚Ķ –¢—É—Ç —Ç–∞–≤–∞—Ä—ã—à –•–∏–Ω–∞ –ß–ª—ç–∫ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∫ –Ω–∞–º —Å –ø—ã—Å—å–º–æ–º. –í–æ—Ç —à—å—Ç–æ, –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç–∏–π, —Ä–∞–∑–±—ç—Ä–∏—Å—å —Å —ç—Ç–∏–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º, ‚Äì –°—Ç–∞–ª–∏–Ω –Ω–∞–±–∏–ª —Ç–∞–±–∞–∫–æ–º ¬´–ì–µ—Ä—Ü–µ–≥–æ–≤–∏–Ω—ã –§–ª–æ—Ĭª –ø–æ—Ç—ë—Ä—Ç—É—é —Ç—Ä—É–±–∫—É. ‚Äì –í—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ —Ç–∞–≤–∞—Ä—ã—à –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∫–æ–µ-—á—Ç–æ —Å–¥—ç–ª–∞–ª –¥–ª—è –ø–∞–±—ç–¥—ã —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–∞ –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ –≤–∑—è—Ç–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ. –ò –∑–∞—Ä—É–±–∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë–º –Ω–æ—Å—É: –≤–¥–æ–≤—É (—Ç—É—Ç –≤–æ–∂–¥—å —É—Ö–º—ã–ª—å–Ω—É–ª—Å—è –≤ –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–µ–Ω–Ω—ã–µ —É—Å—ã) ‚Äì –Ω—ç —Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç—å!¬Ý
–•–∏–Ω–∞ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞: —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –æ—â—É—Ç–∏–º–æ–≥–æ –ø–æ—á—Ç–µ–Ω–∏—è –æ—Ç –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–∞—è –ë–µ–∞—Ç—Ä–∏—á–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∞. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ –≤ —ç—Ç–æ–π –¥–∏–∫–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, –≥–¥–µ –≤–æ–≤–µ–∫ –Ω–µ –≤–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –º–æ–¥—ã, –Ω–∏ –æ–º–∞—Ä–æ–≤, –Ω–∏ —É—Å—Ç—Ä–∏—Ü. –ü—Ä–∏ –∂–∏–∑–Ω–∏ –µ—ë –∏–º—è, –∏–º—è –•–∏–Ω—ã –ß–ª–µ–∫, —Å—Ç–∞–ª–æ –≤—Å–µ–º–∏—Ä–Ω–æ–π –ª–µ–≥–µ–Ω–¥–æ–π! –≠—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ —Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–¥—É—à–Ω–æ–π –º—É–∑–µ –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ ‚Äì –∫–æ—Å–æ–≥–ª–∞–∑–µ–Ω—å–∫–æ–π –ù–∞—Ç–∞–ª–∏.¬Ý
–° –≥–æ–¥–∞–º–∏, –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è–º–∏ –•–∏–Ω–∞, –ø–æ–≤–∏–Ω—É—è—Å—å –∫–∞–∫–æ–º—É-—Ç–æ –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–º—É –µ–π —Å–∞–º–æ–π –≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏—é, –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∑–∞–ø–ª–µ—Ç–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —è—Ä–∫–æ-—Ä—ã–∂–∏–µ –≤–æ–ª–æ—Å—ã –∫–æ–∫–µ—Ç–ª–∏–≤–æ–π –¥–µ–≤–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∫–æ—Å–∏—á–∫–æ–π. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –∫ –Ω–µ–π —Å–ª–µ—Ç–∞–ª–∏—Å—å, –∫–∞–∫ –º–æ—Ç—ã–ª—å–∫–∏ –Ω–∞ –æ–≥–æ–Ω—å, –µ—ë –æ–±–æ–∂–∞—Ç–µ–ª–∏: –∫—Ä–µ—Å–ª–æ-–∫–∞—á–∞–ª–∫—É, –≥–¥–µ –æ–Ω–∞ –≤–æ—Å—Å–µ–¥–∞–ª–∞ –±–æ–≥–∏–Ω–µ–π —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏ –≤ —è—Ä–∫–æ–º –º–∞–∫–∏—è–∂–µ, —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª–∏ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–æ–ª–ø–æ–π —Å–∞–º—ã–µ –∏–∑—ã—Å–∫–∞–Ω–Ω—ã–µ –ø–∞—Ä–∏–∂—Å–∫–∏–µ –∏ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–µ –≥–µ–∏ –∏ –ø—Ä–∏–º–∫–Ω—É–≤—à–∏–π –∫ —ç—Ç–æ–π –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –ø–æ—ç—Ç-–∞–≤–∞–Ω–≥–∞—Ä–¥–∏—Å—Ç –≠–∂–µ–Ω –í–æ–∑–Ω–µ—Å–µ–Ω–∫–æ. –û–±—ã—á–Ω–æ –æ–Ω–∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –≤—Å–µ–π —Ä–∞–∑–Ω–æ—Ü–≤–µ—Ç–Ω–æ–π —Ç–æ–ª–ø–æ–π –Ω–∞ –±—ã–≤—à—É—é –¢—Ä–∏—É–º—Ñ–∞–ª—å–Ω—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥—å, –Ω–æ—Å—è—â—É—é –∏–º—è –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –¢–∞–º –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–º –ø–æ—Å—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç–µ —Å—Ç–æ—è–ª –µ—ë –±—Ä–æ–Ω–∑–æ–≤—ã–π –ë—É–¥–∏–∫, –≤ –ø–æ–∑–µ –≥–æ—Ä–ª–∞–Ω–∞-–≥–ª–∞–≤–∞—Ä—è –∏ –ø–æ—ç—Ç–∞-—Ç—Ä–∏–±—É–Ω–∞. –í —Ç–æ–π —Å–∞–º–æ–π –ø–æ–∑–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–Ω –ª—é–±–∏–ª –µ–π —á–∏—Ç–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –Ω–æ–≤—ã–µ —Å—Ç–∏—Ö–∏.
– Хина, несравненная, дорогая, – перебивая друг дружку, сладко щебетали геи, – как Вы находите этот монумент, нравится ли Вам?
–•–∏–Ω–∞ –ß–ª–µ–∫ –¥–æ—Å–∞–¥–ª–∏–≤–æ –º–æ—Ä—â–∏–ª–∞—Å—å:
– Фи, мятые брюки! В таком виде на публику? Да никогда! Мои домработницы умели наводить стрелку!
–ù–∞ –º–∏–Ω—É—Ç—É –æ–Ω–∞ —É–º–æ–ª–∫–∞–ª–∞, –±–æ—Ä—è—Å—å —Å —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º. –í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ, –¥—É–º–∞–ª–∞ –•–∏–Ω–∞, –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç–µ, –ø–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏, –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –±—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –æ–Ω–∏ –≤—Ç—Ä–æ—ë–º ‚Äì –≤—Å–µ–π —Å–≤–æ–µ–π –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–æ–π —Å–µ–º—å—ë–π. –í–µ–¥—å –∫–µ–º —Å—Ç–∞–ª –±—ã –ú–∞–Ω—å—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –±–µ–∑ –Ω–∏—Ö?.. –ò—Ç–∞–∫, –ø–æ –ø—Ä–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É –ô–æ—Å–∏–∫, –ø–æ –ª–µ–≤—É—é –©–µ–Ω–∏–∫, –∞ –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ, –≤ —Ä–µ–∑–Ω–æ–º —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω–æ–º –∫—Ä–µ—Å–ª–µ, –æ–Ω–∞ —Å–∞–º–∞ ‚Äì –∏—Ö –≤–µ—á–Ω–æ–∑–µ–ª—ë–Ω–∞—è, —Ä—ã–∂–∞—è –ú—É–∑–∞.¬Ý
¬Ý
¬Ý
–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫ –ê–ª—å—Ñ–æ–Ω—Å –ú—É—Ö–∞.



