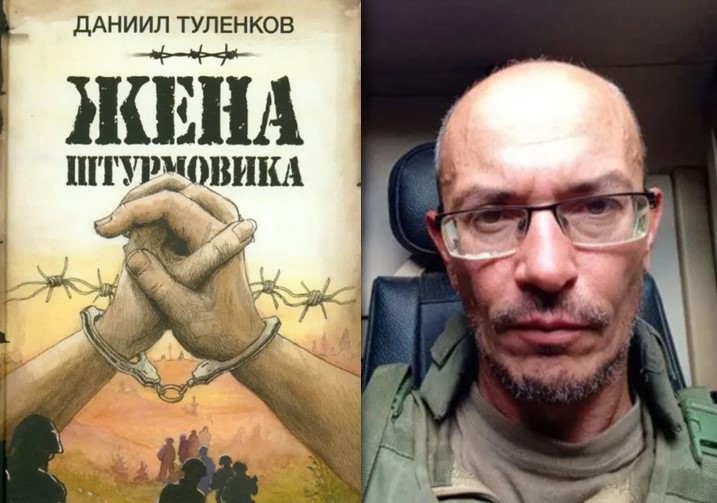«Поверь, не нужно быть в Париже, чтоб к истине быть сердцем ближе…» «Новые реалисты» или «Новые нигилисты»? (окончание)
«Поверь, не нужно быть в Париже, чтоб к истине быть сердцем ближе…» «Новые реалисты» или «Новые нигилисты»? (окончание)

Литературные штудии (начало см.№ 142)
«НЕ ЗНАЮ, ДОСТОЙНО ПОРИЦАНИЯ ИЛИ ПОХВАЛЫ ЭТО СВОЙСТВО УМА…»
Тип «шатающегося» человека, который «не у себя, не дома», склонен к подражательности. Эту особенность русского человека Ф. Достоевский называл «всемирной отзывчивостью», это «способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций». Признавая, что эта «всемирная отзывчивость» действительно есть «главнейшая способность нашей национальности», вместе с тем отметим, что М. Лермонтов в «Герое нашего времени» в определении её, не был столь категоричен. В том смысле, что она не является безоговорочно силой положительной: «Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения». Не такая простая, но даже загадочная мысль.
Может быть, пророческий гений М. Лермонтова предвидел то, как может быть превратно представлено и истолковано это драгоценное качество терпимости к другим и отзывчивости? И какими трагическими последствиями может обернуться такое извращение. Ведь это, вроде бы, «можно» было представить причиной того, что «бедная Россия заблудилась на земле» (П. Чаадаев). А способность к «самоотречению» – как препятствие к тому, что «мы до сих пор не осознали нашего назначения в мире». И даже когда вошли в Париж победителями и видя какой «приём» был нам оказан, забыли «на минуту, что мы, в сущности, – не более как молодые выскочки и что мы ещё не внесли никакой лепты в общую сокровищницу народов» (П. Чаадаев). Даже в роли победителей не смогли преодолеть в себе этого комплекса лакейства. Не в народе, разумеется, а в его образованной части. Но когда весной 1848 года Европа забурлила революцией, когда обнажилось истинное лицо её цивилизации, куда вдруг подевалась «эта податливость чужим внушениям» и «готовность подчиниться идеям, навязанным извне». П. Чаадаев пишет Ф. Тютчеву в связи с его записками «Россия и революция»: «Катастрофа произошла у нашего порога и ничему нас не научила, и немедленно вслед за тем мы сами отправились к их очагам в поисках за рождёнными ею идеями и за созданными ею ценностями… По милости небес мы принесли с собой лишь кое-какую внешность этой негодной цивилизации… Но всё же мы достаточно познакомились со странами Европы, чтобы иметь возможность судить о глубоком различии между природой их общества и природой того, в котором мы живём. Размышляя об этом различии, мы должны были естественно возыметь высокое представление о наших собственных учреждениях, ещё глубже к ним привязаться, убедиться в их превосходстве, равно как и в могуществе тех начал, на которых покоится наш социальный строй; мы должны были отыскать в наших традициях, в наших нравах, в наших верованиях, в выражении нашей внутренней жизни, в выражении нашей жизни общественной, даже и в наших предрассудках, словом во всём, что составляет наше национальное бытие… Совсем напротив, с того часа, как мы оказались в соприкосновении с иноземными идеями, мы поспешили отказаться от наших старинных туземных идей, мы сразу изменили нашим старинным обычаям, мы забыли наши почтенные традиции, мы преспокойно претерпели ниспровержение одного за другим наших вековечных учреждений: мы почти целиком отреклись от всего нашего прошлого, мы сохранили одни только наши религиозные верования. Правда, эти верования, составляющие самое сокровенное нашего социального бытия, были достаточны, дабы оградить нас от нашествия самых негодных принципов иноземной цивилизации, против дыхания самых зловредных её истечений… Очевидно, все эти революции, при которых мы присутствовали в течение полустолетия, не только не уяснили нам состояние стран, в которых они происходили, равно как и состояние нашей собственной страны, а лишь ещё затемнили наше сознание».
Почему же, когда беда нависала над страной, отбрасывались «передовые» идеи и возвращались «традиционные»? Разве не потому, что спасти народ и страну на этих «передовых» идеях было невозможно?
А в письме к Сиркуру в 1846 году П. Чаадаев писал, что податливость к чужим идеям, навязываемым извне, всё равно чужеземцами или нашими собственными господами, является существенной чертой нашего народа, «врождённой или приобретённой – это безразлично»: «Да вторжение западных идей – идей, отвергаемых всем нашим историческим прошлым, всеми нашими национальными инстинктами, – вот что парализовало наши силы, извратило все наши прекрасные наклонности, исказило все наши добродетели, наконец, низвело нас почти на ваш уровень».
Кажется, что это писано не более ста семидесяти лет назад, а сегодня. Опять перед нами стоит всё та же дилемма возвращения к литературной и мировоззренческой традиции. То ли она вновь вернулась, то ли никуда не уходила. И мы словно бродим по одному и тому же кругу. Или так устроен человек, что в нём – «зло от юности его». Эта «отзывчивость» и «терпимость» обернулось такой экспансией, такой властью мысли, когда засилье иностранных историков было таково, что образованная часть российского общества смотрела на отечественную историю глазами европейских просветителей, с изрядной долей критицизма не только к самодержавию, но к стране и народу. В обществе уже было немало «парижелюбцев». Об одном из них писал И.П. Елагин, участник подготовки первого издания «Слова о полку Игореве» в кружке А.И. Мусина-Пушкина: «Бесценные в рукописях сокровища, отцом и предками его от древности сбережённые, променял некоему английскому путешественнику на Вольтеровы и других новых мудрецов ядовитые писания, разврат, бунт, безначалие и саму гибель во Франции причинившие». В дальнейшем это перешло уже в открытую борьбу, несмотря на беспомощность доводов радикально настроенных переустроителей жизни на европейских началах. Это видно, к примеру, из письма Н. Гоголя В. Белинскому в июне 1847 года: «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации… Вольтера называете оказавшим услуги христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был ещё в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодёжь».
УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
Нам никак не обойти эту безбрежную, даже не тему русской литературы и особенность российской жизни, а давнее, застарелое, но не устаревающее направление мысли, продолжающееся до сего дня. Его можно определить так: «Париж» – «Наполеон» – «Уроки французского». Эта тема видоизменяется, но не уходит из общественного сознания. Она в литературе нашей – как некая лакмусовая бумажка, как детектор лжи для определения того, какой образ мира исповедует автор, какой культурой питается, какие ценности отстаивает. И что значит для него литература – познание мира и самовыражение (не могу молчать) или же форма самоутверждения в обществе, приобретение какой-то «репутации» или исполнение какого-то «амплуа». В конечно счёте – наивно устраивать свои земные дела, не осознавая того очевидного факта, что без устройства небесных «дел» и земные не идут впрок. Как наивно «без идеологии», то есть, без смысла своего существования «обустраивать Россию». А потому не внешние исторические картинки нас интересуют, как бы старательно их не выписывали авторы, а то главное, что за ними таится. Те мыслительные пути, по которым свершается жизнь, которые и определяют те или иные события.
Надо припомнить то, что значила, какой смысл имела «французская», «наполеоновская», скажем так, – тема в русской истории и сознании, и как она была постигнута и выражена в великой русской литературе. А началась она в нашей литературе изначально, с гения А. Пушкина.
Смысл и значение Наполеоновских войн состояли в стремлении создать единое всемирное государство, империю. Всемирное единство грезилось как высшая форма устройства человеческого общества. Но такое единство неизбежно означало и единство религиозное. Управляющий таким всемирным царством брал на себя миссию политическую и духовную: «Париж сделался бы столицей христианского мира, и я управлял бы миром религиозным так же, как политическим» (Наполеон). В таком представлении и сознании Богочеловек становится Человекобогом, устраивающим мир по своему усмотрению.
Но создать такое царство, по его мнению, можно было только овладев Востоком, где были великие империи и великие перевороты. Европа же по его представлению была «нора для кротов».
Он строил новый мир по своему представлению и произволу, беря на себя дело Божеское. И в нём, в его личности действительно было что-то нечеловеческое, выше человеческого, демоническое. Как писали историки, он превосходил все меры человеческих способностей.
В ноябре 1811 года Наполеон говорил, что через пять лет он будет владыкой мира, «остаётся только Россия, но я раздавлю её». А потому Россия воевала не только, собственно, против Наполеона, но и против этого адского замысла всемирного единства. И это сразу почувствовал народ, увидев в Наполеоне Антихриста, покушающегося на его веру и душу, прежде всего. В этом смысле становятся понятными строчки А. Пушкина: «Он русскому народу/ Высокий жребий указал». То есть, указал путь борьбы с мировым злом. И это осознавал не только народ, но и власть: «Только здесь власть и народ идут вместе и даже в некоторых случаях власть идёт за народом» (Д. Мережковский).
Наполеон виделся А. Пушкину личностью грандиозной, такой масштабной и значимой, которая не может быть измерена и постигнута ни похвалой, ни порицанием. А потому тех, кто развенчивает не только собственно его, но и его «тень», то есть продолжение его «дела», он называет малодушными и безумными: «Да омрачен позором/ Тот малодушный, кто в сей день/ Безумным возмутит укором/ Его развенчанную тень». Поэт не Наполеона защищает от малодушных и безумных, а их защищает от Наполеона как символа зла. Иное дело, что, наряду с этим, поэт различал «обезьян просвещения», кто подражал «французскому тону» и кто превозносил «Наполеона с фанатическим подобострастием» («Рославлев»).
В этой же традиции понимал Наполеона и М. Лермонтов, что его могли порицать и развенчивать только безумцы: «Безумцем порицаем он»: «Среди дружин необозримых/ Был чуть не Бог Наполеон; / Разбитый же в снегах родимых, / Безумцем порицаем он. / Внимая шум волны прибрежной,/ В изгнанье дальнем он погас – / И что ж? Конец его мятежный/ Не отуманил наших глаз!..». В смысле мы не забыли об этой всемирной угрозе, помним о ней.
Примечательно, что как А. Пушкин, так и М. Лермонтов говорят о «тени» Наполеона. То есть – о продолжении во времени его адского дела. И даже «конец его мятежный не отуманил наших глаз». То есть, мы не посчитали, что с его смертью закончилось и его дело. Для М. Лермонтова он – так же «выше похвал, и славы, и людей», так же отступивший от Бога: «И пред Творцом не трепетал» («Последнее новоселье»).
Наполеон – такая часть, такая сторона мировой жизни и истории, такой её символ, которую нельзя игнорировать или отрицать. Это то всемирно-историческое явление, которое присутствует в человеческой жизни всегда. Он воплощал в себе и выражал собой нечто такое, что не уходит вместе с ним и с его эпохой, а неотступно присутствует в человеческой жизни. Наполеон – такая адская часть мироустройства, которая продолжилась и потом. Вплоть до нашего времени с его глобализацией, с его цифровыми гигантами и интернет-монополистами, представляющими собой всё то же безбожное всемирное единство…
Л. Толстой в «Войне и мире» понимает образ и облик Наполеона совсем иначе. Он развенчивает, порицает, пытаясь его уничтожить, словно, не осознавая, что та сила, которую тот воплощал и выражал, неуничтожима и неустранима. У Л. Толстого он – маленький, ничтожный человек. Он его унижает, но не уничтожает, так как не постигает его духовную суть. Порицать, развенчивать Наполеона, значит отрицать наличие зла в мире.
Наполеон уже перестаёт быть французским, и становится всеобщим, мировым явлением. В том числе и русским явлением. В думе «Наполеон» – Наполеон: «Сей острый взгляд с возвышенным челом». В стихотворении «Предсказание» М. Лермонтова – «Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадёт», после всех ужасных напастей, наступающих после падения царской короны, когда «Зарево окрасит волны рек», является «мощный человек»: «И горе для тебя! – твой плач, твой стон/ Ему тогда покажется смешон;/ И будет всё ужасно, мрачно в нём/ Как плащ его с возвышенным челом». Возвышенное чело – признак Наполеона в стихах о России. Непостижимо, как шестнадцатилетний М. Лермонтов мог выразить эту общую мировую закономерность: после развязывания беззакония в обществе неизбежно является «мощный человек».
Иначе, можно сказать противоположно Л. Толстому, представлял Наполеона Ф. Достоевский в «Преступлении и наказании», сравнивая его мощную личность с маленьким человеком, Раскольниковым, мотивом для преступления которого стало то, что он «хотел Наполеоном сделаться, оттого и «убил». Он действовал по примеру авторитета. Ну если тому можно громить Тулон, устраивать резню в Париже, забывать армию в Египте и терять её в России, то почему ему нельзя сделать доброе дело – избавить людей от этой вредной процентщицы… Вот он – шаг к преступлению: «Разгром Тулона и залезание под кровать к старушке за красною укладкою – одно и то же» (Д. Мережковский). Всё произошло «по примеру авторитета». Он-то полагал, что в этот момент он и станет как Наполеон, станет Наполеоном. Но этого, как понятно, не случается.
Но эта французская, Наполеоновская «тема» проникла и в российское общество, что дало право персонажу «Бесов» Ф. Достоевского обличать: «Под народом вы вообразили себе один только французский народ, да и то, одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков».
Это представление как-то бродило и осознавалось в общественном сознании. Париж, как символ зла превращается в «идеал», но уже для не самостоятельных, а лакействующих людей. Это проницательно почувствовал и выразил А. Чехов в «Вишнёвом саде», устами молодого лакея Яшки: «Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно… Страна необразованная, народ безнравственный, притом скука… Невежество».
И ездили в Париж лакействующие господа, теряющие связь с народом, и со своей страной. Но было и другое, не лакействующее представление о Париже, как в стихах Я. Полонского: «Поверь, не нужно быть в Париже./ Чтоб к истине быть сердцем ближе./ И для того, чтоб созидать,/ Не нужно в Риме кочевать».
Кстати, этот тип чеховского лакея Яшки, стремящегося от «невежества» в Париж, реанимирован в повести Р. Сенчина «Чего вы хотите?», в образе деятельной прогрессистки, а точнее – революционно настроенной мамы, которая почти каждый вечер заводит разговоры с папой: «Часто мама призывает бороться, действовать, случается утверждает: нужно уезжать. «Куда?» – стонуще спрашивал папа. «В Европу»… «Но что делать?! Нам – нужно детей спасать!» («Дружба народов», № 3, 2013). От кого и почему надо спасать дочку Дашу, воспитанную на Гарри Потере, и что ей грозит, неизвестно. Но если чеховский Яшка воспринимается во всём своём ничтожестве и даже комичности, то сенчинская героиня, с тем же комплексом, однозначно, – как выразительница некой продвинутости, прогрессивности и самостоятельности суждений. Это как «цивилизационная» мантра, разумеется, передовых людей в России…
«Русские парижане» завелись давно. И если знать жила там в довольстве и роскоши, презирая Россию, то появился целый слой «круглых невежд», так называемых «искателей протекции», стремившихся «сделать себе отсюда карьеру в России» (Н. Лесков). Отметившись там, в Париже, делали «карьеру» здесь, в России, как один из персонажей Н. Лескова: «Я на иностранца буду похож, тогда уж мне в Петербурге всякий начальник в месте отказать постыдится». Ну чем это отличается от практики девяностых годов, да и нынешнего времени нашей пишущей братии, когда, тиснув книжицу где-нибудь в парижских трущобах, приезжают в Россию за «литературным признанием»?
Революционная смута начала ХХ века понималась и представлялась её творцами и просвещённой, интеллигентской частью общества по образцу Французской революции. И разве замысел мировой революции не был в определённом смысле продолжением всё того же всемирного единства, о котором грезил Наполеон? Во всяком случае, в феврале 1917 года она началась именно как такая, с разрушения монархии, с крушения великой православной державы. Другое дело, что из этого вышло нечто совсем иное, совсем не то, что задумывалось. Произошла Октябрьская революция, перекрывшая путь этому адскому строительству всемирного единения. Казалось, что уже не оставалось никаких надежд на спасение, и всё же оно произошло. Это даёт надежду на то, что и нынешняя попытка создать на земле цифровой информационный концлагерь не удастся… Люди всё-таки смогли за мишурой «учения» о классовой борьбе распознать и уяснить, что «гнёт новой лицемерной свободы оказался страшнее, чем гнёт старого откровенного рабства» (Д. Мережковский). Западноевропейской культуре не удалось создание ни всемирного государства, ни всемирной церкви. И не удастся.
Именно тем, что в революции в России было увидено продолжение Французской революции, объясняется такое резкое неприятие Франции и Парижа А. Блоком. В статье «Владимир Соловьёв в наши дни» он писал: «Источником переворотов была Франция; эта самая немузыкальная в мире страна весь мир заполонила звуками своей музыки». Под музыкой в его мире надо понимать не собственно музыку, но духовную основу человеческой жизни.
Причём, значение происходящего А. Блок прозрел задолго до революции. В письме к матери 4 сентября 1911 года он писал: «Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда – Париж не меньше, чем провинция. Бретань я полюбил легендарную, а в Париже – единственно близко мне жуткое чувство бессмыслицы от всего, что видишь и слышишь». В другом письме матери, уже возвратившись из Франции: «Душевная грязь изобличается прежде всего тем, что во Франции не существует мужчин и женщин. Французская женщина – существо, не внушающее никаких чувств, кроме брезгливости – и то в том случае, если она очень красива и изящно одета». А из Шахматова, из этой своей Валгаллы, как он сам говорил, пишет жене Любови Дмитриевне: «Мне здесь жить очень хорошо, тихо, я понемногу собираюсь с мыслями, растерянными в паршивой Франции».
Этой старой и новой напасти великий поэт противопоставляет Россию. Вопреки всему, когда революционное разрушение страны уже началось, в 1915 году он выпускает книжку «Стихи о России»: «А ты всё та ж, моя страна/ В красе заплаканной и древней… Доколе коршуну кружить, доколе матери тужить». И в 1918 году, в стихотворении «Скифы» он уже вполне определённо указывает на исток революционного крушения России: «Мы помним всё – парижских улиц ад». И стоит только поражаться этической и нравственной высоте поэта, который всё это понимая, писал: «Но я люблю сей мир ужасный»…
Кажется странным, что Франция, Париж, как источник и символ разрушительной революционной смуты оставались неким «идеалом», а точнее – «авторитетом» для российской правящей знати и тогда, когда она говорила на французском языке, не понимая народа и презирая его, и тогда, когда оттуда был занесён образец революции, и тогда, когда в результате революционного крушения страны оказалась «в европейском ласковом плену» (Н. Туроверов), когда Париж стал пристанищем несчастных изгнанников из России. Кажется, что они после революционного крушения страны начала ХХ века, в конце концов не могли не оказаться там, в Париже, ведь они так долго, веками туда стремились…
По застарелой труднопреодолимой привычке догматическое литературоведение зачастую оценивает всякого поэта, поверяет его лишь тем, как он «отражает действительность». А не по тому какой образ мира, какое «мысленное древо» («Слово о полку Игореве») он выстраивает. А это далеко не универсальный путь постижения духовного смысла нашего бытия. В этом отношении поучительно сравнить представление о Париже и Франции А. Блока и Н. Гумилёва. Поэты жили в одно и то же время, даже погибли в одном и том же году, в 1921-м, в одну эпоху, но какими разными, даже противоположными были их представления о происходящем. Н. Гумилёв в стихотворении «Франции» представляет этот источник всех переворотов как «призрак сна», как «образ, вечно милый»: «О, Франция, ты призрак сна, / Ты только образ, вечно милый…/ И если близок час войны/ И ты осуждена к паденью, / То вечно будут наши сны/ С твоей блуждающею тенью». За этот призрак вечно милый не жаль было и жизнь положить: «Лишь через наш холодный труп/ Пройдут враги, чтоб быть в Париже». Как понятно, защищая «передовые» европейские ценности, а не ограждая Родину свою от их тлетворного влияния. Это не более как мировоззренческое обоснование и оправдание Первой мировой войны.
Не в этой низкопоклонной, западнической традиции предстали образы Франции и Парижа в нашу эпоху, в наше время в стихах выдающегося поэта Юрия Кузнецова. Когда мы с ужасом смотрели на пылающий собор Парижской Богоматери, как можно было не вспомнить стихотворение Ю. Кузнецова, написанное за сорок лет до этого, в 1980 году: «Для того, кто по-прежнему молод,/ Я во сне напоил лошадей./ Мы поскачем во Францию-город/ На руины великих идей./ Мы дорогу найдём по светилам,/ Хоть светила сияют не нам./ Пропылим по забытым могилам./ Прогремим по священным камням./… /Только русская память легка мне/ И полна, как водой решето./ Но чужие, священные камни,/ Кроме нас не оплачет никто».
Но на такую нравственную высоту могли подняться совсем немногие и голос их был почти не слышен в электронном информационном терроре, когда – «все равны». В обезбоженном обществе трудно было распознать то, что начался новый акт всё того же «всемирного единства», построения «всемирной человеческой социальной республики и гармонии» (Ф. Достоевский, «Бесы»). Строительства, никогда не прекращавшегося: «Это возникший ещё во времена древнеримской империи мистический ужас перед грядущим объединением мира, это неутолимая тревога за человечество, ибо в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству «князя мира сего» к последним катаклизмам истории и к её катастрофическому перерыву» (Д. Андреев, «Роза мира»). Естественный, единый мир в его многообразии сохранять труднее, чем строить единый как казарма или тюрьма для удобства управления им.
Но «уроки французского» к сожалению, несмотря ни на что, ни на какие разрушения и падения не идут впрок. Одним из самых удачных рассказов В. Распутина был «Уроки французского». В этом чудном рассказе об отзывчивости человеческих душ нет ничего «французского». И всё же из этого выходит, что и русское можно постичь только через французское. Об учительнице, преподнёсшей подростку урок человечности, сказано так, словно человеческое может быть только «французским»: «Она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому…».
Поразителен по своей глубине «Урок французского» Ю. Кузнецова: «Кровь голубая на помост хлестала…/ Ликуй толпа! Сжимай своё кольцо!/ Но, говорят, Антуанетта встала/ И голову швырнула им в лицо./ /Я был плохим учеником, признаться;/ В истории так много тёмных мест./ Но из свободы, равенства и братства/ Я вынес только королевский жест».
И в другом стихотворении, и опять-таки – о «призраках», блуждавших и всё ещё блуждающих по Европе: «Все три Рима – вот моё богатство! / Вот моё святое божество! / А свобода, равенство и братство –/ Призраки и больше ничего». Заметим, – три Рима, а не третий Рим.
В том же русле «урок французского» и в стихах Н. Зиновьева. С авторским эпиграфом: «Поэт – холоп народа своего»: «Я жить так больше не хочу/ О, дайте мне топор холопу. / И гвозди, я заколочу/ Окно постылое в Европу. / И ни к чему тут разговоры, / Ведь в окна лазят только воры».
О чём это – в стихах Ю. Кузнецова: «Гори огонь! Дымись, библиотека! / Развейся, пепел, по сырой земле. / Я в будущем увидел человека/ С печатью вырожденья на челе. / /В написанном чернилами и кровью/ Немало есть для сердца и ума,/ Но не сулит духовного здоровья/ Кровосмешенье слова и письма»?
Это всё о том же, что в начале было слово. О том, что какой образ мира примем в своё сознание и душу, таким этот мир и будет. Позитивистское сознание уверено в том, что в начале было не слово, что будет хлеб, будет и песня, в качестве развлечения и добавления к плотской жизни. Но человек устроен в этом мире иначе. И слово его в этом мире имеет совсем иное значение. Как, к примеру, в стихах замечательного поэта, военного журналиста из Североморска, моряка Евгения Гулидова: «А нам из опыта известен/ Тот непростой круговорот, / Где вытекает жизнь из песен, / И лишь потом – наоборот».
В том смысле, что если посчитаем свой родной город «нашим маленьким Парижем», со временем он таким и станет, вместо родного города, весь в иностранных вывесках и надписях, в котором человек чувствует себя иностранцем: «Язык сограждан стал мне как чужой, / В своей стране я словно иностранец» (С. Есенин). В этом плане роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж» является классическим примером западничества и лакейства мысли.
Видеть Париж – этот источник всякой революционности, неким идеалом и в то же время у себя в стране бороться против революционной «красной идеи» (В. Лихоносов), то есть против революционности, а по существу, против той жизни, в которой живёшь, – это и вовсе какая-то интеллектуальная несваримость…
«ХОТЕЛ НАПОЛЕОНОМ СДЕЛАТЬСЯ…»
Мы порой даже не подозреваем, как великая русская литература связана с нашей жизнью, в том числе и с нынешней. Как глубоко объясняет её, вне зависимости от того знаем мы об этом или нет… В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге произошло ужасное преступление. Причём, географически, по сути, на том же самом месте, что и описанное Ф. Достоевским в «Преступлении и наказании». Шестидесятитрёхлетний преподаватель, историк, или точнее – реконструктор истории, доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов зверски убил аспирантку, свою возлюбленную Анастасию. Расчленив её, пытался избавиться от останков её. На следствии, рыдая, он отвечал: «Я не помню, как это всё произошло… непостижимо». Люди, поражённые этим преступлением, не могли понять причину такого зверства, так как она таилась не в правовом поле, а в области психологии духа.
Но О. Соколов был не только историком, но страстным бонапартистом, увлечённым реконструкцией военной истории. То есть, надо полагать, историческое в его неизменности пытаясь вернуть в нынешнюю жизнь, видимо, не находя в ней никакого исторического значения. В нынешней жизни он кажется, не присутствовал вообще, всецело пребывая во французской жизни и истории. Он блистал в мундире Наполеона, то и дело переходя на французский. Требовал от окружающих называть его по французскому воинскому званию. В отличие от Раскольникова Ф. Достоевского, хотевшего стать Наполеоном, Олег Соколов уже был Наполеоном. Во всяком случае, по всем внешним признакам. В его мундире, уже в его облике и образе. Но Наполеоном-то – не настоящим, а ряженым, чего он не мог не осознавать. Требовалось какое-то веское подтверждение того, что он Наполеон настоящий. Убийство и явилось для него не вполне осознаваемым подтверждением того, что он Наполеон настоящий… Это, конечно, не изменяло сути преступления, но объясняло его психологическую причину. Такой уход из реальной жизни и переход его в жизнь иную, уже не существующую, непременно заканчивается трагедией личности.
Поразительной была оценка этого преступления общественностью. Во всяком случае на телевизионных ток-шоу. Сущностные, духовные, психологические и даже нравственные аспекты его оказались подменёнными чисто правовыми. А то, что доцент, отказавшись от своего «я» принял на себя образ Наполеона, было воспринято не более как причуда. Между тем, это и был основной облик убийцы, так как педагогом он был никчёмным и случайным. Это и была причина преступления. Даже имея опыт Ф. Достоевского, общество, по сути, отказалось видеть прямую связь между образом Наполеона и убийцы.
Вот истинная причина этого, на первый взгляд странного преступления: если Раскольников в романе Ф. Достоевского хотел стать Наполеоном, а потому и убил, («Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил»), то Соколов уже был Наполеоном, и требовалось, казалось, немногое для подтверждения того, что он Наполеон – настоящий. Тут убийство было уже неизбежно…
Возникает мучительный вопрос: но как, почему аспирантка, юная, талантливая женщина Анастасия так легко вошла в его иллюзорный, виртуальный мир и приняла его идеал, точнее – «авторитет» Наполеона? Потому что семена, брошенные О. Соколовым, пали на хорошо приготовленную почву. Ведь Анастасия – родом с Кубани, где краевой центр Краснодар уже давно, десятилетиями называется «нашим маленьким Парижем» – по прихоти и легкомыслию В. Лихоносова, автора романа «Наш маленький Париж». Пятивековая история казачества и более чем двухвековая история края оказалась, по сути, подменённой перипетиями парижской эмиграции после революционного краха России начала ХХ века…
Мне приходилось уже на страницах «Литературной газеты» писать о том, как эта идеологема «наш маленький Париж» сыграла с нами коварную шутку, когда у нас остался только «маленький Париж» – сегодняшний Краснодар весь в иностранных вывесках и надписях. Прежним Екатеринодаром он стать не мог, так как история не знает повторений. И перестал быть тем прекрасным Краснодаром, каким его знало поколение моих родителей и моё поколение. А настоящий Париж – во Франции стоит на месте, никуда не делся. Пусть и с жёлтыми жилетами, но на месте. («Чужой «маленький Париж» или Торжество идеологии западничества», «Литературная газета» № 3, 2017). Но я и предположить не мог, что от идеологемы до вызываемого ею преступления такой короткий путь.
Двадцатичетырёхлетняя Анастасия Ещенко, молодой историк с большим будущим, как говорят те, кто её знал, похоронена в своей родной станице Старовеличковской. Это в десяти километрах от моей родной станицы Старонижестеблиевской. Дух «Нашего маленького Парижа» витает над её могилой. И пока что этот ядовитый «гуманистический туман» не рассеивается над родными просторами, выискивая своих новых жертв…
Теперь можно сколько угодно обнажать истинный облик преступника. Но он оказался только орудием, проводником в жизнь тех идей, в которые уверовал. Это ведь библейское положение неизбежно заканчивающееся трагедией, когда своими становятся «чужие боги в земле своей»…
Генерал А. Деникин на подступах к Екатеринодару в своё время в предстоящем сражении видел высокий духовный смысл. Божий суд, который надо принять таким, каким он будет: «У нашей армии был свой маленький Иерусалим. Пока ещё не тот заветный, далёкий с золотыми маковками сорока сороков Божьих церквей… Более близкий – Екатеринодар» («Очерки русской смуты», М., «Наука», 1991). И всё произошло по Божьему Суду. Бедное же позитивистское, материалистическое сознание вытравило из этого представления высокий духовный смысл, оставив лакейское подражательство: «Наш маленький Париж». Там «маленький Иерусалим» превратился в «маленький Париж».
Но ни такой огромный опыт русской литературы, ни такой трагический опыт нашей истории, похоже, не идут впрок. Точнее – ничтожно мало идут впрок. Какой мучительно-трагической оказалась, к примеру, судьба М. Цветаевой. И что печально, во многой мере остаются не уяснёнными исток и причина её поэтической и человеческой трагедии. В этой своей преданности поэзии, одержимости поэзией, с верой в свою исключительность и даже величие, для большого поэта понятной, естественной и извинительной, она приходит к патологическому увлечению Наполеоном. По свидетельству её сестры Анастасии Ивановны для неё дороже православной иконы был портрет Наполеона на фоне пылающей Москвы, который она в юности устанавливала в киот. Но когда вместо своего Бога принимаются «чужие боги в родной земле», это приводит к отрицанию мира – «отказываюсь быть» – и самоуничтожению…
Вполне понятно разочарование Парижем Владимира Личутина в его повести «Путешествие в Париж»: «И вдруг я пожалел, что съездил в Париж. Ведь рассыпался на осколки хрустальный замок, сотканный из моих былых мечтаний о неземной красоте неведомого мира… Батюшки мои, да стоило ли мчаться из России за тыщи вёрст, чтобы увидеть наштукатуренную красоту, от которой на весь белый свет сквозь морщины вопит унылая старость и самодовольная спесь молодящейся уличной кокотки, пропахшей нафталином» («Бельские просторы», № 10, 11, 2006). Но не только неприглядный внешний вид вызывает разочарование у автора и его героя, а осознание смысла происходящего за этой ветшающей красотой: «Хватит экспортировать смуты»…
В рассказе Наталии Ячеистовой «Прошлым летом в Париже» внешне всё, вроде бы так же, как и прежде, но переменился сам дух этого города, и куда-то пропали его блеск, волшебство и великолепие: «В тот день что-то сломалось во мне – будто порвался некий волшебный трос, долгие годы соединявший меня с Парижем. Я вдруг понял, что этот былой красавец подвержен смертельной болезни, отвратительные проявления которой вскоре покроют струпьями все его тело» («Литературная газета» № 3, 2021).
Почему так произошло никто не скажет. А то, что это стало итогом господства определённых идей, которые заменили людям веру и стали чем-то выше религии, это ведь так не очевидно: «Окончательный результат господства демократических интересов заключается в том, что Франция оказалась лишённой всякого благородства» (П. Чаадаев). Да и слишком уж много отыскивается, несмотря ни на что, защитников таких «непреходящих ценностей».
Роман Сенчин, допускающий нередко крайнюю степень нигилизма, просто не мог не написать нечто «французское». Ведь отрицание своего, да и всего, неизбежно приводит к принятию чужого, инородного. К тому же, «нигилизм есть некоторое западничество. Он возник под влиянием Запада, следовательно под тем влиянием, которое так давно и так сильно на нас действовало и действует» (Н. Страхов). И он пишет абсолютно предсказуемый «Дождь в Париже» (издательство АСТ, 2018). Герой романа «Дождь в Париже» зачем-то и почему-то летит в Париж. Никакой причины и мотивации для этого у него нет: сорвался – взял и полетел, «возникла идея съездить в Париж». Нет даже такого простецкого намерения, чтобы потом бахвалиться перед простаками, кому там никогда не побывать: «Я был в Париже!» Правда, его отец, офицер воспитывал его на Париже. В четыре года он уже лепетал о Париже. Но экскурсии его там не интересовали. Все дни, что называется, он пробухал и вернулся домой. Там он видел дождь, бесцельно шатался, не зная зачем и куда идти. И вернулся домой. Ещё он там вспоминал кое-что из своей прошлой жизни. Но эти воспоминания были столь необязательны, что кажется автор излагал их потому, что не знал о чём писать, а писать, вроде бы, надо. И это издано в серии «Новая русская классика». Положим, это вопрос к издателям, а не к автору.
Парижа в романе, собственно, нет. Есть дождь, но без Парижа. Нет его в восприятии героя, нет совсем. Зачем тогда это писано и при чём тут Париж? Не может же это не иметь никакого смысла, может быть, не осознаваемого и самим автором. И такой смысл есть. Ведь тем самым, хотел того автор или нет, он сообщил читателям, что никакого «Парижа», как некоего радужного символа, больше нет. Нет его больше и как разрушительного революционного символа. Ничего «французского» в нашем общественном сознании и в жизни не осталось. Этот вопрос наконец-то «решён». И добавим: «решён» впервые в истории, так как приводимые нами примеры из русской литературы однозначно свидетельствуют о том, что вопрос о «западничестве» в нашем обществе всегда был и остаётся самым обширным, самым трудным, жгучим и даже мучительным. Не мог же автор этого не знать. И если он объявляет, что этот вопрос наконец-то «решён», но не говорит как именно, а на том месте, где должно быть это «решение» находится абсолютная пустота, читатель подумает, что его надули, обманули. Более того, наверняка подумает, что его обманули преднамеренно, так как та нудная, унылая и бесцельная жизнь, которую изображает автор, стала таковой в результате революционной катастрофы начала девяностых годов. И произошло это на примитивных идеях именно «западнического» толка: «Западный мир – не враг наш и не филантроп. Свои проблемы мы должны решать сами, и, если с ними не справимся, мир спокойно отнесётся к крушению высокой российской цивилизации… Россия сегодня имеет уникальный шанс сменить свою социальную, экономическую, в конечном счёте историческую ориентацию, стать республикой «западного» типа» (Е. Гайдар, «Государство и эволюция», М., «Евразия», 1995). Но это же абсолютная смердяковщина: во имя худосочной идейки приносить в жертву свою Родину… А, может быть, такие нудные и неинтересные писания и изготовляются для того, чтобы, если не скрыть, то хотя бы неловко прикрыть эту откровенную смердяковщину. Вне зависимости от того, изготовляет ли автор их сознательно или бессознательно, так сказать по творческому порыву и вдохновению…
В «Зоне затопления» есть характерный эпизод. Герой повести, а похоже и сам её автор, сетует на то, что старый писатель в своё время написал повесть о затоплении деревни в связи со строительством электростанции. Ему за эту повесть вручают государственные премии, а электростанции всё так же продолжают строить: «И чем объяснишь, что с одной стороны этому писателю именно за эту книгу продолжают давать государственные премии, называть его нашей совестью, а с другой – строить новую, но точно такую же электростанцию». И следовательно – продолжают затоплять деревни. Герой повести и, к сожалению, сам её автор уверены в том, что писатель пишет для того, чтобы переустраивать жизнь, а значит по каждой его книге, в которой он «разрешает» насущные вопросы жизни, непременно должны быть приняты «начальством» действенные меры. Это позитивистское представление так вошло в жизнь, что теперь и на публикацию газеты никто не обращает внимания, не принимает никаких мер. Незадачливый герой повести полагал, что писатель выступал за то, чтобы не строить электростанций, а он выступал за то, чтобы не затоплять деревень…
Пока литературная классика тихой сапой выдавливается из общественного сознания, пока на экране и сцене она «переосмысливается», то есть, искажается до неузнаваемости, являясь уже только материалом для создания якобы более совершенного мира, то есть, подгоняется под нынешнее сознание, она самостийно возвращается в нашу жизнь. И не только в желании преступников «Наполеонами» быть, как в приведённом примере. Пока учёные и врачи изучают ускользающую природу новой напасти на род человеческий – коронавируса, – досмотрелись и вспомнили, что она давно описана Ф. Достоевским в «Преступлении и наказании». В эпилоге романа она названа «новыми трихинами»: «Будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невидимой моровой язве… Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей». Не из научных трудов, а из романа великого писателя все узнали, что это проблема не только медицинская… А в кубанской станице Передовой вдруг появился «ревизор». Нет, на этот раз не Хлестаков, а некто Козлов. В информации по центральному телевидению он сказал нечто в том роде, что начальство ничего не делает, вот он и решил оказать помощь людям… Сказал, когда его взяли соответствующие товарищи, убедившись в том, что он ревизор настоящий, не по статусу, а по серьёзности своих намерений. И что удивительно все поверили в то, что он не самозванец, а настоящий ревизор, что он – «оттуда». А поверили ведь не по наивности и не по простоте душевной, но потому, что уже давно ждут настоящего ревизора – неподкупного, честного и справедливого.
«А НЫНЧЕ ВСЕ УМЫ В ТУМАНЕ. МОРАЛЬ НА НАС НАВОДИТ СОН»
Среди молодых литераторов преобладает такое состояние умов, такие расхожие, шаблонные представления о литературе, да и о жизни, которые уж никак не назовешь точным. Его демонстрирует, к примеру, в крохотной новеллке, названной рассказом «Последняя страница», Андрей Тимофеев («Наш современник», № 8, 2020). По сути, это избитая, уже доказавшая свою несостоятельность концепция «конца истории». Всё останавливается. Не в жизни, конечно. А в представлении автора и его персонажа, патриотического писателя, который «был рождён, чтобы смотреть на красивых людей, а вынужден был проклинать чудовищ». Отсюда естественный вывод: «Всё прошло, движение замерло. Наступала тихая тёплая ночь». Словом, как пелось в песне, словно «замерло всё до рассвета»…
Я не знаю, как должно быть. Это решает сам автор. Если бы мы знали заранее какой литература должна быть, она была бы и вовсе ни к чему. Достаточно было бы свода законов, которые люди учили бы наизусть, как стихи, без всяких «художественных соплей». Это, кстати, и советовал В. Белинский в своём знаменитом письме к Н. Гоголю. Но жизнь, как понятно, таким путём не идёт. Люди не хотят, да и не могут так жить, как бы их не сталкивали на такой позитивистский путь. Я только точно знаю то, что для истинного писателя альтернативы – «громить пороки смело» или создавать шедевры не существует. Обычно громят пороки смело и обличают те, кто литературного таланта не имеет. За редким исключением. Никаких «благоприятных» времён для творчества не бывает. Как правило, происходит наоборот. Тут же личный опыт как бы не включается…
Забавно слышать сетования молодых писателей, «сорокалетних» и более чем сорокалетних на отсутствие ныне у нас критики. Словно она возможна при отсутствии литературного процесса. Причём, отсутствие критики, подчас рассматривается, как тормоз развития литературы. Но, читая их писания, над большинством из них только и остаётся сказать: «не то», мимо литературы и мимо жизни… Если писатель считает своей задачей угадать преобладающее в обществе мнение по тому или иному аспекту истории и жизни, нередко неточное, а то и ложное и на этом посчитать своё дело законченным, если не считает своей обязанностью дойти «во всём до самой сути», какая уж тут, может быть критика. Как, к примеру, в «Тайном годе Ивана Грозного» М. Гиголашвили, автора, по его собственному признанию, давно не живущего в России. Никакие экивоки на то, что это, мол, не история, а «психологическая реконструкция в исторических декорациях» не могут скрыть ничтожности познаний и нищеты мысли. Не нечто открыть неведомое, не убоясь, пойти против мнения преобладающего, а лишь повторить многозначительно вослед за многими, что «Грозный был болен» и «гнил изнутри», что можно отнести и к самому автору, какая уж тут может быть критика…
Не «Июнь» же Д. Быкова обсуждать в качестве литературы, эту насквозь идеологизированную поделку, к литературе отношения не имеющую. Тут достаточно и определения этой специфической мировоззренческой субстанции, как это, к примеру, сделал Геннадий Муриков («Комплекс вины», «Литературная Россия», № 48, 2018).
Когда авторы вполне серьёзно высшим критерием оценки своих писаний считают литературные премии, зная их природу, корпоративную и мировоззренческую сущность их, это уже вне всякой литературы. И не «рынок» тут главным образом виноват. Истинный писатель, художник, всегда, во все времена – и на «рынке» и вне его: «Я тоже – здесь, с своей судьбой/ Над лирой, острой, как секира,/ Такой приниженный и злой,/ Торгуюсь на базарах мира» (А. Блок).
Это уже какая-то, прямо-таки, литературная эпидемия, соизмеримая с эпидемией коронавируса, длящаяся десятилетия. Вся литературная жизнь, там, где она ещё возможна – при творческих союзах и литературных изданиях – всецело свелась к литературным премиям и всевозможным наградам. Это уже даже не смешно, но печально. Видимо, такой формальный аспект утвердился потому, дабы не касаться каких-то сущностных аспектов и литературы, и жизни. Ну есть же у нас богатый опыт проведения совещаний писателей – и Всесоюзных, как их называли, и региональных, когда высшей наградой для молодого автора, так или иначе изменяющей его судьбу, было само участие в совещании.
Эта премиальная эпидемия уже дискредитировала и литературную жизнь, и литературу. Уже наступает время, когда о писателе нужно будет судить по отсутствию у него премий, а не по их длинному списку, рассчитанному на обывателей…
Такое списочное преклонение «сорокалетних» писателей пред их предшественниками, дедами, без прочтения их текстов, остаётся чисто формальным и только этическим, не затрагивающим духовной основы ни жизни, ни литературы. Но литература без текстов, а только с «репутациями» авторов и то смутно теперь определяемыми и еле угадываемыми – это уже не из области литературы, а из каких-то иных сфер сознания.
Ведь молодые не могут, в конце концов, не задаться беспощадным вопросом о том, а почему роман В. Астафьева о войне «Прокляты и убиты» столь художественно беспомощен? И почему, собственно, погибшие на войне, «прокляты»? И что это был за бунт писателя начиная с 1991 года, когда он нёс такую махровую и примитивную демагогию, какая и политикам непростительна, а не то что «великим писателям». О «цене» нашей Победы в Великой Отечественной войне. Ссылаясь на то, что это мол «солдатская», «окопная» правда. Но из того идеологического «окопа», в каком оказался писатель В. Астафьев, менее всего можно было рассмотреть и постичь смысл и значение происходившего и происходящего… М. Лобанов в письме от 23 июля 1981 года однозначно отмечал смысл перемены, происшедшей с писателем: «Виктор Петрович совсем одурел от ласки власть предержащих в литературе». Евгений Иванович Носов писал в письме редактору библиотечки журнала «Пограничник», редактору моей первой книжки «Слава Игоревой рати» (Читая «Слово о полку Игореве»): «Мои отношения с Астафьевым тоже поостыли: он стал много врать и в своих публикациях, и в устных выступлениях. Я попытался урезонить его, но он надулся, замолчал. Сейчас он, пользуясь моментом, кляня прежнюю власть, которая и сделала его писателем, и дала возможность повидать белый свет (бывал иногда в пяти странах за одну поездку), сейчас он перебежал в иной лагерь, где сладко кормят и гладят по шерсти за его услуги, получил возможность издать аж 16 томов своих сочинений, в том числе ужасного, нечистоплотного романа «Прокляты и убиты»… Да, всех нас разбросала эта самая перестройка, прекратились связи, прежнее единство, а впереди грустное одиночество, безвременье и бесперспективность…» («Литературная Россия», № 25, 2002).
Следовать этому, значит и себе желать такой же участи. А это ведь, по сути, участь бедного Евгения из «Медного всадника» А. Пушкина: «Увы! Его смятенный ум/ Против ужасных потрясений/ Не устоял…».
М. Лобанов в том же письме В. Белову отмечал, что Распутин после «Последнего срока» «написал вдруг какую-то блуждающую, фальшивую повесть «Живи и помни». Правда, после этого появилась «Матёра», но неизвестно ещё, куда пойдёт Распутин». Теперь известно куда он пошёл. Его политические предпочтения меня не интересуют. Печально то, что он пошёл по пути отречения от литературы, от «художественных соплей». Оправданием этой измены тем, что время «такое», быть не может. Время всегда «такое». Вон ещё в «Евгении Онегине» А. Пушкина есть сетования на то, что время «такое»: «А нынче все умы в тумане, / Мораль на нас наводит сон/… /Порок любезен и в романе/ И там уж торжествует он».
Молодые писатели не могут, в конце концов, не задаться вопросом о том, почему В. Лихоносов, проповедующий явный коллаборационизм, слывёт «патриотом»? Он активно отстаивает увековечивание памяти В. Науменко, сотрудничавшего с нацистами во время Великой Отечественной войны и причастного к формированию 15-го казачьего кавалерийского корпуса СС. Более чем за полувековой период жизни на Кубани писатель В. Лихоносов так и не удосужился изучить феномен казачества. Пять поколений казачьей жизни на берегах Кубани наших дедов, для него – ничто. Он берёт казачество лишь в период революционного анархизма, когда все пребывали в «повальном сумасшествии» (И. Бунин). И это аномальное состояние людей, их беснование, вызванное катастрофой крушения государства, выдано за некую незыблемую историю казачества. А потому, согласно таким либеральным воззрениям, казаки могут быть только в Париже или ещё где-нибудь. И что эмигранты непременно «лучше нас», по определению, потому что эмигранты. В России же остаётся только одна «красная идея», которая рано или поздно должна быть уничтожена. И автор старательно её уничтожал, то есть, ту жизнь, в которой жил. Иными словами, писатель отказался осмысливать своё, Богом данное ему время. В самом деле, разве не об этом свидетельствует тот факт, что писатель В. Лихоносов поучал, обличал и стыдил атамана В. Громова за недостаточное почитание им А.Г. Шкуро, видя в последнем образец и эталон нынешнего патриотизма, хотя судебное решение в отношении его не пересмотрено: «Атаман, до сих пор не посмевший укрепить на стене Рады (а уж у себя в кабинете упаси Бог) портрет генерала Шкуро, не может заслужить уважения казаков» («Записи перед сном», «Наш современник», № 10, 2006). Того самого А.Г. Шкуро, по словам В. Лихоносова, – «последнее рыцарство» – который пришёл в нацистской немецкой форме во время Великой Отечественной войны «освобождать» нас от коммунизма. При этом «забывает», что его отец погиб на войне, отнюдь не на стороне Шкуро, а защищая Родину. В таком случае, разве это не смердяковщина, то есть, не отцеубийство?.. А как это называется? К тому же это ещё и пересмотр итогов Великой Отечественной войны, чем активно занимаются наши зарубежные «партнёры» и что новыми трагедиями в нашем обществе и стране не обернуться не может. Это хоть как-то можно отнести к «патриотизму»? Нет, конечно, это называется совсем не так, если «патриотическую» репутацию автора мы всецело выводим из каких-то внелитературных мировоззренческих влияний.
Такое «осмысление» нашей трагической судьбы оборачивается подчас прямо-таки зловещими казусами. Нельзя не поразиться какой-то нравственной глухоте писателя. В этом отношении характерна публикация О. Михайлова «Не услышать родных голосов» и В. Лихоносова «Памяти белого офицера» («Родная Кубань», № 1, 2008). Публикации посвящены переписке писателей с Александром Алексеевичем Сионским, последовательно боровшимся с советской системой, точнее, с Россией, состоявшим на службе фашистской Германии, готовя разведчиков для Рейха. После войны он продолжил антироссийскую службу. И специализировался теперь уже на поиске и вербовке «интеллигентов, выступающих против советской власти» в России, таких вот незадачливых писателей, то есть формировании пресловутой «пятой колонны» у нас в стране. Не могу поверить в то, что наши писатели не осознавали того, что их «ведёт» разведчик, противник их страны и Родины… Что они – не более, как его агентура… Журнал «Родная Кубань», долгое время редактировавшийся В. Лихоносовым, журнал издаваемый и финансируемый краевой администрацией прямо-таки специализировался на коллаборационизме. Какие могут быть казаки в России? Это же «советские казаки». Их не жалко. Иное дело, скажем, Фёдор Кубанский (Горб), воевавший против своего народа на стороне фашистской Германии: «На привольных степях кубанских» («Родная Кубань», № 2, 2009). «Орлы земли родной» («Родная Кубань», № 1, 2012). Я также не могу поверить и в то, что наши писатели, как говорится, инженеры человеческих душ, люди, чуткие к слову, не заметили того, что душераздирающий голос Н. Плевицкой «Не услышать родных голосов», выражавший судьбу многих русских людей, оказавшихся в эмиграции, направлен оттуда, из зарубежья, в Россию. А наши писатели взывают к «родным голосам» туда – из России, в которой, по их представлениям ничего, кроме «красной идеи» и «невежества», нет. «Родные голоса» для них – только и исключительно там. Из всего этого следует единственный вывод: из непомерно трагической судьбы наших дедов сделана идеология для разрушения нашей жизни и вычёркивания из истории страны и народа, пожалуй, самого трудного, трагического ХХ века…
Не столь уж сложное для постижения и очевидное положение, к сожалению, не стало достоянием общественного сознания. Состояло оно в том, что в результате крушения страны в начале ХХ века Родину тогда потеряли все без исключения – и те, кто её покинул, и те, кто остался в разорённой революцией и Гражданской войной стране. Но в общественном сознании всё ещё преобладает представление, как понятно, сохраняющееся не само по себе, что Родину потеряли лишь те, кто оказался в эмиграции. И лишь потому, что это было нагляднее и зримее, чем потеря Родины людьми, оставшимися в её пределах.
Монархическое желание возврата к прежнему укладу было невозможно, и ни о чём ином не свидетельствовало, кроме как об интеллектуальной несостоятельности. Но возвращать Родину, уже в иной форме пришлось тем, кто в ней остался ценой неимоверных страданий и жертв. Забавляться в таком положении и далее «могильной закваской» люди мыслящие, тем более писатели, не имели права: «В прах гражданская распря сошла, но закваска могильная бродит» (Ю. Кузнецов).
Можно понять нынешних молодых писателей, «сорокалетних», пытающихся как-то определить себя в общественном сознании, хоть по какому-то признаку позиционировать себя – по поколенческому ли, по принадлежности ли к «направлению». Ведь надо работать сейчас и ныне, вне зависимости от внешних обстоятельств. Но при этом необходимо помнить, что «история словесности показывает, что вопрос решается не там, не теми и не так, где, кем и как мы думаем» (А. Неверов). То есть литература всегда обладает относительной самостоятельностью, «стихийностью» и непредсказуемостью. Тревожит не то, что в этом поколении молодых писателей нет духовного и мировоззренческого единства. Его в обществе, видимо, и не должно быть. Но то, что они разделились по признакам житейским, практическим. Одна часть писателей, довольно активная, полагает, что ничего особенного в литературе за последние десятилетия не произошло. И им предстоит лишь продолжить то, что было до них. Иными словами, вопрос о состоянии литературы, о текстах не стоит. И всё дело в том, как эти прекрасные во всех отношениях тексты донести до читателей. То есть, проблема чисто информационная, пропагандистская, популяризаторская. Не задумываясь о том, что такие тексты и распространять не стоит…
Другая часть писателей, не менее активных, более трезво оценивает нынешнее положение литературы и её состояние. Она не может не видеть того, что мы переживаем беспрецедентное, ранее не встречаемое положение вытеснения литературы из общественного сознания и из образования. Что литературный процесс разрушен информационными средствами: новым дарованиям состояться, по сути, невозможно и «входить» некуда. Литература по законам «рынка» существовать не может, ибо это есть форма её уничтожения. И такое положение в обществе должно быть исправлено: Кирилл Алейников «Будущее литературы туманно» («Литературная Россия, № 36, 2019), Елена Сазанович «Мы стали поколением потерянной литературы» («Литературная Россия», № 8, 2020). «Главный враг современной русской литературы», («Литературная Россия» № 48, 2019): «Наша русская литература, которая ценилась во всем мире на нашем поколении как-то остановилась» (Валерий Румянцев) и т.д.
Ведь даже то, что с такими трудами издаётся, при нынешнем положении вещей достоянием общества стать не может, при всех интернетах, а только «крошечной группы читателей» (Роман Сенчин, «Вечерняя Москва», № 29, 2019). А значит, писатели вольно или невольно становятся имитаторами литературного процесса, литературы, обществу неведомой. Но такая видимость существования современной литературы формирует мнение, что беспокоиться, собственно, не о чём, и никаких радикальных мер по возвращению литературы в общество «можно» и не предпринимать. А «меры» эти чисто политические, административные, организационные, для принятия которых необходимы желание и воля. И, конечно, осознание всего трагизма состояния нашего общества, в котором целые поколения дичают, вырастая вне литературы, вне своей естественной родной духовной культуры.
Мы обязаны признать тот очевидный факт, что читатели стали «нечитающими» не только по внешним, нелитературным причинам, но и потому, что слишком уж часто встречали выдаваемое за литературу то, что ею не является, слишком уж часто встречали обман – художественную, историческую, духовную неправду. Читатели во многой мере перестали читать потому, что многие писатели перестали быть писателями, желая быть, из личных соображений, кем угодно – общественными деятелями, политиками, но только не писателями…
Абсолютная же оторванность от литературной традиции приводит к такому «осмыслению» нашей эпохи и нашего времени, какое являет, к примеру, «Литературная Россия», давно переставшая быть литературной, за исключением отдельных материалов, попадающих на её страницы случайно. Скажем, в беседе лауреата премии «Ясная Поляна» Олега Ермакова с «афганцем» Николаем Прокудиным. Невольно задаёшься вопросом: с какого чердака эти «писатели» свалились? Другими словами, это выразить невозможно. Отсутствие не то что «писательской», но и хоть какой-то человеческой мудрости. Полный набор идеологических догматов, с помощью которых тридцать лет назад разрушалась страна… Вполне серьёзно предлагается подождать ещё лет двадцать, когда «хомо советикус» перестанет быть доминирующим видом!», к которому они, конечно же, не принадлежат. Хотя уже давно появилась «новая порода». Страна «зомбирована», «страх пропитал людей с 1917 года», «рабская покорность и равнодушие». О страхе ли начала прошлого века говорить, когда людей той эпохи уже, почитай, не осталось. А страх революционного анархизма девяностых помнится крепко. Афганскую войну, событие, столь значимое в нашей истории, всё ещё, вослед за Горбачёвым, определяют как «ошибку», «жертвы были абсолютно напрасными», «бессмысленность и преступность той войны». И всё это ради того, чтобы провозгласить, что, наконец-то, приходит «избавление», чтобы оправдать «берлинского пациента», арест которого, якобы «за гранью добра и разума» и «реальную оппозицию», которую «приравняли к иностранным агентам-шпионам» (№ 5, 2021). Якобы безосновательно. После всего происшедшего в стране и со страной за последние тридцать лет, жонглировать такими фетишами и вовсе какая-то безответственность. А ведь авторы, уже далеко не юнцы…
Невозможно поверить в то, что это размышления «писателей» о нашем столь сложном и мировоззренчески запутанном времени. Никаким титлом «писателя» и «лауреата» не прикрыть эту абсолютную интеллектуальную несостоятельность и атрофию совести. Нельзя же допустить мысли, что «писатели» не понимают, что делают и какие «ценности» тем самым отстаивают…
Меня всегда удивляло то, что среди писателей, по сути, нет литературных обсуждений. И ранее, а теперь уже и вовсе не удивляет. Почитаешь их декларации и диалоги, где они ещё возможны, и откроется целая «кухня» – какой «интересной» жизнью люди живут! Узнаешь о книжном «рынке», о книжной «индустрии» или «отрасли», о рейтинге продаж, о соотношении сетевой литературы и бумажной, о платной основе сетевой литературы. О том, у кого и какие книги вышли и каким объёмом. Вплоть до того, какими ручками и на какой бумаге пишут или сразу садятся за клавиатуру, и т.д. Наверное, всё это для того, чтобы не говорить собственно о литературе. Да и о жизни… Хотя отчуждение от литературы уже таково, что настало время бесплатно раздавать книги, платить за их прочтение. И то, далеко не каждый прочитает. Говорю именно о литературе, об изящной словесности, а не о текстах вообще и не об информации. Впрочем, это было всегда: «Первый вопрос при первом знакомстве: «Где служите?» А в статье «Вопросы, вопросы, вопросы» А. Блок писал: «Общение между писателями русскими может установиться, по-видимому, лишь постольку, поскольку они не писатели, а общественные деятели, собутыльники, кошкодавы, что угодно».
А потому теперь, впрочем, как и всегда, у литераторов, у писателей нет более важной задачи и заботы, чем «не мысля гордый век забавить», возвращать литературу к своей природе, помня о том, что выполнять свою миссию она может лишь в той мере, в какой остаётся литературой.
Художник: Мики де Гудабум.