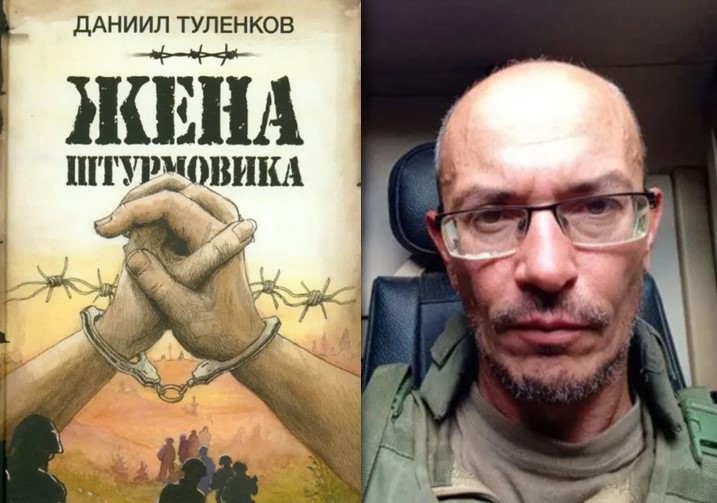–û―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η
–û―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η

–ü―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β
–ü–Ψ–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ ―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω–Ψ―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–ù–Α―Ü–±–Β―¹―²–Α¬Μ, ―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤―à–Β–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ―É ―à–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ―΄–Μ–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η¬Μ, –Α ―²–Ψ –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―¹–Κ–Α―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –¥–Ψ ―Ä―É―¹–Ψ―³–Ψ–±―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–Μ―É–Ω–Ψ–Κ ¬Ϊ–¦–Η―Ü–Β―è¬Μ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Η–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Γ–Φ―΄―à–Μ―è–Β–≤. –Γ–Μ―΄―Ö–Α–Μ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β? –î–Α –Ϋ―É, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―é, –Ϋ–Β –≤―΄–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Ι, –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Η―â–Β ―ç―²–Ψ–Φ, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Η–Φ –≤–Ζ―è―²―¨―¹―è... –ê –≤–Ψ―² –Η –±―΄–≤–Α–Β―², –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α –Γ–Φ―΄―à–Μ―è–Β–≤. –Δ―΄, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Ω–Μ―é–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―ç―²–Η ¬Ϊ–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η¬Μ, –¥–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Η –≤–Ζ–Ψ―Ä –Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―΅–Η―¹―²―΄–Β. –™–¥–Β –Ε –≤–Ζ―è―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β? βÄ™ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―é―¹―¨. –ê –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ―²–Α–Φ –Η –≤–Ζ―è―²―¨, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Ψ–≤ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ß–Η―¹―²–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α¬Μ. –ù–Β ―Ö―É―Ö―Ä―΄-–Φ―É―Ö―Ä―΄ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ε―é―Ä–Η, –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–Ϋ. –‰ –≤―΄–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―¨ βÄ™ –Φ–Ψ–Μ, ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–Φ –®–Α―Ä–≥―É–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–ß–Η―¹―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η¬Μ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―². –£–Ψ –Κ–Α–Κ!
–Δ―É―² ―É–Ε –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ ―É―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ. –‰ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η –Ω―Ä–Β–Μ―¨―¹―²–Η–≤–Ψ–Β, –Η –≥–Μ–Α–≤–Α –Ε―é―Ä–Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü. –½–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α―à–Β–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ―è –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è ―²–Β–Κ―É―â–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α. –£―¹–Β –¥―É–Φ–Α–Μ ―è: –Κ―É–¥–Α –Ε–Β –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –®–Α―Ä–≥―É–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ–Ω–Α―¹―²–Η–Μ―¹―è, –≥–¥–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É?.. –ù―É –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨ –Ε–Β –Ζ–Μ–Ψ–Ω―΄―Ö–Α―²–Β–Μ―è–Φ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―â–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―²–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Β–Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Η–Ε―É, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ζ–Ϋ–Α―é βÄ™ –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ê –Ψ–Ϋ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―²: –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―΅–Η―²–Α–Μ, ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ ―Ä―É–Μ–Η–Μ –¥–Α ―΅–Η―¹―²–Ψ–Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Α –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Μ. –‰ –≤–Β–¥―¨ –≤―΄–±―Ä–Α–Μ! –î–Α –Ϋ–Β –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Φ, –Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –Μ―é–±–Η–Φ―΄―Ö βÄ™ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α –ê–¥–Ψ–Μ―¨―³–Ψ–≤–Η―΅–Α –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α! –ù–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Α–Η–Κ–Α ―¹ ―É–Μ–Η―Ü―΄, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄¬Μ.
–û―² –¥―É―à–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―¹ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Β–Φ –Ζ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Η –Ζ–Α ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι. –ù–Ψ –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι, –≤–Ζ–¥―É–Φ–Α–Ι –Φ―΄ ―É―²–Α–Η―²―¨ –Ψ―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –≤–Β―Ö–Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Α, –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ι –Φ―΄ ―¹–Ψ–Κ―Ä―΄―²―¨ ―è―Ä–Κ–Ψ–Β ―¹–Η―è–Ϋ–Η–Β ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä¬Μ –Η –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Η –Φ―΄ ―É–Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨ –Ψ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ö –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α.¬†
–ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ –≤–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η–Ι, –Ζ–Α―²–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä –Η ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Η ―²–Β–Κ―É―â–Β–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Β–Φ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―à–Β–¥–Β–≤―Ä–Α.¬†
 
¬Ϊ–Δ–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι: 32-08, βÄ™ –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ξ–Α―Ä–Φ―¹. βÄ™ –½–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ: ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α –Ζ―É–±–Α –Η –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β–≤¬Μ.
¬ΪβÄ™ –ö–Α–Κ–Ψ–Ι ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ?
βÄ™ –ù–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é.
βÄ™ –ù―É, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ?¬Μ¬†
(–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –î–Ψ–≤–Μ–Α―²–Ψ–≤, ¬Ϊ–Γ–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Ϋ–¥–Β―Ä–≤―É–¥–Β¬Μ)
–ù–Β –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Β―¹―²―¨ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Α―è –≥–Α–Ζ–Β―²–Α. –ê ¬Ϊ–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄¬Μ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β―². –†–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–≤–Ψ―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ψ―² ¬Ϊ–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΄¬Μ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α: ¬Ϊ–ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α –Η –¥–Ψ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι βÄ€–¦–™βÄù –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β―² –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω―É–±–Μ–Η―Ü–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ψ―¹―²―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, –Κ–Α―¹–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ. ¬†βÄΠ βÄ€–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Κ–ΑβÄù –±―΄–Μ–Α –Η –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ψ―²―ä–Β–Φ–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Β―ë –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ (―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Ι―²–Α ¬Ϊ–¦–™¬Μ).
–£ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –≤―¹–Ω–Ψ–Β–Ϋ–Α –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ–Ι –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄-―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄, –Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η: –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –Γ―É―Ä–Κ–Ψ–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Λ–Α–¥–Β–Β–≤, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –°―Ä–Η–Ι –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―²–Η―Ä–Α–Ε–Η, ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η.¬†
–Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―² –Α–Ε ―à–Β―¹―²–Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι, ―É –ß–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Η –¥–≤–Β –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η; ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Α, –°―Ä–Η―è –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤–Α, ―²–Ψ–Ε–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―¹–Μ–Α–≤―΄, ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Ι. ¬Ϊ–£―΄, –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β, –Ϋ―É-―²–Κ–Α!..¬Μ
–ù―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ βÄ™ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Α–Η–Κ –Η –Ω–Ψ―ç―², –Β―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ βÄ™ –Ω―Ä–Β–Φ–Η―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –™―É–Φ–Η–Μ–Β–≤–Α, –Ω―Ä–Β–Φ–Η―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –ö–Β–¥―Ä–Η–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Β–Φ–Η―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è –†―É–±―Ü–Ψ–≤–Α... –Γ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹―²–Η―Ö–Ψ–≤ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α –Ψ―² 1999 –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ ¬Ϊ–ù–Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–≥–Η―è –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É¬Μ. –ö–Α–Κ ―É –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ 1976-–Φ –≥–Ψ–¥―É. –½–Μ–Ψ–Ω―΄―Ö–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Η –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –¥–Α–¥–Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―²: –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―É –≤―¹–Β―Ö ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨ –Ϋ–Ψ―² –Η ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―²―Ä–Η –±―É–Κ–≤―΄. –‰–Μ–Η –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–Β–≤―è―²―¨. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η.
–ö–Α–Κ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ. –‰ –≤–Ψ―² –≤ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β 2021 –≥–Ψ–¥–Α –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É βÄ™ –ë–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Β–Φ–Η―é, –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β –ü―Ä–Β–Φ–Η―è –ß–Η―²–Α―²–Β–Μ―è. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Α–≤―²–Ψ―Ä ¬Ϊ–ù–Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–≥–Η–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É¬Μ-2 –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Ι –Η ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ ―¹ –Ζ–Α–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É-–Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²―É –Η–Φ―è ¬Ϊ–Γ–Β―¹―²―Ä–Α –Φ–Ψ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ, ¬Ϊ–•–Η–≤―΄–Β –Η –Φ―ë―Ä―²–≤―΄–Β¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–£–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Ψ βÄ™ –Ϋ–Β―². –£―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä¬Μ.¬†
–ù–Ψ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä¬Μ βÄ™ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ!.. –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ω―Ä–Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ βÄ™ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α–Κ―É–Μ–Η―¹–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Η –Η –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨; ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –€–Ψ―Ü–Α―Ä―²―΄ –Η –Γ–Α–Μ―¨–Β―Ä–Η –≤―΄–Ι–¥―É―² ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Κ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é. –£–Ζ―è―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –™–Ϋ–Β―¹–Η–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Β―ë ―¹–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―² –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―΄ –Η ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―΄, –Η–¥―É―² –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄ ―¹ –€–Η–Ϋ–Κ―É–Μ―¨―²–Ψ–Φ –Η –€–Η–Ϋ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Η―à―É―²―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α. –ê –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―², –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –™–Ϋ–Β―¹–Η–Ϋ–Κ–Η; –Κ―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ–Ϋ, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η?¬†
–£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Ι, –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―², –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Α –ë–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η –≤―΄–±–Η―Ä–Α―é―² ―¹–Α–Φ–Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η. –≠―²–Ψ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–±―΄, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η, ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É―¹–Ω–Β―Ö! –ü–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ–Η –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ βÄ™ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η βÄ™ –≤–Β–¥―¨ –ë–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Β–Φ–Η―è ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –†–™–ë–€, –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η! –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ ―²–Α–Κ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Α –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η: ¬Ϊ–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²: "–Α", ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Η, "–±", ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―â–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ¬Μ. –‰ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ!.. ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ!¬†
–î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –ë–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Β–Φ–Η―è βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α―è, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Η ―Ä–Β–Ω―Ä–Β–Ζ–Β–Ϋ―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è: –Ω―Ä–Ψ―¹–Β―è―²―¨ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ―è―Ä―΄ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ–≤―΄–¥–Α―΅–Η –Η –≤―΄–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≤–Ψ―¹―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―΄ ―²–Α–Κ!
–ù–Ψ –¥–Η–Μ–Β―²–Α–Ϋ―²―É ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ–Η―¹–Κ ¬Ϊ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Α―Ö –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄-2020¬Μ –≤―΄–¥–Α―ë―² –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä –Η–Ζ ¬Ϊ–Π―΄–≥–Α–Ϋ–Α¬Μ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–Α, ¬Ϊ–î–Ϋ–Β–Ι –Γ–Α–≤–Β–Μ–Η―è¬Μ (–Α–≤―²–Ψ―Ä βÄ™ –Γ–Μ―É–Ε–Η―²–Β–Μ―¨ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅), –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –½―É–Μ–Β–Ι―Ö–Η, ¬Ϊ–†–Α―è –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –ê―³–Μ–Α―²―É–Ϋ–Η –Γ–Α―Ö–±–Α―²–Α –Η ¬Ϊ–ü―¨–Β―¹ ―é–≥–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤: –¥–Μ―è ―³–Ψ―Ä―²–Β–Ω–Η–Α–Ϋ–Ψ¬Μ, 1986 –≥–Ψ–¥.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Φ―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²–±–Ψ―Ä –Γ–Α–Φ―΄―Ö –ß–Η―²–Α–Β–Φ―΄―Ö –≤–Ζ―è–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä―É–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―΄: ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –†–™–ë–€ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ξ–Α―Ä–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―ç―²–Β―¹―¹–Α –ê–Ϋ–Ϋ–Α –Ξ–Α―Ä–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α. –¦–Β–≥–Η―²–Η–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –Ξ–Α―Ä–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è ―²―Ä–Β–Φ―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η: –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É–Β―² –Μ–Ψ–Ϋ–≥-–Μ–Η―¹―² –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―² ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹, –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä―É―é―² ―à–Ψ―Ä―²-–Μ–Η―¹―², –Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Β–Μ–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä.
–ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―΅―ë―²―΄ –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η –Ϋ–Β –¥–Α―é―² ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ–Β –Ψ―²–±–Ψ―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–¥―¹―΅―ë―²–Α –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥, ―Ö–Ψ―²―è –†–™–ë–€ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨―é ―Ü–Η―³―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. ¬Ϊ–†–™–ë–€ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―΄―Ö ―Ü–Η―³―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Ψ–Κ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–ΒβÄΠ –≤ –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ü–Η–Κ–Μ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β RFID ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–ΙβÄΠ –Η ―².–¥.¬Μ. –Γ―²–Α―²–Η―¹―²–Η–Κ–Α –†–™–ë–€ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –≤―¹―ë βÄ™ –Ψ―² ―΅–Η―¹–Μ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Ψ–≤―΄–¥–Α―΅ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Κ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―²–Α―Ü–Η–Ι, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Ι―²–Η–Ϋ–≥–Α ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤ –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―΅―ë―²–Α―Ö –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β: –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―² ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Β―²–Β–Κ―²–Η–≤―΄, ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η–Κ–Α, ―³―ç–Ϋ―²–Β–Ζ–Η, ―É–Ε–Α―¹―΄, –Φ–Η―¹―²–Η–Κ―É¬Μ.
–ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Η –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä–Α¬Μ ―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η! –£ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α –Β―¹―²―¨ –≤―¹―ë: –Η –¥–Β―²–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–Κ–Α-―¹―²―É–Κ–Α―΅–Α, ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²–Α―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―², –Η ―É–Ε–Α―¹―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ ―Ä―è–¥–Α―Ö –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê―Ä–Φ–Η–Η, ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Η ―³―ç–Ϋ―²―ç–Ζ–Η. –ê –Φ–Η―¹―²–Η–Κ–Α –Ω―¹–Η―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Μ–Ψ–Φ–Α –Η ―²–Β―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Η–Α–Ϋ–Η―¹―²–Α –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―É–Ω–Α–≤―à–Α―è –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α ―Ä–Ψ―è–Μ―è –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Α –Ω–Α–Μ–Β―Ü!..
–•–Α–Μ―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä―É (–€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1972 –≥–Ψ–¥―É): –Ψ―² 1948 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Ψ 1985-–≥–Ψ. –ù–Ψ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―² ―é–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –•–Η–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η –Κ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―¹―²–Α ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü, –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –Ω–Ψ–Μ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄ™ –Ψ–±―â–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ.
–‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ―è–Β―² ―è–Ζ―΄–Κ. –Θ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ–±–Β―â–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α, –Β–≥–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α: ¬Ϊ–£―¹―é ―²―É –Ζ–Η–Φ―É ―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Β―Ä―²–≤...¬Μ. –ù–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―² –Η ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ –Ψ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Α―Ö; –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–≤–Β―Ä―²―é―Ä–Α. ¬Ϊ–Δ―É –Ζ–Η–Φ―ÉβÄΠ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–ΨβÄΠ¬Μ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–Α–¥–Α―ë―² –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η–Κ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ¬Ϊ―²–ΨβÄΠ ―΅―²–Ψ¬Μ –Η ¬Ϊ―²–Ψ―²βÄΠ ―΅–Β–≥–Ψ-―²–ΨβÄΠ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι¬Μ.
¬ΪβÄΠ–≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Η –Μ―é–±–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β–Ϋ–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²―è―² –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨ –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é, –±–Α―Ä―΄―à–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Ψ–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―è–Ω―¨―èβÄΠ¬Μ.
¬Ϊ–ß―²–Ψ-―²–Ψ¬Μ –Η ¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ¬Μ βÄ™ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-–Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Η–Μ―è, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²–Ψ―¹―²―¨. –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―² –Η―Ö ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Η ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ:
¬Ϊ–ê –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨βÄΠ¬Μ;
¬Ϊ–ö―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Η–Μ―΄βÄΠ¬Μ;
¬Ϊ–û–Ϋ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –¥–≤–Ψ―ÄβÄΠ¬Μ;
¬†¬Ϊ–£ –Φ–Β―²―Ä–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹―²–Α–Μ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ―É–Ε–Η–ΚβÄΠ¬Μ;
¬Ϊ–Γ–≤–Β―²–Α –Ϋ–Β –Κ―É―Ä–Η–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Β―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–ΙβÄΠ¬Μ;
¬ΪβÄΠ―à–Β―¹―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –î–Η–Φ–Κ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –Η –≤―¹―ë ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―É –Ψ―²―Ü–Α, ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, ―É –¥–Β–¥–Α, ―É –±–Α–±―É―à–Κ–Η, ―É –±―Ä–Α―²–Α¬Μ.¬†
–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –î–Η–Φ–Κ–Α –Ω–Ψ–≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ: ¬ΪβÄΠ–±–Β–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄–Ζ―Ä–Β–≤–Α―é―â–Β–Ι, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Ψ–¥, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ ―²–Ψ ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, ―²–Ψ ―É –¥–Β–¥–Α¬Μ.
–ë―É–Κ–≤–Ψ–Β–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Η–¥–Η―Ä―΄, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥―É―² –Ϋ―É–¥–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Ι. –‰―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―², –Φ–Ψ–Μ, –Ϋ–Β–≤–Ϋ―è―²–Ϋ―É―é ―Ä–Β―΅–Β–≤―É―é –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É; ―è–Κ–Ψ–±―΄, –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –Ϋ–Α–¥ –¥–Β―²–Α–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –Η –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―² –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η; ¬†–Φ–Ψ―²–Η–≤―΄ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²―΄–Φ–Η, –Α –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –≤―è–Μ―΄–Φ–Η –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ―΄–≤―΅–Α―²―΄–Φ–Η. –ù–Ψ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –Ψ―²–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–Φ―à–Β–Μ―΄–Β ―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―²–Η–Ω―΄ –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―è ¬Ϊ―΅―²–Ψ-―²–Ψ¬Μ –Η ¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ¬Μ –≤ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö.
¬ΪβÄΠ–Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α―²–Β–≤–Α–Μ–Α ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä¬Μ;
¬Ϊ–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–≤―à–Η–Ι –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ –Η–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–ΗβÄΠ¬Μ;
¬Ϊ–Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ψ―² ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄βÄΠ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄–Φ¬Μ;
¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –¥―΄―à–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―Ü–Β–Ω–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―²–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η¬Μ;
¬ΪβÄΠ–Ϋ–Α–¥–Ψ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨―¹―è, –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –≤ –≥―Ä―É–¥–ΗβÄΠ¬Μ;
¬Ϊ–û–Ϋ –¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ ―΅–Β–Φ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨¬Μ.
–€―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –¥–Η–Κ―²―É–Β―² –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ϋ–Α –≤ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ–Β:¬†¬ΪβÄΠ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Η ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Ζ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―É–¥–Α–Μ―è–Μ –Β–Φ―É.
–ö―Ä―΄―à–Κ–Α ―Ä–Ψ―è–Μ―è –≤–Η―¹–Β–Μ–Α –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ. –ö―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Β–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨.
–€–Η―Ö–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄ –Η ―¹–Β–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É, –≥–¥–Β –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ –Β–Φ―É –Φ–Β―¹―²–Ψ¬Μ.¬†
–î–Μ―è ―¹―²–Η–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ ¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ¬Μ.
–Γ–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –ù–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Α: –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Α –Ω–Η–Α–Ϋ–Η―¹―²–Α –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Α–Μ–Β―Ü –Κ―Ä―΄―à–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―è–Μ―è, –Ζ–Α–Φ–Β―â–Α–Β―²―¹―è –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Κ–Μ–Α–≤–Η–Α―²―É―Ä–Α –Ϋ–Ψ―É―²–±―É–Κ–Α –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η–Μ–Α –≥–Μ–Α–Ζ (¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ¬Μ) –Η –Β–≥–Ψ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Ψ ―΅―ë―²–Κ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ.¬†
–ê–≤―²–Ψ―Ä ―²―è–≥–Ψ―²–Β–Β―² –Κ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ ―¹–Ϋ–Η―¹–Κ–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Η –Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²–Ψ―¹―²–Η –¥–Β―²–Α–Μ–Β–Ι. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Β―² ―É―é―²–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Β―΅―¨ –Η–¥―ë―² –Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö, ―²–Ψ –≤ ―Ö–Ψ–¥ –Η–¥―É―² –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α, –Η –≤―¹―ë –Ψ–±―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ –Κ–Α―³–Β; –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι, –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η ―Ö–Ψ–Κ–Κ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―΅–Α –Π–Γ–ö–ê βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ¬Μ 1985-–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤: ¬Ϊ–£ ―¹–Η–Μ―É –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Α ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–≤βÄΠ ¬†–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―²―¨―¹―èβÄΠ –¥–≤―É–Φ―è –±–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η –Η–Κ―Ä―΄, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β―²―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–±―É―à–Β–Ι, –Κ―Ä–Α–±–Α–Φ–Η¬Μ βÄ™ ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η: ¬Ϊ–¥–Β―³–Η―Ü–Η―²βÄΠ –¥–Β―³–Η―Ü–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―¹―²–Η–Μ―¨ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α. –î–Β―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Η ―¹–Β–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Α–≤―²–Ψ―Ä―É ―É–¥–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ.
–½–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä―è–Φ–Α―è ―Ä–Β―΅―¨ ¬ΪΟ† la –·―Ö–Η–Ϋ–Α¬Μ, –Φ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α, ―É–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Ψ–Ι¬Μ –Η –≤–Ψ–≤―¹―é –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ–Α―è –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –½–Α–Φ―à–Β–≤―΄–Φ.
1953 –≥–Ψ–¥: ¬Ϊ–Γ–≤–Β―²―É ―²―è–≥–Ψ―²–Η–Μ–Ψ ―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–¥–Β―²–Α, –Ϋ–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –î–Ψ –Γ–Γ–Γ–† –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è –Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Ψ―², ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Ψ–Φ –î–Η–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ 1948 –≥–Ψ–¥―É, –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α –Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄¬Μ βÄ™ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –±―΄, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ ―¹―²–Η–Μ―¨ ¬Ϊ–ù―¨―é-–Μ―É–Κ¬Μ 1948 –≥–Ψ–¥–Α? –ï―ë –Κ―Ä―É–≥ βÄ™ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤―É–Ζ–Ψ–≤, –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Β―¹―²―¨ –î–Ψ–Φ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ι –Η –Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Η―Ö–Η. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à―É―é―¹―è –Φ–Ψ–¥―É βÄ™ ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―²―¨?
¬Ϊ–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ 1970βÄΠ –Ζ–Α–±―É–Κ―¹–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –±–Β–¥–Ψ–Μ–Α–≥―É –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η –Η–Ζ –Η―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≥–¥–Β-―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –≤―΄–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Η–Ζ –±–Β–¥―΄βÄΠ ―Ä–Α―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Α–≤ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ε–Η–≥―É–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ.¬†
–£–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–™–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄βÄΠ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–ΑβÄΠ¬Μ –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η ¬Ϊ―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―²¬Μ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–Ε–Η–≥―É–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ. –ë–Β–¥–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι 70-–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–Ε–Η–≥―É–Μ―ë–Ϋ–Ψ–Κ¬Μ –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Φ, ¬Ϊimagine Zhiguli¬Μ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ―à–Μ–Η ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β–Ι–Β―Ä–Α –£–ê–½–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β 1970 –≥–Ψ–¥–Α.
1985 –≥–Ψ–¥: ¬Ϊ–‰ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ ―à–Β–Μ –Ω–Ψ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É, ―à―É―Ä―à–Α―â–Β–Φ―É –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ζ–≤–Β–Ϋ―è―â–Β–Φ―É ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α―è–Φ–Η¬Μ, βÄ™ ―¹ –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Μ–Β―² ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―É–±―Ä–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Η, –Β―â―ë –≤ 1951-–Φ. –ö―É–¥–Α –Κ–Α–Κ –Μ―É―΅―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄: ¬Ϊ–Ω–Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ―è―â–Β–Φ―É –ù–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É¬Μ, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η?
1949 –≥–Ψ–¥, ―²–Α–Ω―ë―Ä―΄ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Β: ¬Ϊ–ö–Η–Ϋ–Ψ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Α―³–Ψ―¹–Ϋ–Α―è. –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ê –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–ΫβÄΠ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―² –¥–≤–Α –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Β–≤―Ä–Β―è¬Μ βÄ™ –≤ 1949 –≥–Ψ–¥―É –≤―¹―ë –Κ–Η–Ϋ–Ψ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ―É, –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–≤―É–Κ–Ψ–≤―΄–Φ. –Δ–Α–Ω―ë―Ä―΄ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤ –Β―â―ë –¥–Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ê –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Η –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤: ¬Ϊ–ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Η–≥―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―³–Ψ–Ι–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α¬Μ βÄ™ –Η –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤ ¬Ϊ–€–Β―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–ΗβÄΠ¬Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―³–Ψ–Ι–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄.
1975 –≥–Ψ–¥: ¬ΪβÄ™ –°–Μ―¨–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è. –Ξ–Ψ―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Β―² –Ψ–Ϋ–Α –≤ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α―Ä–Β –≤ βÄ€–ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–ΙβÄù...¬Μ. –≠–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ―É–≤―à–Α―è –Η–Ζ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–Μ―¨–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Β―â―ë –Μ―É―΅―à–Β. –ù–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α―Ä–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ω–Β–Μ–Α, –Ϋ–Α–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β―ë. –™–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Α―è¬Μ –±―΄–Μ–Α ―¹–¥–Α–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α, –≤ 1979-–Φ.
1976 –≥–Ψ–¥: ¬Ϊ–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ –Θ―¹–Ψ–≤, –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―É ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è¬Μ βÄ™ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ 1976 –≥–Ψ–¥―É ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Ψ–¥–Α, ¬†–≤ 1980-–Φ. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β―¹―¨, ¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Μ―É―΅―à–Β! –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹―²–Α–≤–Κ―É –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Φ―à–Β–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―è.¬†
–£–Ψ–Ψ–±―â–Β, –¥–Μ―è –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Α―Ä–Φ–Η–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–Κ. –ü–Ψ―Ä―²―è–Ϋ–Κ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Φ–Α―²―΄–≤–Α―é―², –Α –Ζ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―² (¬Ϊ–£ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–≤ –Ω–Ψ―Ä―²―è–Ϋ–Κ–Η, –≤ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Β―Ä –Ϋ–Ψ–≥–ΗβÄΠ –≠―²–Η –Ζ–Α–Ζ–Ψ―Ä―΄ –Η ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Κ–Η –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Η –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≥–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―Ü–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Α –Ψ―² –Φ―è―¹–Α, –Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤ –Ω–Ψ―Ä―²―è–Ϋ–Κ–Η –Η ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é¬Μ), ―¹ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η –Ϋ–Β ―É―Ö–Ψ–¥―è―² (¬Ϊ...―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ 24 ―΅–Α―¹–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö, –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è...¬Μ), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è ¬Ϊ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –±–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–±–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ, ―²–Α–Κ –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Β. –ù–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Η ―Ö―É–Ε–Β: ¬ΪβÄΠ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² ―Ä–Ψ―²―΄ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö, –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Ψ–≥―É. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤―è―² –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²―Ä–Β–Μ¬Μ.
–ü–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι ―à―²–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²–Ψ.¬†
1948-–Ι –≥–Ψ–¥: ¬Ϊ–®–Ϋ–Β–Β―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ―ë―¹ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Ψ―¹―¨–Κ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―É―²―΄–Μ–Ψ–Κ ―à–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―΅―É–¥–Ψ–Φ –≥–¥–Β-―²–Ψ –¥–Ψ–±―΄―²―΄–Β –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–Β―²–Β ―à–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―²―΄ –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ–±–Κ–Β... –£ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η, –¥―Ä―É–≥–Η–Β, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―à–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―¹―¨, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥ ―Ö–Φ–Β–Μ―¨–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ö–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ψ–Ε–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―èβÄΠ –Γ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Α―é―â–Η–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α―²–Η―Ö―à–Η–Φ ―à―É–Φ–Ψ–Φ –Φ–Η–Φ–Ψ –¦–Α–Ω―à–Η–Ϋ–Α, –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ―΄ –Η –®–Ϋ–Β–Β―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η –¥–≤–Β βÄ€–ü–Ψ–±–Β–¥―΄βÄù.¬†
–‰–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ϋ–Α –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –¥–Ψ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –≤―΄–Μ–Β―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―É–¥–Α–Μ―΄–Β –Ζ–≤―É–Κ–Η –±–Α―è–Ϋ–Α¬Μ.
–ü–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ ―²―ë–Φ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Η―²–Η ―¹–Β―²―΅–Α―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–Α–≤–Ψ―¹―¨–Κ–Η¬Μ, –¥–≤–Β ¬Ϊ–ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ –Η ―Ä–Α–Ζ―É–¥–Α–Μ―΄–Ι –±–Α―è–Ϋ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―² ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É 1948 –≥–Ψ–¥–Α.¬†
–î–Μ―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α, –±―Ä–Α―²―¨―è –£–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―²–Α–Κ: ¬ΪβÄΠ―è –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Β, ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Η–Φ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²–Ψ–Φ: βÄ€–ù–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–≤–Ϋ―É–¥–Β–Μ–Β―Ü! –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, ―²―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―à―¨ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²―É!βÄù –Λ―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―²―¨ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ε–Β–Μ―²–Α―è –≥―Ä―É―à–Α ―¹―²–Ψ―¹–≤–Β―΅–Ψ–≤–Κ–Η–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Κ–Α–Μ–ΑβÄΠ –£ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –Η–ΖβÄë–Ω–Ψ–¥ –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Φ―É–≥–Η, –≤―¹–Β –Β―â–Β –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²βÄë–Ϋ–Α–Κ―Ä–Β―¹―² –±–Β–Μ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–¥―É–≤–Α–Μ–Ψ¬Μ.¬†
–‰–Μ–Η ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–ö ―΅–Α―é ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ω–Α–Κ–Β―²–Η–Κ–Α ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Β–Μ–Ψ–Κ –≤–Α―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Ψ―à–Κ–Η, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ―¨―é βÄ€–≠–Κ―¹―²―Ä–ΑβÄù, –Η –¥–≤–Β –±–Α–Ϋ–Κ–Η –Κ―Ä–Α–±–Ψ–≤. –· –Κ―É–Ω–Η–Μ –Κ―Ä–Α–±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤―΅–Β―Ä–Α –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΅–Η–Κ–Β βÄ™ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –±–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –¥―Ä–Ψ–Ε–Ε–Α–Φ–Η –±–Β–Ζ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Β–Κ, –Η –≤–Β―¹―¨ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Η―Ä–Α–Φ–Η–¥–Α–Φ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ζ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η―Ö –±–Α–Ϋ–Ψ―΅–Β–Κ ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é βÄ€–Γ–ù–ê–Δ–ö–êβÄù –Η βÄ€–ê–ö–ûβÄù...¬Μ.¬†
–ù–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―é–Ϋ–Ψ―à–Α–Φ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ ―ç―²–Η –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –¥―Ä–Ψ–Ε–Ε–Β–≤–Ψ-–Ω–Ψ―Ä―²―è–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Β―²–Α–Μ–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É–≤―à–Β–≥–Ψ? –ö ―΅―ë―Ä―²―É –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄ™ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è―Ä–Κ–Η―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ–Κ, –¥―Ä–Α–Φ―΄, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Η, ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι!
–ê –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –Μ―é–±–≤–Η –Η ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―², –Ϋ–Β–±―΄–≤–Α–Μ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β. –ö–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü, –Α –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤―¹―é ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―É―é –Ω–Α–Μ–Η―²―Ä―É ―΅―É–≤―¹―²–≤ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É―é ―ë–Φ–Κ―É―é ―³―Ä–Α–Ζ―É: ¬Ϊ–†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Ι, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Ψ–Ι –Η ―Ü–Β–Μ―΄–Φ ―¹–Ψ–Ϋ–Φ–Ψ–Φ –±–Ψ–≥–Α―²–Β–Ι―à–Η―Ö –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α―²―É―Ä–Α, –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–±–Μ–Β―¹–Κ–Η–≤–Α―è, –Ϋ–Β―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Α–Ω–Μ–Η–≤–Α–Μ–Α –≤―¹–Β –Β–Β ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―â–Β–Β, ―΅―²–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Μ―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―è –Μ–Η―Ü–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η―Ü―΄, ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Η–≤–Ψ–Β, –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η ―²―É―Ä–≥–Β–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Β –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –ê–Ϋ–Ϋ―΄ –û–¥–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Ζ βÄ€–û―²―Ü–Ψ–≤ –Η –¥–Β―²–Β–ΙβÄù, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Β–Φ―É –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –≥–¥–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ω–Η―à–Β―² –Ψ –Β–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Β, βÄ€–Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―É –≤―¹–Β―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―ÖβÄù (―²–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε ―΅―É―²―¨ –¥―É―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α βÄ€―²–Ψ–Μ―¹―²βÄù, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α–Φ, –Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ, –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ―É, –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É –Δ―É―Ä–≥–Β–Ϋ–Β–≤ –Η –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―΅―É―²―¨ ―É―²–Ψ–Μ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ϋ–Η–Ζ―É, –Ϋ–Ψ―¹ –Ω―Ä–Η–¥–Α–Β―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨), –Η –Β―â–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ βÄ€–û―²―Ü–Ψ–≤ –Η –¥–Β―²–Β–ΙβÄù –≤―Ä―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹ ―²–Η―Ö–Η–Φ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Ψ―² ―ç―²–Ψ: βÄ€–ê–Ϋ–Ϋ–Α –û–¥–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η―¹―¨ –Ψ―² –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–ΗβÄù; –Η ―É–Ε –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ-–Κ–Η–Ϋ–Ψ―à–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≥–Α–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Α–Β―² –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –≥―É–±–Α–Φ–Η –≥―É–± –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η¬Μ.
–ü―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α –¦―é–±–≤–Η –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Β–Φ:¬†¬Ϊ–Δ–Α–Ι–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―è―²–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―É―²–Η –¥–Μ―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α. –‰ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Η –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Β―²...¬Μ. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ: ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ―à–Μ–Α –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Β―². –ê –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Η-–Κ–Α, –Ϋ–Α–Ω–Η―à–Η ―²–Α–Κ!¬†
–‰ –≤ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Η –¦―é–±–≤–Η –Δ–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –¥–Α―ë―² –Ω―Ä–Ψ–Φ–Α―à–Κ–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Φ―à–Β–≤:
¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Η―Ö ―²–Β–Μ–Α ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–ΑβÄΠ¬Μ;
¬Ϊ–Θ―²–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ε–Β –Ϋ–Α―²―É―Ä–Α –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Β–±–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Β–Ζ–Ψ―²―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ ―¹–Α–Φ–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Φ―è―²―¨ –Β–Β, –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β, –≤–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –Β–Β –≤ ―¹–Β–±―èβÄΠ¬Μ.
¬Ϊ–Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É –≤ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Α ―¹―²–Α―Ä―É―é ―à–Η―Ä–Ψ–Κ―É―é –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –Μ―é–±–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –≤ –≤–Ψ–¥–Β¬Μ.
–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―² ―¹–±–Η–≤―΅–Η–≤–Α―è ―¹―²–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ―¹–Α–Φ–Κ–Η: ¬Ϊ–Ϋ–Α―²―É―Ä–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Β–±–Β¬Μ, ―¹–Φ–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Μ―è–Μ–Η―¹―¨¬Μ –Η ¬Ϊ–Μ―é–±–Η―²―¨ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α¬Μ.¬†
–û–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―è –¥–Β―²―¹–Κ―É―é –≤–Μ―é–±–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―² ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι ―¹―²–Η–Μ―¨.¬†
¬Ϊ–£ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É (–≤ 13 –Μ–Β―² βÄ™ –£.–Γ.) –Γ–≤–Β―²–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤–Μ―é–±–Η―²―¨―¹―è –≤ ―Ä―΄–Ε–Β–≥–Ψ –Η –≤–Β―¹–Ϋ―É―à―΅–Α―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ―É –Η–Ζ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Η–≤, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β¬Μ. ¬Ϊ–ù–Β―Ä–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²―¨¬Μ –≤–Β―¹–Ϋ―É―à―΅–Α―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Η –≤ –Μ―é–±–≤–Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―É–¥–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –±―Ä–Ψ–≤―¨, –Ϋ–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Φ―à–Β–≤ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Β―². –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―é–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–≤–Β―²―΄ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ:
¬Ϊ–£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Γ–≤–Β―²–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –±―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ–Ω–Α―¹–Μ–Η–≤–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―³–Β–Β―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨―é.
–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤, –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Β–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η¬Μ.
–û–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è, ―³–Β–Β―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η ―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤! –î–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ ―²–Α–Κ –Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β. –ù–Ψ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –≤–Μ–Α–¥–Β–Β―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –¦―é–±–≤–Η –Η –ù–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ ―É–Φ–Β–Β―² –Η –Ψ–±–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, ―¹―²–Η–Μ–Η–Ζ―É―è―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ―É―é ―Ä–Β―΅―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤:
¬Ϊ–£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö –¥―É―Ä―¨ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ–Α –Ω―΄―à–Ϋ―΄–Φ ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Φ. –¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Β–≥―Ä–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ¬Μ;
¬Ϊ–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Α―Ä–Φ–Η―è –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η. –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥―É–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η ―Ä–Α―¹―²―è―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Ζ–Α–Κ–Α–Μ―è―é―² –Η―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ε–Β –¥–Β–Μ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η –Η –Φ―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², –Ω–Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è –Η―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è―è―¹―¨ –≤ –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ―É –Η –Κ–Α–Μ–Β―΅–Α –Β–Β, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―è ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β ―Ö―É–¥―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–Ε–Η―²―¨¬Μ.¬†
–™–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –¥–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι –Ψ–Κ―²–Α–≤―΄, –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β: ¬Ϊ–£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è –Η –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è―è―¹―¨βÄΠ ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–Ε–Η―²―¨¬Μ βÄ™ –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―²–Β–±–Β ¬Ϊ―΅―²–Ψ-―²–Ψ¬Μ –Η ¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ¬Μ. –ö –Μ―é–¥―è–Φ –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Φ―à–Β–≤ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –≤–Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è:
¬Ϊ–€–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Η ―¹ –Ε–Β–Ζ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ¬Μ βÄ™ 1948 –≥–Ψ–¥.
–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―², ―³–Ψ―Ä–Φ―É ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ―à–Β–≤―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë―à―¨:¬†
¬Ϊ–î–≤–Ψ–Β –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―è―Ö¬Μ βÄ™ 1985.
–ê ―΅–Η―²–Α―è –Ψ ¬Ϊ–Μ―é–¥―è―Ö –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Η―²–Β–Μ―è―Ö, ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α―Ö ―¹ ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–Φ –Η –≤ –±―Ä―é–Κ–Α―Ö ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε–Β ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ–Η –Μ–Α–Φ–Ω–Α―¹–Α–Φ–Η¬Μ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―¹–Κ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―΄. –ù–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Φ―à–Β–≤ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É―²–Α–Μ –Μ–Α–Φ–Ω–Α―¹―΄ –Η –Κ–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α –±―Ä―é–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―¹ –Β–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η―Ö –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨. –ë―Ä―é―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Ϋ―²―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä―É, –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Η―² –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ–Η –Η –≤ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤:¬†¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Η―²―¨―¹―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä―à–Β. –ï–Β ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.
–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç―²–Η–Φ ―¹ –™–Β–Ϋ―Ä–Η–Β―²―²–Ψ–Ι, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―²–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―à–Κ–Ψ–Φ:
βÄ™ –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Η ―¹ ―΅–Β–Φ.
–‰ –≤–Ψ―² ―É–Φ–Β―Ä –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ¬Μ.
–£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―²–Η―Ä–Α–Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η–Μ–Α―¹―¨. –™–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α―è –Φ–Β―²–Α―³–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Α―³–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è–Β―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Κ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é –Α–≤―²–Ψ―Ä –Η –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è.
¬Ϊ–Δ–Ψ–≥–¥–Α, ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Β–Ζ–Α–Μ –≥―É–¥–Ψ–Κ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Β–Ι, –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –≥―É–¥–Β―²―¨ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ–± –‰–Ψ―¹–Η―³–Β –î–Ε―É–≥–Α―à–≤–Η–Μ–Η¬Μ;¬†
¬Ϊ–£ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1956 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Η―Ä –Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –Κ―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ –Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ–Β―Ü –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Ι. –ü–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ξ―Ä―É―â–Β–≤–Α –Ϋ–Α XX ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Ϋ―΅–Η–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ―É–Μ―¨―² –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―¨–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –û–Μ–Β–≥―É –Η –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―ɬΜ.
–£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Κ―Ä–Η–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü–Α –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ ¬Ϊ–≥―É–¥–Ψ–Κ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –≥―É–¥–Β―²―¨¬Μ.
–ü–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Μ–Ψ–≥–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι; –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä–Α¬Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –†–Α―¹―¹–Μ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ –Η―Ö –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤, –Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α βÄ™ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è ―é–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é. ¬Ϊ–£―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Ψ―Ä–Φ―΄, –Ω–Β―Ä–Β–≤―ë―Ä―²―΄―à–Η, ―¹–Φ–Β―à–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Η―Ü―΄ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è―é―² ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –≤ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Β, –Η –Ψ–Ϋ –Β―â–Β –≤―΄―à–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é ―²–≤–Β―Ä–¥―É―é –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Α―Ü–Η―é –≤ –Φ–Η―Ä–Β. –û–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Κ–Α–Κ –±―΄ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―É–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–Μ–Α–Φ –Η –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≤ –Ϋ–Β–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Β–±–Β, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²–Β, βÄ™ –Ω–Η―à–Β―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Β–Ϋ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Β –ö–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι –ß―É–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. βÄ™ –£ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Η―Ü ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ.¬†
–ê –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –½–Α–Φ―à–Β–≤ βÄ™ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≤―ë―Ä―²―΄―à–Β–Ι.
¬Ϊ–Γ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Α–Φ―è―É–Κ–Α–Μ–Η:
–€―è―É, –Φ―è―É!
–ö–Ψ―à–Β―΅–Κ–Η –Ζ–Α―Ö―Ä―é–Κ–Α–Μ–Η:
–Ξ―Ä―é, ―Ö―Ä―é, ―Ö―Ä―é!¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ –ß―É–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι.
–½–Α–Φ―à–Β–≤: ¬ΪβÄΠ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―É–Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Φ–Α, ―΅–Η―²–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Η–Ζ–¥–Α―²...¬Μ βÄ™ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –ü―Ä―è―²–Α―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Ψ–Ι βÄ™ –Β―â―ë –Κ―É–¥–Α –Ϋ–Η ―à–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―΅–Η―²–Α―²―¨?
¬Ϊ–ù–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Β ―¹ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Η―²―É–Μ–Η–Μ―¹―è –≥–Ψ–Μ―É–±―¨ –Η, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ¬Μ βÄ™ –Ϋ―É, –Α–≤―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η–≤–Α –Η–Μ–Η –Κ–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄¬Μ βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨. –‰ –Ψ―à–Η–±―ë―²―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü: ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Ω―²–Η―Ü―΄ –Ψ–±–Μ–Β–Ω–Μ―è–Μ–Η –Κ–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä–Α–Φ¬Μ; ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―΅―É―²―¨ –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Β –Ψ–Ϋ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –±―É–Κ–Β―²–Η–Κ –Ω–Ψ–Ε―É―Ö–Μ–Ψ–Ι –Φ–Η–Φ–Ψ–Ζ―΄¬Μ (–Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Ι―²–Β ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―΅―É―²―¨ –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²–Ψ–Ι¬Μ);
¬Ϊ–ù–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―΄―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è βÄ™ –≤ ―Ä–Ψ―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ¬Μ; ¬Ϊ–¥–Ψ–Φ–Α ―à–Β–Μ–Β―¹―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –Ϋ–Η―Ö –≤–Μ–Α–≥–Ψ–Ι¬Μ; ¬Ϊ–±–Β–Μ―¨–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α ―΅―É―²―¨ –Η–Ζ–Ψ–≥–Ϋ―É―²―΄―Ö –≤–Β―Ä–Β–≤–Κ–Α―Ö¬Μ.¬†
–ï―¹―²―¨ –Ζ–Α–≥–Α–¥–Κ–Η –Η –¥–Μ―è –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö:
¬Ϊ–ê–≥–Μ–Α―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η―Ü, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–ΨβÄΠ¬Μ;¬†
¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―à–Κ–Β ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―É―¹–Ω–Β―²―¨ –Ζ–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Β–Μ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –≤―¹―é –≤–Β―¹–Ϋ―É ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ¬Μ;
¬ΪβÄΠ–±–Β–Ζ–Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–ΗβÄΠ –Η―¹―²–Α―è–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ω–Β–Ϋ–Α –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è¬Μ βÄ™ –≤ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä―É–≥–Α―Ö, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β–Φ –≥–Ψ―¹―²―è–Φ –Ω–Ψ –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Β –Ω–Η–≤–Α –Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Ψ―è―² ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―²―΄–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ω–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Α–¥―ë―². –‰–Μ–Η ―²―Ä―ë―Ö–Μ–Η―²―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ ―¹ –Ω–Η–≤–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹―É–Β―²―¹―è –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Α, –Α –Ω–Β–Ϋ–Α ―²–Α–Β―², ―²–Α–Β―²βÄΠ
–ù–Ψ –½–Α–Φ―à–Β–≤ ―É–Φ–Β–Β―² –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ:
¬ΪβÄΠ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ε–Α–Μ–Β–Μ–Α, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Η–Ζ–±―΄―²―¨ ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ-―²―è–Ε–Β–Μ―É―é –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö–Α¬Μ;¬†
¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ;
¬Ϊ–£–Β―Ä–Α –ü―Ä–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤ ―â–Β–Κ―É ―΅–Β―Ä–Β―¹―΅―É―Ä –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ¬Μ;¬†
¬Ϊ–Θ–Μ–Η―Ü–Α –™–Β―Ä―Ü–Β–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –¥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ε–Η–≤–Ψ–Φ―É. –ü–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―²–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Β–Β¬Μ;
¬Ϊ–®–Β–Μ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ-–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι –Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Β–±―è ―¹–Ϋ–Β–≥¬Μ;¬†
¬Ϊ–Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –¦―¨–≤–Ψ–≤–Ϋ–Α, –¥–Ψ–Ω–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ―³–Β, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹―²―¨―é –±–Β–Μ–Β–Μ–Η –Κ―Ä―΄―à–Η –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤¬Μ.¬†
¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ βÄ™ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β, –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―ë―² –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Η –Ω–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É:
¬Ϊ–£–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β –Α―¹–Ω–Η―Ä–Α–Ϋ―²–Α –±–Μ―É–Ε–¥–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨βÄΠ¬Μ;
¬ΪβÄΠ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹. –û–Μ–Β–≥ –Η –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ä–≤–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²―ɬΜ;
¬ΪβÄΠ–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Α―è ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –≤ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―è¬Μ.¬†
–‰ –¥–Α–Ε–Β:
¬Ϊ–Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α ―à–Μ–Α –Ω–Ψ ―²―è–≥–Ψ―²―è―â–Β–Ι―¹―è ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Β –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –€–Ψ―¹―¹–Ψ–≤–Β―²–ΑβÄΠ¬Μ.¬†
–€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –≤–Ψ–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―² ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―²―Ä―ë―Ö –Κ–Η―²–Α―Ö: –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥―ë–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α―Ö.¬†
–Λ–Β–Μ―¨–¥―³–Β–±–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–¥–Η―Ä–Κ–Η –Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ, –Μ–Α–Φ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Ϋ―²–Α–Φ, –Η–Ζ–Ψ–≥–Ϋ―É―²―΄–Φ –≤–Β―Ä―ë–≤–Κ–Α–Φ –Η –≤–Μ–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ε–Β–Μ–Β–Ζ―É –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –±―¨―é―²―¹―è –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―è–Φ–Η: ¬Ϊ–®–Ψ–Ω–Β–Ϋ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Β–Ι –Η –Μ–Η―Ä–Η―΅–Ϋ–Β–Ι –¦–Η―¹―²–Α, –Ϋ–Ψ –¦–Η―¹―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Β –≤ –Φ–Α–Ζ–Κ–Β, –Α –Γ–Κ―Ä―è–±–Η–Ϋ βÄ™ ―Ä–Α―¹―²–Β–Κ–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Κ–Α–¥–Β–Ϋ―², –Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Ι –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±―è –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η―¹―΅–Β―Ä–Ω―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ζ–Β, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β―²―¨ –Ϋ–Α–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Η–Ζ–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Β–Φ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Κ―²–Α–≤ –Η –Α–Κ–Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤¬Μ.
–‰–Μ–Η:
¬ΪβÄ™ –Θ ―²–Β–±―è ―Ä―é–Φ–Κ–Η –Β―¹―²―¨? βÄ™ –Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι, –≤ –Φ–Β―Ä―É –≥―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–±―Ä –Ζ–Α–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ –Κ–Α–Κ –≤–Α–Μ―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²―Ä―É–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω―è―²–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η–Η –ß–Α–Ι–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Η, –¥–Ψ –Η–Ζ–Φ–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Ι –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ –±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ψ―²―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―²–Α–Κ–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α¬Μ.¬†
¬†–Γ–Ψ―²–Ϋ–Η ¬Ϊ―΅―²–Ψ-―²–Ψ¬Μ –Η ¬Ϊ–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ¬Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Φ–Β―é―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–Κ–Μ–Α–¥–Κ―É:¬†
¬ΪβÄ™ –ê –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ¬Ϊ–€–Η–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ?
βÄ™ –Δ―΄ ―΅―²–Ψ, –Ζ–Α–±―΄–Μ? –£–Ψ ―³―Ä–Η–≥–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Β.¬†
βÄ™ –ê ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Φ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Α―è, –Ϋ–Ψ –Η –Ω―è―²–Α―è ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨? –≠―²–Ψ –¥–≤―É―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–ΑβÄΠ –û–Ϋ–Α –Η –≤ –Μ―è, –Η –≤ –Φ–ΗβÄΠ –£―¹–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ. –û–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β―². –≠―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―³―Ä–Η–≥–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ψ―Ä. –≠―²–Ψ –Η –Φ–Η, –Η –Μ―è. –‰ –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Φ–Η –Η –Ϋ–Β –Μ―è¬Μ.
–£―¹―ë –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Η –Η –Ϋ–Β –Μ―è. –≠―²–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –≤―¹–Β ¬Ϊ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ¬Μ, –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―²―è–Ϋ–Κ–Η –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, ―΅–Η―²–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–¥ –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β―²―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥―΄, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ―¨―è, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Α―è ―³–Η–≥―É―Ä–Α –ê–Ω–Ψ–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―è –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –€–™–ë –Ϋ–Β –¥–Α―ë―²―¹―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –½–Α–Φ―à–Β–≤―É.¬†
–½–Α―²–Β―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –¥–Β–¥–Ψ–≤, –Ψ―²―Ü–Ψ–≤ –Η ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι, ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η ―â―É–Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α –Ψ―² –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Α. –î–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―² –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –€–™–ë –ê–±–Α–Κ―É–Φ–Ψ–≤–Α, ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ε―É―²–Κ―É―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ–Α―Ü–Η―é, –Α –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ―²―¹–Η–¥–Β–≤ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄, –≤―¹―ë –Ω–Μ–Β―²―ë―² ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Α―É―²–Η–Ϋ―É.¬†
–ü–Ψ-―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η –Ε–Α–Μ―¨ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α. –Λ–Η–≥―É―Ä–Α –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –€–™–ë –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Μ–Β―² –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Β―² ―¹–Η–Μ―΄ –½–Μ–Α, –Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –î–Ψ–±―Ä–Ψ –Η –Γ–≤–Β―², –€–Η –Η –¦―è. –ù–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –€–™–ë –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Ψ―²–Η –≥–Ψ―¹–±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è? 1948, 1976, 1985βÄΠ –¥–Α–Μ–Β–Β –≤–Β–Ζ–¥–Β? –ù–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ, –Α ―É–Ε –Ω–Η―¹–Α―²―¨-―²–ΨβÄΠ¬†
–Θ–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É–≤ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –€–™–ë –ê–±–Α–Κ―É–Φ–Ψ–≤–Α, ―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η ―Ü–Η―²–Α―²―É –Η–Ζ –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤ –£–Α–Ι–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤:¬†
¬ΪβÄ™ –£ –ö―Ä―΄–Φ ―Ö–Ψ―²―è―²βÄΠ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―΄―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Α―²–Α―Ä. –Δ―É–¥–Α, –¥–Β―¹–Κ–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Β–≤―Ä–Β–Β–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Η ―É―΅―Ä–Β–¥–Η―²―¨ ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―É―é ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―É―é ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É.
¬†βÄ™ –ê –Ω–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ε–Ψ–Ω–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―è―²? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ –ê–±–Α–Κ―É–Φ–Ψ–≤¬Μ.
–‰–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α –Μ―é–±–Η–Φ―΅–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –ê–±–Α–Κ―É–Φ–Ψ–≤–Α –Η –Ζ–Μ–Ψ–¥–Β–Β–Φ-–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ–Α–Ϋ―É–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ζ–Α–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η―² –Ω–Α―³–Ψ―¹ –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Μ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –î–Ψ–±―Ä–Α –Η –½–Μ–Α. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Μ–Η–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Β–Β–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ù–ö–£–î βÄ™ –€–™–ë βÄ™ –ö–™–ë –Η –¥–Α–Μ–Β–Β –≤–Β–Ζ–¥–Β βÄ™ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –ë–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η –Ω–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ε–Ψ–Ω–Β, –Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Β―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –±–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –€–™–ë-–ö–™–ë –≤―΄–Κ–Η–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―Ü–Α. –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –≥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Μ–Ψ–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄:¬†¬Ϊ–û–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ –£―¹–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Ψ–Μ–Η. –û–Ϋ –Η―Ö –Η–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―à–Β―² –¥–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²–Β–ΙβÄΠ–Δ–Α–Κ ―¹–Α–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–Φ–Α. –£―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Η–Ζ –≤–Η–¥―É –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. βÄΠ–û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è, ―É–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ù–Α–≤―΄–Κ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Β ―É―²―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―¹ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤βÄΠ –£―¹―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ψ–Ϋ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β ―¹ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―²–Α–Κ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―² –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ―΄¬Μ.
–Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄ™ –Κ–Μ―é―΅–Β–≤–Ψ–Ι ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α, –≥–≤–Ψ–Ζ–¥―¨, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Η―¹–Η―² –≤―¹―è –Η–Ϋ―²―Ä–Η–≥–Α, –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ:
¬Ϊ(–¦–Α–Ω―à–Η–Ϋ) βÄΠ―¹–Β–Μ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―³–Α―¹–Α–¥―É ―¹ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É―²―΄–Φ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η. –‰ ―²―É―² ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Β–¥–≤–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–±–Η–Μ–Ψ. –î–≤–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α. –•–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι. –€―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι βÄ™ ―²–Η―Ö–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–≤–Β―Ä–¥―΄–Ι.
βÄ™ –ß―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ –Γ–Β–Ϋ–Η–Ϋ-–£–Ψ–Μ–≥–Η–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Β? βÄ™ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Μ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α.
βÄΠ.
–û–Ϋ ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α ―²–Ψ–±–Ψ–Ι? –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Η–Μ? βÄ™ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α ―¹ –Κ―Ä–Η–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―Ä–Β–≤.
βÄ™ –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨?
βÄ™ –£–Ψ―² –¥―É―Ä–Α, –¥―É―Ä–Α, –¥―É―Ä–Α! βÄ™ –≤–Ζ―Ä–Β–≤–Β–Μ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ –€–™–ë. βÄ™ –‰–¥–Η–Ψ―²–Κ–Α!¬Μ.
–Δ–Ψ –Β―¹―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ –≥–Ψ―¹–±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―è ―¹ –Α–≥–Β–Ϋ―²–Β―¹―¹–Ψ–Ι, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² ―É―¹–Ω–Β―Ö ―¹–≤–Β―Ä―Ö–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ϋ–Α―¹―²–Β–Ε―¨ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Η―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β. –Λ–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Α ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Φ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Β–Β―Ä–Η–Η 1977-–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α:¬†¬Ϊ–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1977 –≥–Ψ–¥–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ. –ù–Η–Κ―²–Ψ –±–Β–Ζ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 27 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è –≤―¹–Β –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä―΄ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É. –û―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –£–€–ê –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Β –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α¬Μ.¬†
–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―â–Η–Ι ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É –Ϋ–Α –Γ―²―Ä–Β–Μ–Κ–Β –≤ 1977 –≥–Ψ–¥―É βÄ™ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Ε–Ψ–Ω–Β, –Ζ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ ―¹–≤–Β―²–Η―². –ù–Ψ –Κ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ω―É―¹―²―è ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―²? –î–Α –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α βÄ™ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ –Μ–Β―²–Η―² –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É, –Ω–Ψ―Ä–Α ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―¹–Β ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η–Ϋ–Η–Η. –€–Β―à–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤, –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –€–™–ë-–ö–™–ë.
–ù–Ψ βÄ™ –Ψ, ―É–¥–Α―΅–Α! βÄ™ –Ψ–Ϋ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É–Β―² –±–Β–≥―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε, –Ω―Ä―è–Φ―É―é –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –Η –Α–≤―²–Ψ―Ä –½–Α–Φ―à–Β–≤, ―É―¹―²–Α–≤ –Ψ―² –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ω―΅–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤–Α, –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β, –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β. –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ.
¬Ϊ–û–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–ΑβÄΠ –±―΄–Μ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β―¹―²–Α―²–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –£–Ψ―² –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–ΨβÄΠ –≤–Μ–Β―²–Β–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É, ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄–±―Ä–Α–Μ –Ε–Η–Μ―¨–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β, –¥–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ –¥–Ψ –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –≤―΄–±–Η–Μ –Ω–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι (¬Ϊ–Ω–Α–Μ–Κ–Ψ–Ι¬Μ βÄ™ sic! βÄ™ –£.–Γ.) ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ –Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –≤–Ϋ–Η–Ζ¬Μ.
–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―è–Μ―è –Ω―Ä–Η―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ―¹―è. –û–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―²―É–Φ–Α–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Β―è–Μ―¹―è: ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –û―²–Ω–Β–≤–Α–Μ–Ψ–≤ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Α–≥-–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄. –½–Μ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ.
–Θ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η ―³–Η–Μ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –ù–Ψ―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≤-–Ξ―Ä–Α–Ω–Ψ–≤–Η―Ü–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Η–¥―É―² –Ϋ–Α –Μ–Α–¥: ―¹―Ü–Β–Ϋ–Ψ–±–Ψ―è–Ζ–Ϋ―¨ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Β―², –Ω–Η―à–Β―²―¹―è ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―è. –‰–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –±–Β―¹―΄, ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–±–Η―²–Κ–Η.¬†
–½–¥–Β―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤–Η―²–Ψ ―¹―à–Η–≤–Α–Β―² ―²–Κ–Α–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―è ―΅–Β―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―É ¬Ϊ―Ä―É–Ε―¨―è –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Α–Κ―²–Β¬Μ.¬†
–ü–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―É –Ϋ–Α―²―΄–Κ–Α–Β―à―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É–Ε―¨―è.¬†
–£–Ψ―² –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ―Ä―΄―¹–Α: ¬ΪβÄΠ–Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―¹–Α ―É–Κ―É―¹–Η–Μ–Α –Ζ–Α ―É―Ö–Ψ ―¹–Ω―è―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–ΑβÄΠ ―³–Μ–Β–Ι―²–Η―¹―²–Α –¦―É–Ϋ―è―à–Κ–Η–Ϋ–Α¬Μ. –ù―É, –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨, –Κ―Ä―΄―¹–Α –Η –Κ―Ä―΄―¹–Α. –£ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β –Β―â―ë –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―². –ù–Β –Φ–Β–¥–≤–Β–¥―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α ―É―Ö–Ψ, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤.¬†
–≠-―ç, –Ϋ–Β―². –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –Α–Κ―²–Α ―Ä―É–Ε―¨―ë ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Β―²: ¬ΪβÄΠ―³–Μ–Β–Ι―²–Η―¹―² –Γ–Μ–Α–≤–Α –¦―É–Ϋ―è―à–Κ–Η–Ϋ (―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―¹–Α–Μ–Α –Κ―Ä―΄―¹–Α) ―²–Α–Κ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω―¨―è–Ϋ–Β–Μ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ. –Θ–Κ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¦―É–Ϋ―è―à–Κ–Η–Ϋ ―²―É―² –Ε–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Β―² ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–≤ –Ϋ–Η –¥–Ψ –Κ―Ä―΄―¹―΄, –Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ ―΅–Β―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ!
–ê –≤–Ψ―², –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α: ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–ΑβÄΠ –™–Ψ―Ä–±–Α―΅―ë–≤–Α ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α, –Κ–Α–Κ ―²–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Ψ–Φ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Β–Κ–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ.¬†
–ß–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ ―Ö–Φ―΄–Κ–Ϋ–Β―²: ¬Ϊ–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Η –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤. –Γ–Ω―É―¹―²―è ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―¹―²–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―é―²: ¬Ϊ–ë–Α―Ä–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è ―É―¹–Α–¥–Η–Μ–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–ΜβÄΠ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ―É ―¹ –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Α―Ö–Ϋ―É―â–Η–Φ–Η ―¹–≤–Β–Ε–Η–Φ –Φ―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Φ¬Μ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―ç―²–Ψ –Φ―É―΅–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Ψ–Β―² ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ―É―²―Ä–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α.
–‰–Μ–Η: 1948 –≥–Ψ–¥. –û―Ä–Α―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η, –±–Η―΅―É―é―â–Η–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤-―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤: ¬ΪβÄΠ–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Φ, –Ϋ–Α ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä, –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Η―΅―ë―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–Ι –Ω―Ä–Η―΅―ë―¹–Κ―É –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α...¬Μ.
–ü―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―², –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―², –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²–Ψ. –û―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²-―Ä–Β–Η–Ϋ–Κ–Α―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η―è –≤ –Ψ–±―Ö–Ψ–¥ –Α–Ϋ―²–Η–Α–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Α–Φ –≤–Η–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ–Β.
¬Ϊ–î–Ψ–Μ–≥–Ψ–≤―è–Ζ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―² ―¹ –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ ―É –™–Η―²–Μ–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―²―Ä–Η ―΅–Α―à–Κ–Η –Η ―΅–Α–Ι–Ϋ–Η–Κ.
βÄ™ –ù–Α–Φ ―¹ –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ―É, –Α ―²–Β–±–Β, –î–Η–Φ–Α, –≤–Η–Ϋ―Ü–Α. βÄ™ –ê–≥–Μ–Α―è ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨.
–î–Η–Φ–Α, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―²–Ψ―¹―²–Α, –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Ϋ―É–Μ –≤–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ ―΅–Α―à–Κ–Η. –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―΅–Α―à–Κ―É, –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ–Ψ–Φ¬Μ.
–ù–Ψ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ–±–Η―²–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–±–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―¹ –Ω―É―²–Η –î–Ψ–±―Ä–Α. –î–Α –Η –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ―¹―²―΄ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―è―²:¬†¬Ϊ–ê ―²–Β–Ϋ–Η ―É ―²–Η―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ζ–Α―¹―²–Η―²―¨. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―É –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –≤–Ψ–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―¹–Β–±–Β: –Φ―΄ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É―²―΄, –Φ―΄ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é –Κ–Ϋ―è–Ζ―è ―²―¨–Φ―΄, –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –±―É–¥–Β–Φ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ―à–Η–±–Κ–Η, –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Η―¹―Ü–Β–Μ–Η–Φ―¹―è! –£―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η–¥―²–Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–±―΄―²―¨ –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, –≥–¥–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α―¹―²―¹―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ―É –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²–Η¬Μ.
–½–≤―É―΅–Η―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―â–Α―è –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α, ―³–Η–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η –î–Ψ–±―Ä–Α:¬†¬Ϊ–Θ―²―Ä–Ψ–Φ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –¦–Β–≤ –Γ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ù–Ψ―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω―é–Ω–Η―²―Ä ―΅–Η―¹―²―΄–Ι –Ϋ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―¹―² –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ϋ–Α–Η–≥―Ä―΄–≤–Α―²―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ―É―é-―²–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é. –½–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ. –ê –Κ ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―², –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ.
–½–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Ψ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–Β –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β¬Μ.
–ö―Ä―΄―à–Κ–Α ―Ä–Ψ―è–Μ―è –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ζ–Α―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨.
–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ψ–≤–Β–¥―΄ –Η ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω–Β–Ϋ―è―é―² ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Β –Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α–Κ―¹–Β―¹―¹―É–Α―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Η―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤ –Η ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―²–Β–Κ―¹―². –Γ–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β―².¬†
–ù–Ψ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β―¹―¨, ―è–Ζ―΄–Κ –Η ―¹―²–Η–Μ–Η―¹―²–Η–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä–Α¬Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―¹–Α–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Β–±―è; ―¹–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ω―Ä–Η―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Η. –ü–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―è –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –½–Α–Φ―à–Β–≤―É: ¬Ϊ–ù–Α–¥–Ψ –±―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¨―¹―è, –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Α―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Φ―΄―¹–Μ―΄, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨. –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –≤ –≥―Ä―É–¥–Η¬Μ.¬†
–ê –≤ –≥―Ä―É–¥–Η βÄ™ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥―ä―ë–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α-–Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Α. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ –Ω–Ψ –Α–Μ–Φ–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β–Κ–Α–Μ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β―¹–Ψ–≤–Κ–Α –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α ―³–Η–Μ–Η–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ: –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η, –Φ―è―²―É―â–Η–Β―¹―è –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²―΄, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―², ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Ϋ―è―é―² –Ψ–≥―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―é―².¬†
–ö–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä –¦–Α–Ω―à–Η–Ϋ, –≤ –Α–Φ–Ω–Μ―É–Α ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ―è, ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―² –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Β–±―è –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι –€–™–ë, –Ϋ–Ψ –Ω–Η―à–Β―² ―¹–Η–Φ―³–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ψ–¥―É –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É; –¦–Α–Ω―à–Η–Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤―è―² –Η –≥–Ϋ–Ψ–±―è―², –Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Κ–Η ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α―é―²βÄΠ –€―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö –ù–Ψ―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―², –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―² –Γ–Α–±–Μ–Η–Ϋ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² ―¹–Α–Φ–Η–Ζ–¥–Α―² –Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―² –Ζ–Α –Ω―Ä–Α–≤–¥―É, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Η βÄ™ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –Ψ―²―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ ―²–Η–Ω–Ψ–ΦβÄΠ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Η―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α–Φ–Η ―¹ –Φ―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―É–≥–Ψ―â–Α―é―², –Α –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η –Η –Ϋ–Α―Ö–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Β.¬†
–‰, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, ―É –≤―¹–Β―Ö –≤―¹―ë ―É–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è: –¦–Α–Ω―à–Η–Ϋ ―¹–Ω―É―¹―²―è ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ –Η–Φ―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ ―¹―²―É–Κ–Α―΅–Α, –Ω–Η–Α–Ϋ–Η―¹―² –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Ι ―²―Ä–Η―É–Φ―³–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹―Ü–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―² ―¹―Ü–Β–Ϋ–Ψ–±–Ψ―è–Ζ–Ϋ–Η, –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Ω–Α, ―É–≤–Β–Ζ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Η–Ϋ―³–Α―Ä–Κ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄ –≤ –Π–ö, –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―², –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Β―Ü –€–Η―Ö–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Η –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Η―Ä―É–Β―², –Ζ–Μ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Α–±–Μ–Η–Ϋ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α―é―², –¥–Β–¥―É―à–Κ–Α –ù–Ψ―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ –Ζ–Α―²–Β–≤–Α–Β―² –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É, –Α –≤–Ϋ―É–Κ –î–Η–Φ–Α –Ω–Ψ–Μ―é–±–Μ―è–Β―² ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Κ―É –ê–≥–Μ–Α―é –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι.
–£―¹–Β ―²–Β―Ä–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η―è –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Φ―è–≥–Κ–Ψ –Η―¹―²–Α–Η–≤–Α―é―² βÄ™ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Κ–Α–Κ –Ω–Η–≤–Ϋ–Α―è –Ω–Β–Ϋ–Α –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨―è. –‰–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –½–Α–Φ―à–Β–≤–Α ―¹–Α―Ä–Κ–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ-–Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄, –Α –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Ι, ―¹–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É, ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Η –Φ―É―΅–Η―²―¨―¹―è. –€―΄―¹–Μ–Η, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Ϋ―΄, –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–≤–Ψ―è–Κ–Η –Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄. –ù–Β –Φ–Η –Η –Ϋ–Β –Μ―è.¬†
–‰–Μ–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ―à―É–Κ―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Α –ö–Ϋ―è–Ζ–Β–≤–Α: ¬ΪβÄΠ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –®–Β–Μ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ζ–Ψ–Ψ–Ω–Α―Ä–Κ–Α: βÄ€–½–Α–Ι―²–Η, ―΅―²–Ψ –Μ–Η?βÄù –ù―É, –Α –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Φ–Η–Φ–Ψ... –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Φ–Η–Φ–Ψ –Α–Ω―²–Β–Κ–Η ―à–Β–Μ: βÄ€–½–Α–Ι―²–Η, ―΅―²–Ψ –Μ–Η, –Κ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Κ–Η –≤–Ζ―è―²―¨?βÄù¬Μ.
–ê ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤ –±–Β–Ζ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ―É ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄: –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Κ–Α―¹–Α―²―¨―¹―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –‰ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-―¹–Α―Ä–Κ–Α―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, ¬Ϊ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹ –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ.¬†
–≠―²–Ψ―² –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ –≤―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤¬Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―².
–£–Ψ―², –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²―΄ ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η¬Μ:
2013-2014 –≥–Ψ–¥, –Ω―Ä–Η–Μ–Β–Ω–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ¬Ϊ–û–±–Η―²–Β–Μ―¨¬Μ. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² 80 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥.
2014-2015, ¬Ϊ–½―É–Μ–Β–Ι―Ö–Α¬Μ βÄ™ 50-80 –Μ–Β―²;
2015-2016, ¬Ϊ–½–Η–Φ–Ϋ―è―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α¬Μ –°–Ζ–Β―³–Ψ–≤–Η―΅–Α βÄ™ –≤–Β–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥;
2016-2017, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Α–≤―²–Ψ―Ä –¦–Β–≤ –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Κ–Η–Ϋ βÄ™ –Η –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Β–Κ–Α –¥–Μ–Η―²―¹―èβÄΠ
2017-2018, ¬Ϊ–ü–Α–Φ―è―²–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Η¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ―Ä –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ω–Ψ –Φ–Η―Ä―É –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι¬Μ, ―¹―²–Ψ –Μ–Β―² –Η –¥–Α–Μ–Β–Β;
2018-2019, ¬Ϊ–£–Β–Ϋ–Β–¥–Η–Κ―² –ï―Ä–Ψ―³–Β–Β–≤¬Μ, 50 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥;
2019-2020, ¬Ϊ–ß–Β―Ä―²―ë–Ε –ù―¨―é―²–Ψ–Ϋ–Α¬Μ βÄ™ ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Α–≤―²–Ψ―Ä –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―ÖβÄΠ¬Μ.
–£ 2021 –≥–Ψ–¥―É –≤―¹–Β―Ö –Ω–Β―Ä–Β―â–Β–≥–Ψ–Μ―è–Μ –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―² –°–Ζ–Β―³–Ψ–≤–Η―΅, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Α–Ε –Ϋ–Α –¥–≤–Α –≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥.
–ê –£–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Κ–Η–Ϋ―É –≤ 2013 –≥–Ψ–¥―É –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –Ε―é―Ä–Η –Ω―Ä–Η―¹―É–¥–Η–Μ–Η –Μ–Α–≤―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –≤–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ζ–Α ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ ―¹ –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–Ε ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –±―΄–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η. –‰ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ!..¬†
–½–Μ–Ψ–Ω―΄―Ö–Α―²–Β–Μ–Η –Η –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –™–Ψ–≥–Ψ–Μ―è, –î–Ψ―¹―²–Ψ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ß–Β―Ö–Ψ–≤–Α, –ë―É–Μ–≥–Α–Κ–Ψ–≤–Α, –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α βÄ™ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Η, –Φ–Ψ–Μ, –Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Η―¹–Α–Μ–Η! –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Ζ―΄―¹–Κ―É–Β―² –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η!..
–ù–Ψ –Φ―΄ –≤ –Ψ―²–≤–Β―² –Ω―Ä–Η–Ω–Β―΅–Α―²–Α–Β–Φ ¬Ϊ–£–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ¬Μ –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ, –¦―¨–≤–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Η―΅–Α, –Η ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–≤―à–Η–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΄ –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ: –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –€–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Η–±–Η―Ä―¨¬Μ, –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η–Ι –ö–Ψ–Ω―²–Β–Μ–Ψ–≤ βÄ™ ¬Ϊ–Δ–Ψ―΅–Κ–Α –Ψ–Ω–Ψ―Ä―΄¬Μ, –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –½–Α–Κ―Ä―É―²–Κ–Η–Ϋ βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Η―Ä–Α¬Μ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ß–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι βÄ™ ¬Ϊ–ë–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ü–Ψ–±–Β–¥–Α¬Μ.¬†
–£–Ψ―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β¬Μ. –ù–Ψ –ß–Α–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Β―â―ë ¬Ϊ–¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Κ–Η¬Μ, –±―΄–Μ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ; –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Ψ ―΅―ë–Φ –Ω–Η―¹–Α–Μ. –î–Α –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–Ε–Β.
–ù–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ―Ä–Β, ―¹–Μ–Α–≤–Α –±–Ψ–≥―É, ―ç–Ω–Ψ―Ö–Α –Ω–Ψ―¹―²–Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α, –Α –Ϋ–Β ―É–Ϋ―΄–Μ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Α–Κ―²―É―Ä―΄ –Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è. –ê ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ βÄ™ –Ψ–Ω―΄―² ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Ψ–≤ ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ü―É―²―¨, –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α: ¬Ϊ–Ξ–Ψ–¥–Η―²―¨ –±―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Κ–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Α–Φ–Β―à–Κ–Α–Φ –Η–Ϋ―΄–Φ / –‰―²–Α–Κ, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, –Φ―΄ –Μ―É―΅―à–Β ―É–Φ–Ψ–Μ―΅–Η–Φ¬Μ.¬†
–ü–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ –Ε–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –€.–ê. –½–Α–Φ―à–Β–≤―É –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –ü―Ä–Β–Φ–Η–Ι, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö, –Α –Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö.