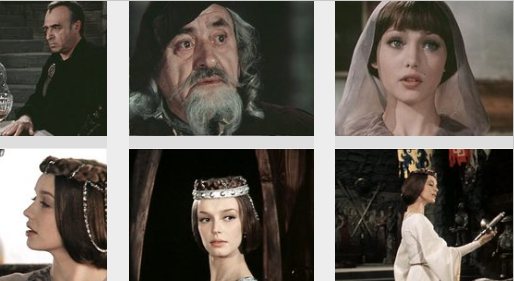«У чуда синие глаза…»
«У чуда синие глаза…»

–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä—Ç –≠–¥–∏—Ç –ü–∏–∞—Ñ
Она стояла на сцене –
–ù–µ–≤–∑—Ä–∞—á–Ω–∞—è –∏ –±–æ–ª—å–Ω–∞—è,
–°—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ —Å–ø–∏—á–µ—á–Ω—ã—Ö –Ω–æ–∂–∫–∞—Ö,
–ö–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –µ–ª–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏
–ï—ë –Ω–µ–≤–µ—Å–æ–º–æ–µ —Ç–µ–ª–æ.
¬´–í–ø–µ—Ä—ë–¥, –ü–∏–∞—Ñ!
Мы с тобой, наш любимый воробушек»,
–°–∫–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –∑–∞–ª.
–ï–π –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã—Ç—å —Å–∏–ª—å–Ω–æ–π,
–ï–π –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã—Ç—å –ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–π,
–ß—Ç–æ–±—ã –∫–∞–∂–¥–æ–º—É –∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—é –≤ –∑–∞–ª–µ
–î–æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≥–æ—Ä—Å—Ç—å –µ—ë –Ω–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–ü–µ—Å–Ω—è —Ö–ª—ã–Ω—É–ª–∞ –≥–æ—Ä–ª–æ–º,
–ü–µ—Å–Ω—è —Ö–ª—ã–Ω—É–ª–∞ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ö—Ä–∏–ø–æ–º,
–ü–µ—Å–Ω—è —Ö–ª—ã–Ω—É–ª–∞ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∂–∏–∑–Ω—å—é;
–°–∏–ª—ã –∫–∞–∫-—Ç–æ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –∏—Å—Å—è–∫–ª–∏.
Все её предали, все –
–ì–æ–ª–æ—Å –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –∏—Å—á–µ–∑,
–ó–∞–ø—Ä–æ–ø–∞—Å—Ç–∏–ª—Å—è –∫—É–¥–∞-—Ç–æ,
–ê—Ö, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∫—Å—Ç–∞—Ç–∏!
–£–∂ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ-—Ç–æ –æ–Ω–∞
–ù–µ –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∞ —Ç–∞–∫–æ–π –ø–æ–¥–ª—è–Ω–∫–∏.
–Ý—É–∫–∏ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ –∏ –º–µ–ª–∫–æ –¥—Ä–æ–∂–∞–ª–∏;
–ï—ë –Ω–µ–≤–µ—Å–æ–º–æ–µ —Ç–µ–ª–æ
–ë—ã–ª–æ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —Ç—è–∂—ë–ª–æ—é –Ω–æ—à–µ–π
–î–ª—è —Ç–æ–Ω—é—Å–µ–Ω—å–∫–∏—Ö –Ω–æ–≥.
Даже печень – и та предала,
–í—ã—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –Ω–∞ –≤—Å–µ–æ–±—â–µ–µ –æ–±–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ
–ñ–µ–ª—Ç—É—à–Ω—É—é –±–ª–µ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å –µ—ë –ª–∏—Ü–∞.
Она стояла на сцене –
–ú–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –∏ –±–µ–∑–∑–∞—â–∏—Ç–Ω–∞—è.
–û–Ω–∞ –≤—ã–Ω–µ—Å–ª–∞ –∫ –ª—é–¥—è–º
–°–≤–æ–π –∑–∞–∫–∞—Ç, —Å–≤–æ—é –±–æ–ª—å, —Å–≤–æ—é –æ—Å–µ–Ω—å.
–û–Ω–∞ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ —Å—Ü–µ–Ω–µ
–ò –ø–µ–ª–∞ –æ —Ä–æ–∑–æ–≤–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏.
–û –ø—Ä–æ–π–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–Ω—è—Ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–ª–∞,
–ü—Ä–æ—â–∞–ª–∞—Å—å —Å–æ —Å—Ü–µ–Ω–æ–π, –Ω–æ –ø–µ–ª–∞,
–ß—Ç–æ –Ω–∏ –æ —á—ë–º –Ω–µ –∂–∞–ª–µ–ª–∞;
–û–Ω–∞ –≤—Å—ë –∑–∞–±—ã–ª–∞, –∑–∞–±—ã–ª–∞,
–í—Å—ë –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª–∞, –Ω–æ –ø–µ–ª–∞,
Что ничего не забыла…
¬Ý
–ú–æ–Ω–æ–ª–æ–≥ –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∏–æ –°–∞–ª—å–µ—Ä–∏
–í—Å—ë –ú–æ—Ü–∞—Ä—Ç—É. –í—Å—ë –ú–æ—Ü–∞—Ä—Ç—É. –ê –º–Ω–µ?
–ö–æ—Ä–ø–µ—Ç—å –Ω–∞–¥ –∫–∞–∂–¥–æ–π –Ω–æ—Ç–æ–π –∏ —Å–æ–Ω–∞—Ç–æ–π?
–í—ã–º—É—á–∏–≤–∞—Ç—å —Å–æ–∑–≤—É—á—å—è –≤ —Ç–∏—à–∏–Ω–µ?
–ò –∏–∑–Ω—ã–≤–∞—Ç—å –∏–∑-–∑–∞ –±–æ–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞—Ç—ã?
Всё Моцарту. А мне – лишь тяжкий труд.
–ó–∞ –º—É–∑—ã–∫–æ–π –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å —Å–≤–æ—é –ø—Ä–æ—Ñ—É–∫–∞–ª.
–ù–æ –≤—Å–µ –º–æ–∏ —Ç—Ä—É–¥—ã —Å–æ –º–Ω–æ–π —É–º—Ä—É—Ç.
Я – пленник нот. А он – властитель звуков.
–ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ–Ω —Å–≥–æ—Ä–∞–µ—Ç, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ—á–∞
–ù–µ –¥–æ—Ä–æ–∂–∏—Ç —Å–æ–±–æ–π, —Å–≤–æ–∏–º –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å–µ–º.
–û–Ω –ë–æ–∂–∏–π –¥–∞—Ä —Ä–∞—Å–ø–ª–µ—â–µ—Ç —Å–≥–æ—Ä—è—á–∞,
–î–∞—Ä –≤—ã–π–¥–µ—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ—Ä–ª–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∫—Ä–æ–≤—å—é.
–ò —á—Ç–æ –º–Ω–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å? –°–¥–∞—Ç—å—Å—è –±–µ–∑ –±–æ—Ä—å–±—ã?
–í–µ–¥—å —è –∂–µ –ª—É—á—à–∏–π –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä—Ç–º–µ–π—Å—Ç–µ—Ä. –ü–µ—Ä–≤—ã–π.
–°–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ—Ç –±–∞–ª–æ–≤–µ–Ω—å —Å—É–¥—å–±—ã
–®—É—Ç—è, —à—Ç–∞–º–ø—É–µ—Ç –Ω–æ–≤—ã–µ —à–µ–¥–µ–≤—Ä—ã?
–ê –º—É–∑—ã–∫–∞ –µ–≥–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–∞ –≥—Ä–µ—Ç—å.
–û–Ω–∞ –ª—É—á–∏—Ç—Å—è. –í—Å—ë –≤ –æ–∫—Ä—É–≥–µ –º–µ—Ä–∫–Ω–µ—Ç.
–û, –ë–æ–∂–µ! –ë–æ–∂–µ! –õ—É—á—à–µ —É–º–µ—Ä–µ—Ç—å,
–ß–µ–º –ø—Ä–∏–º–∏—Ä–∏—Ç—å—Å—è —Å —Ç–µ–º, —á—Ç–æ —è –Ω–∏–∑–≤–µ—Ä–≥–Ω—É—Ç.
–ù–∏–∑–≤–µ—Ä–≥–Ω—É—Ç? –ö–µ–º? –ó–∞—Ä–≤–∞–≤—à–∏–º—Å—è —é–Ω—Ü–æ–º?
–ú–µ–Ω—è –ø–æ–¥–∫–æ—Å–∏—Ç —ç—Ç–æ, –∫–∞–∫ –∏–∑–º–µ–Ω–∞.
–Ø –±—ã–ª –µ–º—É –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–Ω–∏–∫–æ–º, –æ—Ç—Ü–æ–º.
–û–Ω –≥–µ–Ω–∏–π –∏ –¥—É—Ä–∞–∫ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ.
–ö–∞–∫ –º–Ω–µ –≥–æ—Ä–¥—ã–Ω—é —É—Å–º–∏—Ä–∏—Ç—å —Å–≤–æ—é?
–û–Ω–∞ –¥–∞–≤–Ω–æ –º–Ω–µ –¥—É—à—É —Ä–∞—Å—Ç—Ä–∞–≤–∏–ª–∞.
–ï–≥–æ –∑–∞—Å–ª—É–≥–∏ —á–µ—Å—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—é,
Но ведь и я – не муха-дрозофила.
–ö–ª—è–Ω—É—Å—å, –Ω–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—é –µ–º—É –≤—Ä–µ–¥–∞,
–•–æ—Ç—è –≤–æ —Å–Ω–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –º–Ω–µ —ç—Ç–æ —Å–Ω–∏—Ç—Å—è.
–¢–æ, —á—Ç–æ –µ–º—É –¥–∞—ë—Ç—Å—è –±–µ–∑ —Ç—Ä—É–¥–∞,
–ú–µ–Ω—è –∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Ä–æ–∂–µ–Ω–∏—Ü—É.
Он – выскочка, фрондёр и баламут.
–ì–¥–µ –æ–Ω –±–µ—Ä—ë—Ç –≤–æ–ª—à–µ–±–Ω—ã–µ —Å–æ–∑–≤—É—á—å—è?
От музыки его – в душе уют.
–ü–æ—à–ª–∏ –µ–º—É, –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å, –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á—å–µ.
–ö–∞–∫–∞—è –ª–µ–≥–∫–æ–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≤–æ –≤—Å—ë–º!
–ò –±–µ–∑–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å. –¶–∏—Ä–∫–∞—á –±–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–π!
А в музыке – воздушен, невесом.
–î–∞, –æ–Ω –¥—É—Ä–∞–∫. –î—É—Ä–∞–∫, —Ö–æ—Ç—è –∏ –≥–µ–Ω–∏–π.
–ö–∞–∫ –º–Ω–µ –µ–≥–æ —Å–ø–∞—Å—Ç–∏? –ò —á–µ–º –ø–æ–º–æ—á—å?
–ö–∞–∫ –ø–æ–º–µ—à–∞—Ç—å –µ–≥–æ —Å–∞–º–æ—Å–æ–∂–∂–µ–Ω—å—é?
Смерть любит гениев. И ей не скажешь: «Прочь!».
–ü—Ä–æ—â–∞–π, –º–æ–π –¥—Ä—É–≥. –ü—Ä–æ—â–∞–π, –¥—É—Ä–∞–∫ –∏ –≥–µ–Ω–∏–π.
¬Ý
***
–ï–≤—Ä–æ–ø–∞ —Ç–æ–ª–µ—Ä–∞–Ω—Ç–Ω–∞ –∫ –∏–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω—Ü–∞–º,
–ì–æ–º–æ—Å–µ–∫—Å—É–∞–ª–∏—Å—Ç–∞–º –≤—Å–µ—Ö –º–∞—Å—Ç–µ–π.
–ï–π –Ω–µ –≤–ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤—ã–∫–∏–¥—ã–≤–∞—Ç—å –∫–æ–ª–µ–Ω—Ü–∞
–ü—Å–µ–≤–¥–æ–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–≤–æ–µ–π.
–û–Ω–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –¥–æ–±—Ä–µ–Ω—å–∫–∞—è —Å –≤–∏–¥—É,
Так мягко стелет – только жёстко спать.
Кузнечика – и то не даст в обиду.
Кузнечикам в Европе – благодать.
–°—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∞ –≥–µ–µ–≤ –±–∞–ª—É–µ—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω—å–µ–º.
–ì–æ—Ç–æ–≤–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º–∏ —Å—Ç–ª–∞—Ç—å –∫–æ–≤—Ä—ã.
–ö–∏–≤–∞–µ—Ç –≥–æ–ª–æ–≤–æ—é —Å –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω—å–µ–º:
Они – другие, будьте к ним добры…
–ò–º –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –¥—É—Ç—å –≤ —Ñ–∞–Ω—Ñ–∞—Ä—ã,
–£—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å –ø–∞—Ä–∞–¥—ã-–¥–µ—Ñ–∏–ª–µ,
В литавры бить, чинить скандалы, свары, –
–°–æ–±–∞–∫—É —Å—ä–µ–ª–∏ –≤ —ç—Ç–æ–º —Ä–µ–º–µ—Å–ª–µ.
–ê—Ö, –∏–º –±—ã –Ω–µ –≤—ã—Å–æ–≤—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤—Å—é–¥—É,
–ë—ã—Ç—å –Ω–∏–∂–µ, —Ç–∏—à–µ, —á–µ–º —Ç—Ä–∞–≤–∞, –≤–æ–¥–∞,
Но нет – им нужно шумно бить посуду,
Быть на виду – везде, сейчас, всегда.
–ò–º –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –≤—ã–∑–æ–≤
Другим, «традиционным», напоказ.
Европа – щит, и голос свой возвысив,
Кричит: «У них – права». А что у нас?
Понять Европу – дело не простое.
–ö–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π —É –Ω–µ—ë –∞—Ä—à–∏–Ω.
–ö–∞–∑–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–º–∏ —É—Å—Ç–æ–∏
–¢—Ä–µ—â–∞—Ç –ø–æ —à–≤–∞–º, –∫–∞–∫ —Ç–æ–Ω–∫–∏–π –∫—Ä–µ–ø–¥–µ—à–∏–Ω.
¬Ý
–Ø –≤–æ—Å—Ö–∏—â–∞—é—Å—å —Å—Ç–∞—Ä–æ–π –≥–æ—Å–ø–æ–∂–æ—é,
–ì–æ—Ç–æ–≤–æ—é –≤–æ–∑–≥–ª–∞–≤–∏—Ç—å –≥–µ–π-–ø–∞—Ä–∞–¥.
–ù–æ —è –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞—é –±—ã—Ç—å —Ö–∞–Ω–∂–æ—é.
Да, я – неисправимый азиат.
¬Ý
***
¬´–ö–æ–≥–¥–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –æ –Ø–ø–æ–Ω–∏–∏,
–ú–Ω–µ –Ω–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—è—Ç
–ë–∞—Å—ë, –ö–æ–±–æ –ê–±–µ, –ê–∫—É—Ç–∞–≥–∞–≤–∞ –Ý—é–Ω–æ—Å–∫–µ¬ª, ‚Äì
–°–∫–∞–∑–∞–ª —è.
«А для меня Япония – это “Тойота”, “Ниссан”,
“Мицубиси”, “Судзуки” и “Лексус”, –
–ü–æ–¥–º–∏–≥–Ω—É–≤ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏–º,
«срезал» меня какой-то олигарх.
–ò, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ –∑–∞–±—ã–ª –∑–∞—Ä–∂–∞—Ç—å.
–≠—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –≤–∞–∂–Ω–∞—è –∞—Ç—Ä–∏–±—É—Ç–∏–∫–∞
–ï–≥–æ —Å–∞–º–æ–≤–ª—é–±–ª—ë–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏,
–ö–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–Ω, –∫–∞–∫ —Ñ–∏–≥–æ–≤—ã–º –ª–∏—Å—Ç–æ–º,
–ü—ã—Ç–∞–µ—Ç—Å—è —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç—å
–£–±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è.
¬Ý
***
–ë—Ä–æ—Å–∏–ª –∏–≥–æ–ª–∫—É –≤ —Å—Ç–æ–≥ —Å–µ–Ω–∞
–ò —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –≤–æ—Ç –≤–µ—Å—å –¥–µ–Ω—å –Ω–∞–ø—Ä–æ–ª—ë—Ç
–∏—â—É –µ—ë.
Что значит – для чего её забросил?
–•–æ—Ç—è –±—ã –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–± –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–º –ø—É—Ç—ë–º
–ù–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º, —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –≥–æ—Ä—å–∫–æ–º –æ–ø—ã—Ç–µ,
–ü–æ–º—É—á–∞–≤—à–∏—Å—å –∏–∑—Ä—è–¥–Ω–æ, —É–±–µ–¥–∏—Ç—å—Å—è,
Что найти её – гиблое дело…
¬Ý
***
–í–ø–æ—Ä—Ö–Ω—É–ª–∞ –ø–µ—Å–Ω–µ—é –∑–∞–ª—ë—Ç–Ω–æ–π
–ò –¥–æ-–æ-–ª–≥–æ —Å—Ç—Ä—è—Ö–∏–≤–∞–ª–∞ —Å–Ω–µ–≥
–° –≤–µ—Å—ë–ª–æ–π —à–∞–ø–æ—á–∫–∏ –∑–µ–ª—ë–Ω–æ–π.
У шапочки – зелёный смех.
Затем привычно и державно –
Как пережить мне миг такой! –
–í –ø–æ—Å–ª—É—à–Ω–æ–π –ø—Ä—è–¥–∏ –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∞—Å—å
–°–≤–æ–µ–π –≤–æ–ª—à–µ–±–Ω–æ—é —Ä—É–∫–æ–π.
–ò —è –≤—Å—ë —Å–∏–ª—é—Å—å —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –º–æ—á–∏,
–ß—Ç–æ–± –Ω–µ —Å–æ–π—Ç–∏ —Å —É–º–∞, –∫–æ–≥–¥–∞
–°–µ—Ä—ë–∂–∫–æ–π –∑–≤–æ–Ω–∫–æ—é –Ω–∞ –º–æ—á–∫–µ
–ò—Å–∫—Ä–∏—Ç—Å—è –∫–∞–ø–µ–ª—å–∫–∞-–∑–≤–µ–∑–¥–∞.
–í–ª–µ—Ç–∞–π –∂–µ, –∑–∏–º–Ω—è—è –ø–∏—á—É–≥–∞!
С тобой – цветные голоса.
Ты – тополиный пух, ты – чудо.
У чуда – синие глаза...
¬Ý
–ß—É–∂–µ–∑–µ–º–µ—Ü
‚Ķ–ê –º–∞—à–∏–Ω—ã¬Ý
–Ý–≤–∞–Ω—É–ª–∏,
–ö–∞–∫ –≥–æ–Ω—á–∏–µ –ø—Å—ã, -
–°–≤–µ—Ç–æ—Ñ–æ—Ä
–ò –º–æ—Ä–≥–Ω—É—Ç—å –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª.
–í —ç—Ç–æ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –Ω–µ—Ç
–ù–∏ —Ç—Ä–∞–≤—ã, –Ω–∏ —Ä–æ—Å—ã, -
–ü–∞—Ö–Ω–µ—Ç —Ä–∂–∞–≤–æ—é –∂–µ—Å—Ç—å—é
–ö–∞–ø–µ–ª—å.
–ó–¥–µ—Å—å –≤—Å–µ –Ω–æ—á–∏ ‚Äì¬Ý
–í –Ω–µ–æ–Ω–∞—Ö,¬Ý
–ó–¥–µ—Å—å –≤–µ—Ç–µ—Ä —É–ø—Ä—É–≥,
–ë–µ–≥–æ—Ç–Ω—è ‚Äì¬Ý
–° –Ω–µ–∑–∞–ø–∞–º—è—Ç–Ω—ã—Ö –ø–æ—Ä;
–¢–æ–ª—å–∫–æ –º–∞–º–æ–Ω—Ç—ã –∑–¥–∞–Ω–∏–π
Пасутся вокруг, –
–û–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã–µ,
–ù–∞ –ø–æ–¥–±–æ—Ä.
Здесь рассвет –
–ù–µ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç,
–ó–¥–µ—Å—å –∑–∞–∫–∞—Ç ‚Äì¬Ý
–ù–µ –∑–∞–∫–∞—Ç,¬Ý
–í—Å–µ –Ω–∞–ø–∏—á–∫–∞–Ω–æ –∑–¥–µ—Å—å
–°—É–µ—Ç–æ–π;
–í—Å–µ –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –±–µ–≥—É—Ç,
Все куда-то спешат, –
В этой спешке –
–ë–æ–ª–æ—Ç–Ω—ã–π –∑–∞—Å—Ç–æ–π.
–ù–µ—Å—É—Å–≤–µ—Ç–Ω–∞—è —á—É—à—å:
–í–∑–±–µ–ª–µ–Ω–∏–ª–∏—Å—å —á–∞—Å—ã.¬Ý
–¶–∏—Ñ–µ—Ä–±–ª–∞—Ç
–ü–æ–¥–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–µ–ª.
…А машины рванули,
–ö–∞–∫ –≥–æ–Ω—á–∏–µ –ø—Å—ã, -
–°–≤–µ—Ç–æ—Ñ–æ—Ä
–ò –º–æ—Ä–≥–Ω—É—Ç—å¬Ý
–ù–µ —É—Å–ø–µ–ª.
¬Ý
–ü—Ä–æ—Ä–æ—á–∏—Ü–∞ –í–∞–Ω–≥–∞
–ü—Ä–æ—Ä–æ—á–∏—Ü–∞ –í–∞–Ω–≥–∞,
–¢—ã –ë–æ–∂—å–∏–º —Å–æ—Å—É–¥–æ–º –±—ã–ª–∞;
–¢–µ–±–µ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–∞–∫–æ–µ,
–ß—Ç–æ –Ω–∞–º –∏ –Ω–µ —Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å.
–¢—ã –≤–∏–¥–µ–ª–∞, –≤–µ–¥–∞–ª–∞
–ë–æ–∂—å–∏ –ø—É—Ç–∏ –∏ –¥–µ–ª–∞,
–°–≤–æ–∏ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω—å—è
–¢—ã –Ω–∞–º —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∞, –∫–∞–∫ –º–∏–ª–æ—Å—Ç—å.
–°–ª–µ–ø–∞—è –≤–µ—â—É–Ω—å—è,
–¢—ã –≤–∏–¥–µ–ª–∞ –∑—Ä–µ–Ω—å–µ–º –¥—É—à–∏,
–ò —Å—É–¥—å–±—ã –ª—é–¥—Å–∫–∏–µ
–õ–∏—Å—Ç–∞–ª–∞, —á–∏—Ç–∞–ª–∞, –∫–∞–∫ –∫–Ω–∏–≥—É.
–ë–µ–∑–¥—É—à–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏
–î—É—à–∏–ª–∏ –º–µ—á—Ç—É –∑–∞ –≥—Ä–æ—à–∏,
–î–æ–≤–æ–ª—å–Ω—ã–µ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –∏–º–µ—é—Ç,
–ò —Å—ã—Ç–Ω–æ–π –∫–æ–≤—Ä–∏–≥–æ–π.
–ü—Ä–æ—Ä–æ—á–∏—Ü–∞ –í–∞–Ω–≥–∞,
–¢—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª–∞ –ì–æ–ª–æ—Å –¢–≤–æ—Ä—Ü–∞,
–°–≤—è–∑–Ω–æ—é –±—ã–ª–∞
–ú–µ–∂–¥—É –≥—Ä–µ—à–Ω–æ–π –∑–µ–º–ª–µ—é –∏ –Ω–µ–±–æ–º;
–ö–∞–∫ –æ–∫–Ω–∞ –∏ –¥–≤–µ—Ä–∏,
–¢—ã –≤—Å–µ–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞,
–ò –¥–∞–∂–µ –æ—Ç—Ä–µ–±—å—é
–í –Ω–µ–ª–µ–ø–æ–º, —Å–≤–∏—Ä–µ–ø–æ–º –≤–µ—Ä—Ç–µ–ø–µ.
–ü–æ—Å–ª–∞–Ω–Ω–∏—Ü–∞ –Ω–µ–±–∞,
–¢—ã —Ö–ª–µ–±–æ–º –Ω–∞—Å—É—â–Ω—ã–º –±—ã–ª–∞.
–¢–µ–±–µ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è
–Ø–∑—ã–∫ –º–∏—Ä–æ–∑–¥–∞–Ω—å—è –∏ –±–µ–∑–¥–Ω—ã.
Вчера, и сегодня, и завтра –
–ö–∞–∫ —Å–∞–∂–∞ –±–µ–ª–∞;
–ß—É–¥–µ—Å–Ω–∞ –Ω–µ–±–µ—Å–Ω–∞—è –ø–µ—Å–Ω—è,
–ú–æ–ª—á–∏—Ç –∏ –∑–≤—É—á–∏—Ç –ø–æ–≤—Å–µ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ.¬Ý
¬Ý
–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫: –ù–∏–Ω–æ –ß–∞–∫–≤–µ—Ç–∞–¥–∑–µ.