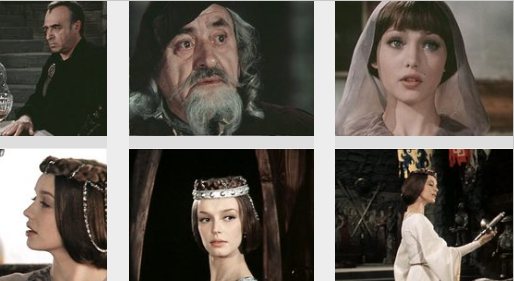«Да, поистине свято цветение…»
«Да, поистине свято цветение…»

–ü–µ—Ä–µ–≤–æ–¥ —Å –ª–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –ê–ª–µ–π–Ω–∏–∫–æ–≤–∞
I.¬Ý–û–¥–∞ —Ä—è–±–∏–Ω–æ–≤–æ–π –∫—Ä–æ–≤–∏
–°–ª–∞–≤–æ—Å–ª–æ–≤—å—è –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–ª–æ–≥–∏¬Ý
–≤–∞—à–µ–π –∫—Ä–æ–≤–∏ –≥–æ—Ä—è—á–∏–º–∏ –∫–∞–ø–ª—è–º–∏¬Ý
–≤ —ç—Ç—É –æ–¥—É —Å –≤—ã—Å–æ—Ç —É–ø–∞–¥—É—Ç;¬Ý
–≤–∞—à–∏ –≥—Ä–æ–∑–¥—å—è ‚Äì –º–æ–Ω–∏—Å—Ç–∞ –±–∞–≥—Ä—è–Ω—ã–µ ‚Äì¬Ý
–æ–±–æ–∂–≥—É—Ç, –ø—Ä–æ–±—É–¥—è—Ç, —Ä–∞—Å—Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–∞—ǬÝ
—Ü–µ–ª–æ–º—É–¥—Ä–µ–Ω–Ω–æ–π –¥–µ–≤—ã –≥—Ä—É–¥—å,¬Ý
–ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞–Ω–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ –∂–¥—É—â–µ–π¬Ý
–∫–∞–∫ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ.¬Ý
–í–µ—Ç—Ä—ã –°–µ–≤–µ—Ä–∞ –∫—Ä–æ–Ω–∞–º –≤–∞—à–∏–º¬Ý
–¥–∏–∫–∏–π –∑–≤–æ–Ω –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—É—Ç –∏–∑–¥–∞–ª—ë–∫–∞,¬Ý
—á—Ç–æ, –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ –∑–∞–∫–∞—Ç–Ω–æ–º—É –∑–∞—Ä–µ–≤—É,¬Ý
–¥–æ –∑–∞—Ä–∏ –≤ –Ω–∞—à–∏—Ö –≤–∑–æ—Ä–∞—Ö –±–ª—É–∂–¥–∞–µ—Ç...¬Ý
–û —Ä—è–±–∏–Ω—ã, –Ω–µ—É–∂—Ç–æ –≤—ã —Ä–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å¬Ý
–∏–∑ –±–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏—è?¬Ý
–î–∞, –ø–æ–∏—Å—Ç–∏–Ω–µ —Å–≤—è—Ç–æ —Ü–≤–µ—Ç–µ–Ω—å–µ¬Ý
–≤ –¥–Ω–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –≤–µ—Ç–≤—è—Ö –¥—Ä—É–∂–µ–ª—é–±–Ω—ã—Ö¬Ý
–∑–∞—â–µ–±–µ—á—É—Ç –≤–æ–≤—Å—é —Å–≤–∏—Ä–∏—Å—Ç–µ–ª–∏,¬Ý
–∫–∞–∫ –∏ –≤—ã, —Ä—É–º—è–Ω–æ-–ø–µ—Å—Ç—Ä—ã,¬Ý
–ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–≤—à–∏–µ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∫ –≤–∞–º¬Ý
–Ω–∞ –≤–µ—Å—ë–ª—ã–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–µ—Å—Ç–≤–∞ —Å–≤–∞–¥–µ–±;¬Ý
–∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ —É–ø–∞–¥–∞—é—Ç –≤–Ω–∏–∑¬Ý
–≤–∞—à–∏ —è–≥–æ–¥—ã –±—É–∫–≤–∞–º–∏ –∞–ª—ã–º–∏¬Ý
–∏ –Ω–∞ –ø–µ—Å–Ω–∏, –∏ –Ω–∞ –≤–∏–Ω–æ,¬Ý
—á—å—ë –±—Ä–æ–∂–µ–Ω—å–µ –ø—å—è–Ω–∏—Ç –ø–æ–≥—Ä–µ–±–∞, ‚Äì¬Ý
–∏–º —Ü—ã–≥–∞–Ω–∫–∏, –≤–µ–¥—É–Ω—å–∏ –ª—É–∫–∞–≤—ã–µ,¬Ý
–≥—Ä—É–¥—å –ø—Ä–æ–Ω–∑–∏–≤—à–µ–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã¬Ý
–ø–æ –≥–ª–æ—Ç–æ—á–∫—É —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è—Ç –Ω–∞ –≤—Å–µ—Ö¬Ý
–≤ —á–∞—Å –æ–±—Ä—è–¥–∞ —Å–ø–ª–µ—Ç–µ–Ω–∏—è —Ä—É–∫...¬Ý
–û —Ä—è–±–∏–Ω—ã, –Ω–µ—É–∂—Ç–æ –≤—ã —Ä–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å¬Ý
–∏–∑ —Ä–µ–∫–∏ —Å –∏–º–µ–Ω–∞–º–∏ –ª—é–±–≤–∏?¬Ý
–í–∞—à–∏ –∫–æ—Ä–Ω–∏ –∫–∞–∂–¥–æ—é –Ω–æ—á—å—é¬Ý
–≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å—è –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–æ–π –∂–∏–≤—ã,¬Ý
–∏–±–æ –Ω–∞–¥–æ –∫ —Ü–≤–µ—Ç–µ–Ω—å—é –≥—Ä—è–¥—É—â–µ–º—ɬÝ
—Ö–æ—Ç—å —É—Å—Ç–∞–º–∏ –≤–æ —Å–Ω–µ –¥–æ—Ç—è–Ω—É—Ç—å—Å—è¬Ý
–ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–∞–º—ã–º –∑–∞—Ç–º–µ–Ω—å–µ–º –æ—á–µ–π,¬Ý
—á—Ç–æ –æ–∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è —Å—Ç–æ–ª—å –∂–µ –º—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ-—è—Ä–∫–∏–º,¬Ý
–∫–∞–∫ –ª—é–±–æ–µ –∏–∑ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –Ω–∞—á–∞–ª,¬Ý
–∏–ª–∏, –º–æ–∂–µ—Ç, –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç —É–∂–µ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏–º, ‚Äì¬Ý
–æ—Ç–ø—ã–ª–∞–≤ –±–µ–∑–º–µ—Ä–Ω–æ—é —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç—å—é¬Ý
–∏ –∑–∞—Å—ã–ø–∞–Ω–∞ –ø–µ–ø–ª–æ–º —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–º,¬Ý
–Ω–∞—à–∞ –∫—Ä–æ–≤—å, —Å–≥—É—â–∞—è—Å—å, —Ç–≤–µ—Ä–¥–µ–µ—ǬÝ
–≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ–≤–∏–Ω–µ –¥—Ä–µ–≤–µ—Å–Ω—ã—Ö –∂–∏–ª.¬Ý
–û —Ä—è–±–∏–Ω—ã, —Å–º–æ–≥–ª–∏ –±—ã —Ä–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –≤—ã –≤–Ω–æ–≤—å¬Ý
–∏–∑ –ø–æ—é—â–µ–≥–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ –ª—é–¥—Å–∫–æ–≥–æ?
¬Ý
II.¬Ý–ü–æ–ª—É–Ω–æ—á–Ω—ã–π –±–ª—é–∑¬Ý
–Ý—É–∫–∏ —Ç–≤–æ–∏ –±–µ–ª—ã–µ –æ—Ç–Ω—ã–Ω–µ,¬Ý
—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∫–æ—Ä–Ω–∏ —Ä–µ–¥–∫–æ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–π,¬Ý
–±–µ—Ä–µ–≥–∞ —Ä–µ–∫–∏ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è—é—Ç ‚Äì¬Ý
–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç—å –∏ –≤–µ—á–Ω—É—é –ª—é–±–æ–≤—å;¬Ý
–ø—ã–ª—å–Ω–æ–π —Ç–∞–π–Ω–æ–π —è—â–∏–∫–æ–≤ –ø–æ—á—Ç–æ–≤—ã—Ö¬Ý
–¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –∂–∏–≤–∞ –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç–µ –º–æ–ª—å ‚Äì¬Ý
–ª—é–¥–∏ –∂–µ, –ø–æ —á—É–¥–µ—Å–∞–º —Ç–æ—Å–∫—É—è,¬Ý
–≤ —Ç—Ä–µ—Å–Ω—É–≤—à–∏—Ö –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç –∑–µ—Ä–∫–∞–ª–∞—Ö¬Ý
–æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω—å—è –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ª–∏—Ü —Å–≤–æ–∏—Ö,¬Ý
—Å–≤–µ—á–∏ –≤ –∏–∑—É–º–ª–µ–Ω–∏–∏ —Ä–æ–Ω—è—è,¬Ý
–∂–¥—É—Ç, –ø–æ–∫—É–¥–∞ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç—Å—è —Å–≤–µ—Ç,¬Ý
–≤—ã–≥–Ω–∞–Ω–Ω—ã–π –ø–æ—Ä–æ–≥–æ–º –≤ —â–µ–ª—å –¥–≤–µ—Ä–Ω—É—é¬Ý
–∏–ª—å —Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑—å —Å–∫–≤–∞–∂–∏–Ω—ã –∑–∞–º–æ—á–Ω–æ–π ‚Äì¬Ý
–∏, —Å–∏–Ω–æ–Ω–∏–º –∏–º–µ–Ω–∏ –ª—é–±–≤–∏,¬Ý
—Å—è–¥–µ—Ç –≤ –∫—Ä–µ—Å–ª–æ —Ä—è–¥–æ–º —Å —É—Ç–µ—à–µ–Ω—å–µ–º.¬Ý
–ó–∞–ø—Ä—É–¥–∏—Ç—å, –±—ã—Ç—å –º–æ–∂–µ—Ç, —Ä–µ–∫—É –º—ã—Å–ª–µ–π,¬Ý
–º–µ—á—É—â—É—é—Å—è –≤ –º–∏—Ä—Å–∫–æ–π –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–µ¬Ý
–≤ –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–∞,¬Ý
–æ—Å—É–¥–∏–≤—à–µ–≥–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã—Ö –∏ –¥—Ä—É–∑–µ–π;¬Ý
–æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞—Ç—å, –±—ã—Ç—å –º–æ–∂–µ—Ç, —Ç–µ–º–Ω–æ—ǗɬÝ
–∏ –ª—é–¥–µ–π, —á—Ç–æ –≤ –Ω–µ–π —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –¥—Ä–µ–º–ª—é—Ç,¬Ý
—Å —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–æ–º –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –ª–∏—à—å –≥–ª—è–¥–µ–≤—à–∏—Ö¬Ý
–≤ —â–µ–ª—å —á—É–∂–∏—Ö —Ä–∞—Å—à–∞—Ç–∞–Ω–Ω—ã—Ö –¥–≤–µ—Ä–µ–π,¬Ý
—á—Ç–æ –æ—Ç–≥–æ—Ä–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ –æ–≥–æ—Ä—á–µ–Ω—å–µ¬Ý
–æ—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ —É–∑—Ä–µ–ª–∏,¬Ý
—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π –∑—ã–±–∫–æ—é —Å—Ç–µ–Ω–æ—é¬Ý
–ø—Ä–µ–¥—Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–Ω–æ–≥–æ —Ç—É–º–∞–Ω–∞ ‚Äì —Å–Ω–∞,¬Ý
–∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω—å—é, —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–≤,¬Ý
–∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–¥ –∏–º–µ–Ω–µ–º –±–µ—Å—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω—ã–º –Ω–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω—è—Ö¬Ý
–æ–¥–∏–Ω–æ—á–µ—Å—Ç–≤–æ –¥–µ–∂—É—Ä–∏—Ç –∏—Ö.¬Ý
¬Ý
III
–ü–æ–¥ —É–ª—ã–±—á–∏–≤—ã–º –Ω–µ–±–æ—Å–≤–æ–¥–æ–º,¬Ý
—Å–≤–µ—Ä—Ö—É –≤–Ω–∏–∑ –≥–ª—è–¥—è—â–∏–º –Ω–∞ –Ω–∞—Å,¬Ý
—á–µ—Ä–µ–∑ –≤–µ—Å—å –∫–∞—Å–∫–∞–¥ –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å—è¬Ý
—Å –ø–µ—Å—Ç—Ä–æ—Ç–æ–π –µ–≥–æ –±–µ—Å–ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ–π,¬Ý
—Å –º–µ–ª—å—Ç–µ—à–µ–Ω—å–µ–º –ø–æ–ª–æ—Å –Ω–µ—Ä–æ–≤–Ω—ã—Ö ‚Äì¬Ý
–ª–∏–ª–æ–≤–∞—Ç—ã—Ö —Ç–µ–Ω–µ–π –∫–∏–ø–∞—Ä–∏—Å–æ–≤,¬Ý
–Ω–∞–ø—Ä—è–≥–∞—è—Å—å –≤–¥–≤–æ—ë–º —É–ø—Ä—è–º–æ,¬Ý
–ü–∞—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –ì—Ä–∏–Ω¬Ý
—Ç—è–Ω—É—Ç –¥–ª–∏–Ω–Ω—É—é, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∑–µ–º–Ω–∞—è —é–¥–æ–ª—å,¬Ý
–Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—Ä–∂–∞–≤–µ–≤—à—É—é,¬Ý
—Ç—è–∂–µ–ª–µ–Ω–Ω—É—é —è–∫–æ—Ä–Ω—É—é —Ü–µ–ø—å,¬Ý
–Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–∏—Ä–æ—Å—à–∏–º–∏ –≤–æ–¥–æ—Ä–æ—Å–ª—è–º–∏¬Ý
–∏–∑–ª—É—á–∞—é—Ç –≤–æ–ª—à–µ–±–Ω—ã–π —Å–≤–µ—ǬÝ
–º–æ—â—å –∏ –±–æ–ª—å –¥–æ–±—Ä–æ—Ç—ã —Å–µ—Ä–¥–µ—á–Ω–æ–π,¬Ý
–ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –≤–æ–ª–∏ –ª—é–¥—Å–∫–æ–π,¬Ý
–¥–≤–µ —Å–µ—Å—Ç—Ä–∏—Ü—ã ‚Äì –ª—é–±–æ–≤—å –∏ –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å,¬Ý
–∫—Ä–∞—Å–æ–∫ —Å–∞–º—ã—Ö –Ω–µ–æ–±—ã—á–∞–π–Ω—ã—Ö¬Ý
–∏—Å—Ü–µ–ª—è—é—â–∏–π –≥–µ–º–æ–≥–ª–æ–±–∏–Ω¬Ý
—á–µ—Ä–µ–∑ –¥—É—à–∏ –Ω–∞—à–∏ –º–µ–ª—å—á–∞—é—â–∏–µ¬Ý
—Å –≥—Ä—É–±–æ–≤–∞—Ç–æ—Å—Ç—å—é –Ω–µ—É–∫–ª—é–∂–µ–π¬Ý
(–æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—è –≥—Ä–æ—Ç –ø–æ—Ç–∞–π–Ω–æ–π,¬Ý
–≤–Ω—É—Ç—Ä—å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –ª—É—á –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫,¬Ý
–∑–∞–º—É—Ç–∏–≤ –Ω–∞–∏–≤–Ω–æ –∏ —Å–º–µ–ª–æ¬Ý
–Ω—É–ª–µ–≤—ã–µ –≥–ª—É–±–∏–Ω—ã –∏—Ö,¬Ý
–Ω–µ —Ä—É–≥–∞—è —Ñ–∞–∑ –º–æ–Ω–æ—Ç–æ–Ω–Ω—ã—Ö¬Ý
–ª–∏—Ü–µ–º–µ—Ä–Ω–æ–π –ª–µ—Ç–Ω–µ–π –ª—É–Ω—ã,¬Ý
–ø–µ—Ä–µ—à–∞–≥–∏–≤–∞—è —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ,¬Ý
–≤–Ω–æ–≤—å –∏ –≤–Ω–æ–≤—å, —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å —á–µ—Ä—Ç—ã¬Ý
–Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏–ª–∏–≤–æ–≤, –æ—Ç–ª–∏–≤–æ–≤,¬Ý
–Ω–µ—É–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ —Å–º–µ—Ç–∞—è –Ω–∞–∑–∞–¥¬Ý
–≤ –ø–æ–ª—É—Ç—ë–º–Ω—ã–π –∑–∞–∫—É—Ç –ª–∞–≥—É–Ω—ã¬Ý
–∞–ø–µ–ª—å—Å–∏–Ω–æ–≤—É—é –∫–æ–∂—É—Ä—É,¬Ý
—Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç–Ω—ã—Ö –æ–∫—É—Ä–∫–æ–≤ –≥—Ä—É–¥—ã,¬Ý
–∏–∑-–ø–æ–¥ —Ä–∏—Å–ª–∏–Ω–≥–∞ —Å—Ç–µ–∫–ª–æ—Ç–∞—Ä—É ‚Äì¬Ý
—Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω—å–µ –ø—É—Å—Ç—ã—Ö –±—É—Ç—ã–ª–æ–∫,¬Ý
–∏–∑ –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ –æ–±–≥–æ—Ä–µ–ª—ã–π —Ö–≤–æ—Ä–æ—Å—Ç,¬Ý
–Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Å—É–¥–æ–≤ –æ–±–ª–æ–º–∫–∏,¬Ý
–ø–∏—Ä–∞–º–∏–¥—ã —è—â–∏–∫–æ–≤ –ª—ë–≥–∫–∏—Ö¬Ý
–∏ —Å–ª–µ–¥—ã ‚Äì –º–æ–∏ –∏ —Ç–≤–æ–∏,¬Ý
—á—Ç–æ–±—ã –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥ –∑–∞–≤–µ—Ç–Ω—ã–π,¬Ý
–∫–∞–∫ –∏ –≤—Å—Ç–∞—Ä—å, –º–æ–≥–ª–∏ –±—ã —Å–æ–π—Ç–∏¬Ý
—Å –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –®–º–∏–¥—ǬÝ
–∏–ª–∏ –ì—Ä–µ–π –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ—Ä–µ–∞–ª—å–Ω—ã–π¬Ý
—Å–æ —Å–≤–æ–µ—é —Ç–≤—ë—Ä–¥–æ—é –≤–µ—Ä–æ–π¬Ý
–∏ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–æ–π –≤—Å–µ—é —Å–≤–æ–µ–π), ‚Äì¬Ý
–Ω–æ –æ–Ω–∏ —É–∂–µ —É—Å—Ç–∞—é—ǬÝ
–∏ –ø–µ—Å–∫–æ–º –∑–∞—Ä–∞—Å—Ç–∞—é—Ç —Ç–∏—Ö–æ...¬Ý
¬´–ö—Ç–æ –ø–æ—Ç—è–Ω–µ—Ç –¥–∞–ª—å—à–µ –µ—ë?¬ª ‚Äì¬Ý
–≥—Ä—É—Å—Ç–Ω–æ –¥—É–º–∞–µ—Ç —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –≥—Ä–µ–∫,¬Ý
–Ω–∞ —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç–æ–º —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ–º –ø–µ—Å–∫–µ¬Ý
–ø–æ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏ –∂–∞—Ä—è—â–∏–π —Å–∫—É–º–±—Ä–∏—é ‚Äì¬Ý
—Ç—É, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–∫—Ä–∞–¥—ë—Ç,¬Ý
—Ä–∞–≤–Ω–æ–¥—É—à–Ω–∞, –º–µ–ª–∞–Ω—Ö–æ–ª–∏—á–Ω–∞,¬Ý
–¥–æ–∫–∞—Ç–∏–≤—à–∞—è—Å—è –ø–æ —Å–ª–µ–¥—ɬÝ
—Å—Ç–∞—Ä–æ–º–æ–¥–Ω–æ–π —Ä—ã–±–∞—Ü–∫–æ–π —à–∞–ª–∞–Ω–¥—ã¬Ý
–∏ –±—É–º–∞–∂–Ω—ã–π –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏–∫ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–π¬Ý
–ø–æ—Ç–æ–ø–∏–≤—à–∞—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫,¬Ý
–ø—Ä–∏–º–∏—Ç–∏–≤–Ω–∞—è –¥–æ –æ–±–∏–¥—ã,¬Ý
–∑–∞—É—Ä—è–¥–Ω–µ–π—à–∞—è –≤–æ–ª–Ω–∞.¬Ý
¬Ý
IV
–í—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º–∏, –ø–æ—Ä—ã–≤—à–∏—Å—å –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—ǬÝ
–≤ —Ç—Ä–µ–∑–≤–æ–π —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–∞–º—è—Ç–∏,¬Ý
—É–¥–∏–≤–ª—è–µ—à—å—Å—è –Ω–µ—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ¬Ý
–ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—é —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–º—É –∂–∏–∑–Ω–∏,¬Ý
—É–±–µ–∂–¥–∞—è—Å—å, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∞–≤–∞ –æ–Ω–∞,¬Ý
—Å—Ä–∞–∑—É –≤—Å—ë —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É –≤—Ä—É—á–∞—è:¬Ý
—Ü–µ–ª–æ–º—É–¥—Ä–µ–Ω–Ω–æ–µ –∫–∞—Å–∞–Ω–∏–µ¬Ý
—Ä–æ–±–∫–æ–π –ø–µ—Ä–≤–æ–π –ª—é–±–≤–∏,¬Ý
–∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—â–µ–µ —É–≤–µ—Ä–æ–≤–∞—Ç—å¬Ý
–≤ –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—É—é —Ç–∞–π–Ω—É¬Ý
–∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã, –ø—Ä–æ–Ω–∑–∞—é—â–µ–π —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ,¬Ý
–Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞, –ø–æ–∫—É–¥–∞ —Ç—ã –∂–∏–≤,¬Ý
—Ä–∞–∑—ä—è—Ä—ë–Ω–Ω—ã–µ —à—Ç–æ—Ä–º—ã, SOS,¬Ý
–æ–±—Ä–µ—á—ë–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–∫—Ä—É—à–µ–Ω–∏–π,¬Ý
–≥–æ–ª—É–±–µ—é—â–∏—Ö –∫–∞—Ä—Ç —à–∏—Ä–æ—Ç—ã,¬Ý
–ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –≤–ø—Ä–∏–ø—Ä—ã–∂–∫—ɬÝ
–±–æ—Å–∏–∫–æ–º –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∏—à—å—Å—è,¬Ý
–±–æ–ª—å –Ω–µ–∏–∑–≤–µ–¥–∞–Ω–Ω—É—é –º—É–∂—Å–∫—É—é,¬Ý
—á—Ç–æ —Å—Ç–µ–∫–∞–µ—Ç —Å —Ç–µ–±—è –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ,¬Ý
—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∫—Ä–æ–≤—å –ø–æ —Å—Ç–µ–Ω–∫–∞–º –º–µ–Ω–∑—É—Ä–∫–∏;¬Ý
–Ω–æ –∑–∞—á–µ–º –∂–µ –ø–æ—Ç–æ–º¬Ý
–∑–∞–±—ã–≤–∞–µ—Ç –æ–Ω–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞,¬Ý
—É—Å—Ç—É–ø–∞—è –µ–≥–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–π —Ä—É—Ç–∏–Ω–µ,¬Ý
—Ç–∞–∫ —Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—Ö–æ–∂–µ–π —Å —Ü–≤–µ—Ç—É—â–µ–π¬Ý
—Å–æ–Ω–Ω–æ–π –∞–≤–≥—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π –≤–æ–¥–æ–π¬Ý
–≤ –∑–∞—Ä–∞—Å—Ç–∞—é—â–µ–º —Ä—è—Å–∫–æ–π –ø—Ä—É–¥—ɬÝ
–Ω–µ–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞,¬Ý
–∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º—É—Ç—Å—è¬Ý
–∫–æ–ª–æ–±–∫–∞–º–∏ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –Ω–∞—à–µ–π¬Ý
–¥–æ–≤–æ–¥—è—â–∏–µ –Ω—ã–Ω—á–µ –¥–æ —Å–ª—ë–∑¬Ý
—Å–∏–º–ø–∞—Ç–∏—á–Ω—ã–µ –≥–æ–ª–æ–≤—ã¬Ý
–º–æ–∫—Ä—ã—Ö –∫–æ—Ç—è—Ç ‚Äì ‚Äì¬Ý
¬Ý
V. –ó–∞—â–∏—Ç–Ω–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ –≤–µ—Ç—Ä–∞–º
–û –º–æ–∏ –º–æ–ª—á–∞–ª–∏–≤—ã–µ –≤–µ—Ç—Ä—ã ‚Äì¬Ý
–≤—ã, –ø–∞—Å—Å–∞—Ç—ã, –±—Ä–∏–∑—ã, –º—É—Å—Å–æ–Ω—ã,¬Ý
–∏ —Å–∏—Ä–æ–∫–∫–æ, –∏ –≤—Å–µ –¥—Ä—É–≥–∏–µ, ‚Äì¬Ý
–≤—ã, —Ä–æ–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–µ –≤ –Ω–µ–±—ã–≤–∞–ª—ã—Ö,¬Ý
–ø–µ—Ä–≤–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω—å—è—Ö¬Ý
–∏–ª—å —Ç—É–≥–∏–º –∫—Ä—ã–ª–æ–º –±—É—Ä–µ–≤–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞,¬Ý
–∏–ª–∏ —Å–º–µ—Ä—á–µ–º, —Å–≤–µ—Ä–ª—è—â–∏–º –Ω–µ–±–æ,¬Ý
–≥–¥–µ –∏–∑ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞–¥ –º–∏—Ä–æ–º¬Ý
–∑–æ–ª–æ—Ç–æ–≥–æ –≤–µ–Ω–∫–∞ –±—ã—Ç–∏—è¬Ý
–æ—Å—ã–ø–∞—é—Ç—Å—è –ª–µ–ø–µ—Å—Ç–∫–∞–º–∏¬Ý
—Å–≤–µ—Ç–æ–≤—ã–µ –≥–æ–¥—ã-—Å–∫–∏—Ç–∞–ª—å—Ü—ã, ‚Äì¬Ý
–±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã–µ –æ—Ç–≥–æ–ª–æ—Å–∫–∏¬Ý
–Ω–µ–ø–æ—Å—Ç–∏–∂–Ω–æ–π —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω—å—é –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏,¬Ý
—á—Ç–æ —Ä–∞—Å–∫–∞—è–ª–∞—Å—å —Ç–∞–∫ –Ω–µ–∂–¥–∞–Ω–Ω–æ ‚Äì ‚Äì¬Ý
–ü—É—Å—Ç—å —Å–≥–æ—Ä–∞—é—Ç –≤ –Ω–µ–π –±–µ–∑ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞¬Ý
–≤—Å–µ –º–æ—Ä—è –∏–∑—É–º—Ä—É–¥–Ω–æ-–∂–µ–º—á—É–∂–Ω—ã–µ,¬Ý
–∏–º–µ–Ω–∞ –ø–æ–∑–∞–±—ã–≤—à–∏–µ –Ω–∞—à–∏,¬Ý
–Ω–æ –∑–∞—Ç–æ —É–∂ –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–∞–∑¬Ý
—Ü–µ–ª–æ–≤–∞–≤—à–∏–µ –ª–∏—Ü–∞ –¥–æ –±–æ–ª–∏;¬Ý
–æ –ø–æ–ø—É—Ç—á–∏–∫–∏ –Ω–∞—à–∏ –¥–æ–±—Ä—ã–µ,¬Ý
–æ –ª–∞–∑—É—Ç—á–∏–∫–∏ —á—å–∏-—Ç–æ –∑–ª—ã–µ,¬Ý
–æ —Ä–∞–∑–±–æ–π–Ω–∏–∫–∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ, ‚Äì –≤—Å–µ,¬Ý
–ø–æ –º–æ—Ä—è–º –±–µ–∑—É–¥–µ—Ä–∂–Ω–æ –≥–Ω–∞–≤—à–∏–µ¬Ý
–º–æ–∂–∂–µ–≤–µ–ª—å–Ω–∏–∫–∞ –∑–∞–ø–∞—Ö —Å–º–æ–ª–∏—Å—Ç—ã–π,¬Ý
–æ—Ç–¥–∞–ª—ë–Ω–Ω—ã–π –º–ª–∞–¥–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏–π —Å–º–µ—Ö,¬Ý
–≤ –∏—Å—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω—å–µ –∑–∞—â–µ–∫–æ—Ç–∞–≤—à–∏–µ¬Ý
–Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏–∫ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã,¬Ý
–ø–µ—Ç–ª–∏ —Å—Ç—Ä–∞—Ö–∞ —Å –º–∞—Ö—É –Ω–∞–±—Ä–æ—Å–∏–≤—à–∏–µ¬Ý
–Ω–∞ –ø–æ–Ω–∏–∫—à—É—é —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —à–µ—é¬Ý
–∑–∞–¥–æ—Ö–Ω—É–≤—à–µ–π—Å—è –ø—Ç–∏—Ü—ã –º–æ–µ–π,¬Ý
—Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–∞–≤—à–µ–π –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –≤ –ø–æ–ª—ë—Ç–µ,¬Ý
–≤ –≥—Ä–æ–∑–Ω–æ–π –±–µ–∑–¥–Ω–µ –º–æ–ª—å–±—É –æ –ø–æ–º–æ—â–∏¬Ý
—É—Ç–æ–ø–∏–≤—à–∏–µ –±–µ—Å—Å–µ—Ä–¥–µ—á–Ω–æ, ‚Äì¬Ý
–æ, —Å–∫–∞–∂–∏—Ç–µ –º–Ω–µ, ‚Äì –±—É–¥–µ—Ç –ª–∏ –≤–∞—ŬÝ
–∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å, —Ö–æ—Ç—å –æ–¥–∏–Ω —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫,¬Ý
—Ç–∞–∫ –ª—é–±–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ –ª—é–±–ª—é –≤–∞—Å —è,¬Ý
–¥–Ω–µ—Å—å –∑–∞—Å—Ç—ã–≤—à–∏–π –Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ç—è–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º,¬Ý
–ø—Ä–µ–∑–∏—Ä–∞–µ–º–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É,¬Ý
–≥–¥–µ —Ç–∞–∏—Ç—Å—è –≤ —Å–≤–µ–∂–∏—Ö —Å–ª–µ–¥–∞—Ö¬Ý
–ø–ª–∞—á —Å–µ–¥–µ—é—â–µ–≥–æ —Ä–µ–±—ë–Ω–∫–∞...¬Ý
¬Ý
VI. –í –æ–∫–µ–∞–Ω–µ, —Ä—è–¥–æ–º —Å –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç—å—é
–û, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω–∞—è¬Ý
–∏ –≥–ª—É–±–æ–∫–∞—è —Å—Ç–∞—Ä–æ—Å—Ç—å¬Ý
–ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ¬Ý
—Å –æ–∫–µ–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ç—ë–º–Ω–æ–≥–æ –¥–Ω–∞,¬Ý
–Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –æ–±—Ä–æ—Å—à–µ–≥–æ –≤—Å—é–¥—ɬÝ
–∏ —Ä–∞–∫—É—à–∫–∞–º–∏, –∏ —á–µ—Ä–µ–ø–∞–º–∏,¬Ý
–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç–∞–º–∏ —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏–π,¬Ý
–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –≤ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –Ω–µ—Ç,¬Ý
–Ω–µ–∏–∑–º–µ–Ω–Ω–æ –±—Ä–æ—Å–∞—è –≤ –æ–∑–Ω–æ–±¬Ý
–æ–∂–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω—ã–µ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—å—Ü–∞ –∑–∞—Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤–æ–ª–Ω,¬Ý
–∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω–æ –≤–∑–¥—Ä–æ–≥–Ω—É—Ç—å¬Ý
—Ç–µ–ª–æ —Å—É–¥–Ω–∞, –µ—â—ë –º–æ–ª–æ–¥–æ–µ,¬Ý
–∏ –µ–¥–≤–∞ –ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞—è—Å—å¬Ý
–∫ —Å–≤–µ—Ç–ª—ã–º –ª–∏—Ü–∞–º –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–æ–≤.¬Ý
–û, –∫–∞–∫ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ç–µ—á—ë—Ç,¬Ý
—Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Ç–∏—Ö–∏–π —Ç—É–º–∞–Ω¬Ý
—Å–∫–≤–æ–∑—å –Ω–µ–ø–ª–æ—Ç–Ω—É—é —â—ë–ª–∫—É —Å–æ–º–∫–Ω—É–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤–µ–∫¬Ý
–Ω–µ–±–æ—Å–≤–æ–¥–∞ –∏ —Å–º—É—Ç–Ω–æ–π –≤–æ–¥—ã,¬Ý
–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –µ–¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∞–µ–º—ã–π —Å–ª–µ–¥ ‚Äì¬Ý
–±—É–¥—Ç–æ —Ç—è–Ω–µ—Ç –∑–≤–µ–Ω—è—â—É—é —Ü–µ–ø—å¬Ý
–∏–∑ –∑–∞–≤–µ—Ç–Ω—ã—Ö –∏–º—ë–Ω,¬Ý
–ø–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—É—é –Ω–∞ –ª—é–±–æ–º¬Ý
–∏–∑ –∑–µ–º–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω—Ç–∏–Ω–µ–Ω—Ç–æ–≤¬Ý
–∏ —Ö—Ä–∞–Ω—è—â—É—é –±–ª–∞–≥–æ—Å–ª–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–∞ —Ä—É–∫,¬Ý
—É–±–µ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π —Ä–∞–∑,¬Ý
—á—Ç–æ –æ–Ω–æ, –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω–æ, ‚Äì¬Ý
—É—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è ‚Äì¬Ý
–±–ª–∏–∂–µ –≤—Å–µ—Ö, –µ—Å–ª–∏ –≤–¥—É–º–∞—Ç—å—Å—è, –∫ –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏.
¬Ý
VII. –ö–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π –∫ –∞–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–µ
–°–ª–æ–≥–∏ –∏–º–µ–Ω–∏ –º–æ–µ–≥–æ¬Ý
—Å–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ —á–µ—Ä–Ω–æ–≤–∏–∫–æ–≤¬Ý
–ø–µ—Ä–µ–ø—É—Ç–∞–Ω—ã, —Ç—Ä–æ—Å–∞–º–∏ —Å—Ç—è–Ω—É—Ç—ã¬Ý
—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã –∑–≤–æ–Ω–∫–∏–µ –≥—Ä—É–∑–æ–≤—ã–µ,¬Ý
–ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—é—â–∏–µ —Å–æ–∑–≤–µ–∑–¥–∏—è¬Ý
–°–∫–æ—Ä–ø–∏–æ–Ω–∞ –∏–ª–∏ –í–µ—Å–æ–≤¬Ý
–ø–æ–¥ —ç–∫–≤–∞—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º –Ω–µ–±–æ–º.¬Ý
–° —à–æ–∫–æ–ª–∞–¥–Ω–æ-–±–∞–≥—Ä—è–Ω—ã—Ö –≥–æ—Ä,¬Ý
—á—Ç–æ –ø–æ–∫–∞ –¥–æ—Å—Ç–∏–∂–∏–º—ã –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º,¬Ý
–¥–Ω—ë–º —Å–ª–µ—Ç–∞—é—Ç—Å—è –≤ –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö —Ä—ã–±—ã¬Ý
–∑–∞–±–ª—É–¥–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –æ—Ä–ª—ã,¬Ý
–∏ –æ—Ç –Ω–∏—Ö –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è¬Ý
–¥–∞–∂–µ –Ω–æ—á—å—é, –∏–±–æ –æ–Ω–∏¬Ý
—Ä–∞–∑—Ä—ã–≤–∞—é—Ç –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–µ—á–µ–Ω—å.¬Ý
–û, –∫–æ–≥–¥–∞ –±—ã —è –∑–Ω–∞–ª, –ø—Ä–æ–∑—Ä–µ–≤,¬Ý
–≥–¥–µ –º–æ–π —Ç–∏—Ö–∏–π –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ –ø–æ–∫–æ—è,¬Ý
–≥–¥–µ –º–æ–π —Å–∞–º—ã–π –¥–∞–ª—å–Ω–∏–π, –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π,¬Ý
–ø—É—Å—Ç—å –∏ –≥—Ä—è–∑–Ω—ã–π –∏–∑–ª–∏—à–Ω–µ –ø–æ—Ä—Ç ‚Äì¬Ý
—è —Å–æ—Å–ª–∞–ª –±—ã —Å–µ–±—è —Ç—É–¥–∞¬Ý
–∏, –∏–∑—Ä–∞–Ω–∏–≤ —Å—Ç—É–ø–Ω–∏ –±–æ—Å—ã–µ,¬Ý
—Ç–∞–º –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –±—ã –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞.¬Ý
–ñ–∏—Ç—å –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ —Ç–∞–∫ —É–∂ –¥–æ–ª–≥–æ,¬Ý
—á—Ç–æ–±—ã —è—Å–Ω–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—Ç—å,¬Ý
–ø–æ—á–µ–º—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ–º¬Ý
—è –≤–æ —Å–Ω–µ –±–µ–≥—É ‚Äì –∑–∞–¥—ã—Ö–∞—é—Å—å,¬Ý
–∏ –Ω–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã–π –±–æ–∫–∞–ª —Ü–∏–∫—É—Ç—ã,¬Ý
–Ω–∏ –≤–µ—Ä—ë–≤–∫–∞ –∞–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤—ã¬Ý
–º–Ω–µ –Ω–µ –º–æ–≥—É—Ç —É–∂–µ –ø–æ–º–æ—á—å.¬Ý
–í—Å–µ –¥—Ä—É–∑—å—è –º–æ–∏, –∑–∞—Ç–µ—Ä—è–≤—à–∏—Å—å¬Ý
–Ω–∞ –æ–±–∂–∏—Ç—ã—Ö –ª—é–¥—å–º–∏ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—è—Ö,¬Ý
–∫—Ç–æ –ø–æ—á–∞—â–µ, –∫—Ç–æ —Ä–µ–∂–µ —Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª–∏¬Ý
–º–æ—ë –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–µ –∏–º—è —è–∑—ã—á–Ω–∏–∫–∞,¬Ý
–Ω–æ, –≤ –Ω–µ–º—ã—Å–ª–∏–º—ã—Ö –≤–∏—Ö—Ä—è—Ö –∂–∏—Ç–µ–π—Å–∫–∏—Ö¬Ý
–∏—Å—á–µ–∑–∞—è –∏–∑ –≥–ª–∞–∑ –º–æ–∏—Ö, ‚Äì¬Ý
–≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—Ç, –∫–∞–∫ –æ —Ñ–∞–Ω—Ç–æ–º–µ.¬Ý
–í–Ω–æ–≤—å —è –≤—ã–ø–ª—ã–≤—É –∏–∑ —Ç—É–º–∞–Ω–∞¬Ý
—Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π, –æ—Å–∫–≤–µ—Ä–Ω—ë–Ω–Ω–æ–π —á–∞–π–∫–∞–º–∏,¬Ý
–∏ —Å–æ–π–¥—É, —Ä–æ–±–µ—è, —Å —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–≥–æ¬Ý
–∏ —Ä–∞—Å—à–∞—Ç–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ ‚Äì¬Ý
—Ö–æ—Ç—å –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –Ω–∞–∑–∞–¥ –±—ã–≤–∞–µ—ǬÝ
–Ω–µ—Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–º–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–µ–µ, –µ—Å–ª–∏¬Ý
–±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ–∫–æ–º—É –∂–¥–∞—Ç—å —Ç–µ–±—è.¬Ý
–ò –ø–æ–≤–∏—Å–Ω–µ—Ç —Ä—É–∫–∞, –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–≤¬Ý
–¥–æ–ª–≥–æ–∂–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä—É–∫–æ–ø–æ–∂–∞—Ç—å—è,¬Ý
–∏ —Å –æ–±–∏–¥–æ–π –æ—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤–æ –≤–∏–∂—É,¬Ý
—á—Ç–æ —è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–æ—Å–∫–∞ –æ—Ç –ø–ª–æ—Ç–∞,¬Ý
—á—Ç–æ, —É—Å—Ç–∞–≤, –Ω–µ –¥–∏–≤–ª—é—Å—å –∫–∏–ø—É—á–µ–º—ɬÝ
–∫—Ä–∞—Ç–∫–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–º—É –ø—Ä–∏–ª–∏–≤—É:¬Ý
–¥–∏–∞–ª–µ–∫—Ç–∏–∫–∞ —Ç–∞–∫–æ–≤–∞.¬Ý
–û –∫—Ä—É–ø–∏—Ü–∞ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã, –≥–¥–µ —Ç—ã¬Ý
–≤ —á–∞—Å, –∫–æ–≥–¥–∞, –æ–¥–∏–Ω–æ–∫ –∏ –ø—å—è–Ω,¬Ý
–≤—Å—ë –±—Ä–µ–¥—É –∏–∑–æ–≥–Ω—É—Ç–æ–π —É–ª–æ—á–∫–æ–π,¬Ý
–Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–µ –±—ã–ª —è —Å—Ä–æ–¥—É? ‚Äì¬Ý
–∫–æ—à–∫–∏ –ø–µ—Ä–µ–±–µ–≥–∞—é—Ç –¥–æ—Ä–æ–≥—É,¬Ý
–∏ —Å—Ç—Ä–∞—à—É—Å—å, —á—Ç–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –Ω–∞–π–¥—É¬Ý
–¥–∞—Ä –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω—ã–π ‚Äì —É–¥–∏–≤–ª—è—Ç—å—Å—è.¬Ý
–¢—ã, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏ –º–µ–Ω—è, –ú–æ—Ä–µ —Å—É–¥—å–±—ã,¬Ý
—Ç—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏ –º–µ–Ω—è, –°—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ,¬Ý
–∑–∞ –Ω–µ–ª–µ–ø—É—é, –Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω—É—é¬Ý
–∏ –Ω–µ–∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω—é—é –∫ –≤–∞–º –ª—é–±–æ–≤—å:¬Ý
–≤–µ—Ç—Ä—ã, —Ç–µ–ª–æ –∏ –¥—É—à—É –ø—Ä–æ–¥—É–≤—à–∏–µ,¬Ý
–±—ã–ª–∏ –± —Ä–∏—Ñ–º–∞–º–∏ –¥–ª—è –ø–æ—ç–º—ã,¬Ý
–Ω–æ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å —è –∏—Ö –Ω–µ —Å—É–º–µ–ª ‚Äì ‚Äì ‚Äì¬Ý
¬Ý
VIII
–¢–∞–∫ –∏ –±—ã—Ç—å, –∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑¬Ý
—É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—Ç—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–¥—É—à–Ω–æ –±—É–¥—É,¬Ý
—á—Ç–æ —è –≤–Ω—É–∫ —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–∞ –§–ª–∏–Ω—Ç–∞¬Ý
–∏–ª–∏ —Ç–≤—ë—Ä–¥–∞—è –≥–ª—ã–±–∞ —Å–æ–ª–∏ ‚Äì¬Ý
–Ω—É, –≥—Ä—ã–∑–∏—Ç–µ –º–µ–Ω—è, –∫—Ä–æ–º—Å–∞–π—Ç–µ,¬Ý
–≤–æ–∑–∂–µ–ª–∞–≤ –Ω–µ–∏–∑–≤–µ–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö, –ø—Ä—è–Ω—ã—Ö,¬Ý
–ø—Ä–∏—Ç—è–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∑–∞–ø–∞—Ö–æ–≤ –º–æ—Ä—è;¬Ý
—Ç–∞–∫ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≤–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ—Ö–ª–∞–¥–Ω–∞—è,¬Ý
—É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞—è, –æ–±—Ç–µ–∫–∞–µ—ǬÝ
—É—Ç–æ–º–ª—ë–Ω–Ω–æ–µ —Ç–µ–ª–æ –º–æ—ë,¬Ý
–∏ —Å–∏—è–Ω–∏–µ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ—é,¬Ý
–Ω–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ, —è—Ä—á–µ –ª—é–±–æ–≥–æ¬Ý
–∏–∑ —Å–æ–∑–≤–µ–∑–¥–∏–π –∑–æ–¥–∏–∞–∫–∞–ª—å–Ω—ã—Ö...¬Ý
–≠—Ç–æ –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, —á—Ç–æ —è –æ—Ç—Ç—É–¥–∞,¬Ý
–≥–¥–µ —à—Ç–æ—Ä–º–∏—Ç, –≥–¥–µ –¥–æ–∂–¥–∏ –∏ –≤–µ—Ç—Ä—ã,¬Ý
–≥–¥–µ, –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ —ç—Å–∫–∞–¥—Ä–∞–º –∞–ª—ã—Ö¬Ý
—É–Ω–æ—Å—è—â–∏—Ö—Å—è –ø–∞—Ä—É—Å–æ–≤,¬Ý
–≤ –Ω–µ–±–µ—Å–∞—Ö –∫–æ—á—É—é—Ç –∑–∞–∫–∞—Ç—ã;¬Ý
–≥–¥–µ —Ñ–∏–æ—Ä–¥—ã –≥—Ä–æ–∑—è—Ç –∑—É–±—Ü–∞–º–∏,¬Ý
–≥–¥–µ —Ç–µ–º–Ω–µ—é—Ç –±–ª–∏–∑–∫–∏–µ —à—Ö–µ—Ä—ã,¬Ý
–≥–¥–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –º–æ–∂–µ—à—å —Å–∞–º¬Ý
–Ω–µ–ø–æ–º–µ—Ä–Ω—É—é –Ω–æ—à—É –∞–π—Å–±–µ—Ä–≥–æ–≤,¬Ý
–≥–¥–µ –ø–µ–π–∑–∞–∂–∏, –ø—Ä–∏ –≤–∏–¥–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö¬Ý
–∑–∞–º–µ–¥–ª—è–µ—Ç—Å—è –≤–¥—Ä—É–≥ –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ ‚Äì¬Ý
–Ω–æ —É–ø—Ä—è–º–æ —è –¥–æ–±–∏—Ä–∞—é—Å—å¬Ý
–Ω–∞—è–≤—É –¥–æ –Ω–∏—Ö, –∞ –Ω–µ –≤–æ —Å–Ω–µ,¬Ý
–¥–∞ –∏ –∫–æ–∂—É –Ω–∞ —ç—Ç–∏—Ö –≤–æ—Ç —Å–∞–º—ã—Ö¬Ý
–ø—Ä–æ–¥—É–±–ª—ë–Ω–Ω—ã—Ö, —à–µ—Ä—à–∞–≤—ã—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö,¬Ý
–∫–∞–Ω–¥–∞–ª–æ–≤ –∫—É–¥–∞ —Ç—è–∂–µ–ª–µ–µ,¬Ý
–æ–±—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç –∑–∞—Å—Ç—ã–≤—à–∞—è —Å–æ–ª—å,¬Ý
–∞ –Ω–æ—á–∞–º–∏, –≤–æ —Å–Ω–µ, –∫—Ä–∏—á–∞¬Ý
–¥–æ—Ä–æ–≥–∏–µ —Ç–µ–±–µ –∏–º–µ–Ω–∞,¬Ý
–º–æ–∂–µ—à—å —Ä–∞–∑ –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞ –æ—Ö—Ä–∏–ø–Ω—É—Ç—å,¬Ý
–∏ –ª–∏–ø—É—á–∏–π –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–∏–π –ø–æ—ǬÝ
–æ–±–µ—Å—Ü–≤–µ—á–∏–≤–∞–µ—Ç –≥–ª–∞–∑–∞,¬Ý
—Ä–∞–∑—ä–µ–¥–∞—è –Ω–µ—É–º–æ–ª–∏–º–æ¬Ý
–¥–∞–∂–µ –∏–º—è —Ç–≤–æ—ë ‚Äì ‚Äì ‚Äì¬Ý
–¢–∞–∫ –∏ –±—ã—Ç—å, –∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑¬Ý
–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–¥—É—à–Ω—ã–º, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, –ø–æ–±—É–¥—É,¬Ý
–±–æ—Ä–º–æ—á–∞ –Ω–µ–≤–ø–æ–ø–∞–¥ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞–Ω—å—è,¬Ý
—á—Ç–æ —É–∂–µ —Ä–∞—Å–∫—Ä–æ—à–∏–ª–∞—Å—å –¥–∞–≤–Ω–æ¬Ý
–º–æ—è —Ç—Ä—É–±–∫–∞ –ª—é–±–∏–º–∞—è –±–æ—Ü–º–∞–Ω—Å–∫–∞—è¬Ý
–∏–∑ –∫–æ—Ä–∞–ª–ª–∞ —Å–∞–º–æ–≥–æ —è—Ä–∫–æ–≥–æ,¬Ý
–±–µ–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π, —É–≤—ã, –¥–∞–∂–µ –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ¬Ý
–∑–∞ –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏–π —É—Å–µ–≤—à–∏—Å—å —Å—Ç–æ–ª
—Å—Ä–µ–¥–∏ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –∏ —Å–µ—Å—Ç—ë—Ä,¬Ý
–æ–∂–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω—ã—Ö, —É—Å–µ—Ä–¥–Ω–æ –ø–æ—Ç—á—É—é—â–∏—Ö¬Ý
–ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥–Ω—ã–º –≤–∏–Ω–æ–º –≤–∏—à–Ω—ë–≤—ã–º,¬Ý
–Ω–µ —É–º–µ—é, –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–æ–≥—ɬÝ
—Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –≤—Å—é –ø—Ä–∞–≤–¥—É –æ —Ç–æ–º,¬Ý
–∫–∞–∫ —Ç–æ–Ω—É–ª —è –∏ –ø–µ–ª...¬Ý
¬Ý
IX. –ü–µ—Ä–µ—á–∏—Ç—ã–≤–∞—è —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –ø–∏—Å—å–º–∞ –≤ —Å–Ω–µ–≥–æ–ø–∞–¥
–í—Å–µ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –∫–æ –º–Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–π—Ç–µ—Å—å ‚Äì¬Ý
–≤—Å–µ, –∫–æ–º—É –ø–æ–∂–∏–º–∞–ª —è —Ä—É–∫–∏,¬Ý
–≤—Å–µ, –∫–æ–≥–æ —Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª –≤ –º–µ—á—Ç–∞—Ö¬Ý
–∏–ª–∏ –≤—Å—Ç–∞—Ä—å –æ—Ç –¥—É—à–∏ –ª—é–±–∏–ª,¬Ý
–ø–æ –º–æ—Å—Ç–∞–º –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–≤ –∏–ª–ª—é–∑–æ—Ä–Ω—ã–º,¬Ý
–æ–ø–∞–ª—ë–Ω–Ω—ã–π —Å–∏—è–Ω–∏–µ–º —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º ‚Äì¬Ý
–∏–∑ —Ä–µ–≤—É—â–µ–≥–æ –º–æ—Ä—è –ë–∞—Ä–µ–Ω—Ü–µ–≤–∞¬Ý
–∏–ª—å –∏–∑ –¥–µ–±—Ä–µ–π —Ç–∞–π–≥–∏ –±–µ—Å–∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π,¬Ý
—Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä –µ–Ω–∏—Å–µ–π—Å–∫–∏–π —Å—Ä–∞–∑—ɬÝ
–≤–∞—à–∏ –ª–∏—Ü–∞ –≤–¥–∞–ª–∏ —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ–≤;¬Ý
–≤—Å–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ –∫–æ –º–Ω–µ¬Ý
–≤ —ç—Ç—É –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É ‚Äì –≤ —ç—Ç—É –æ–±–∏—Ç–µ–ª—å,¬Ý
—á—Ç–æ –¥–∞–≤–Ω–æ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–∞ –∏ –ø—É—Å—Ç–∞,¬Ý
–≥–¥–µ, –∑–∞–∫—É—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å –≤ –¥—ã–º —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç–Ω—ã–π,¬Ý
—è —Å–º–æ—Ç—Ä—é, –∫–∞–∫ —É–∂–µ –∑–∞—Å—Ç–∏–ª–∞–µ—Ç –∑–∏–º–∞¬Ý
–Ω–µ–ø—Ä–æ–≥–ª—è–¥–Ω–æ–π, —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–π –ø–µ–ª–µ–Ω–æ—é¬Ý
–≤–∞—à–∏ —é–Ω—ã–µ –ª–∏—Ü–∞, –æ—Ç–≥–æ–ª–æ—Å–∫–∏ —Ä–µ—á–µ–π¬Ý
–∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –∂–µ–ª–∞–Ω–∏–π –±–ª–∞–≥–∏—Ö;¬Ý
–ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ ‚Äì —É–≤–∏–¥–∏—Ç–µ —Å–∞–º–∏,¬Ý
–∫–∞–∫ –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ –¥–∞—Ä–∏–º–æ–µ —â–µ–¥—Ä–æ —Ç–µ–ø–ª–æ¬Ý
–ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–µ —á—Ç–æ-—Ç–æ,¬Ý
–≤ —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤—ã—Ä–∞–∑–∏—Ç—å —Å–ª–æ–≤–æ–º —Ç–∞–∫ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ,¬Ý
–≤ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å—Ö–æ–∂–µ —Å —Å–∏—è–Ω–∏–µ–º –ª—É–Ω–Ω—ã–º¬Ý
–Ω–∞ –≤–æ–ª—à–µ–±–Ω–æ–º –æ–¥–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω–µ ‚Äì¬Ý
–æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω—å–µ –ö—É–∏–Ω–¥–∂–∏,¬Ý
–≤ —Ç–æ, –∫ —á–µ–º—É —è, —Å—Ç—Ä–∞—à–∞—Å—å,¬Ý
—á—Ç–æ —Ç–∞–∫–∏–º –∂–µ —Å—Ç–∞—Ç—å –Ω–µ —Å—É–º–µ—é,¬Ý
–Ω–µ —Ä–µ—à–∞—é—Å—å —Ä—É–∫–æ–π –ø—Ä–∏–∫–æ—Å–Ω—É—Ç—å—Å—è,¬Ý
–ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω–æ –æ–∂–∏–≤—ë—Ç...¬Ý
¬Ý
X. –ö—Ä—ã–º—Å–∫–∏–π –Ω–æ—è–±—Ä—å
–Ø –±—ã–ª –æ—à–µ–ª–æ–º–ª—ë–Ω –≤–∏–¥–µ–Ω—å–µ–º —Å–≤–µ—Ç–ª—ã–º –ö—Ä—ã–º–∞¬Ý
–∏ –æ—Ö–º–µ–ª–µ–ª —Å–ª–µ–≥–∫–∞, –Ω–æ –≤—Å—ë –∂–µ –æ—â—É—Ç–∏–º–æ,¬Ý
–Ω–µ –æ—Ç –ø—Ä–∏–±—Ä–µ–∂–Ω—ã—Ö —Å–∫–∞–ª, –Ω–µ –æ—Ç —á–∏–Ω–∞—Ä –¥—Ä–µ–º–æ—Ç–Ω—ã—Ö,¬Ý
–Ω–µ –æ—Ç –ª–µ–Ω–∏–≤—ã—Ö –ø–∞–ª—å–º ‚Äì –Ω–µ–¥–≤–∏–∂–Ω—ã—Ö, –±–µ–∑–∑–∞–±–æ—Ç–Ω—ã—Ö,¬Ý
–Ω–µ –æ—Ç —Ç–µ–Ω–µ–π –≥—É—Å—Ç—ã—Ö, —É–ø–∞–≤—à–∏—Ö –Ω–∞ –∞–ª–ª–µ–∏,¬Ý
–≥–¥–µ –∫–∏–ø–∞—Ä–∏—Å—ã –≤—Ä–æ–∑—å –º–∞—è—á–∞—Ç, –ª–∏–ª–æ–≤–µ—è,¬Ý
–Ω–µ –æ—Ç –∫–∞—Å–∞–Ω—å—è –≥—É–± –∏–ª—å –ø–∞—Ä—É—Å–æ–≤ –Ω–∞ —à—Ö—É–Ω–∞—Ö,¬Ý
—Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ –æ—Ç –ª—É–Ω—ã, –º–µ—Ä—Ü–∞—é—â–µ–π –≤ –ª–∞–≥—É–Ω–∞—Ö,¬Ý
–ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—É –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–π –º–æ–Ω–µ—Ç—ã¬Ý
(—á—Ç–æ–± –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤–Ω–æ–≤—å ‚Äì –Ω–∞–∏–≤–Ω–∞—è –ø—Ä–∏–º–µ—Ç–∞!) ‚Äì¬Ý
—è –æ—Ö–º–µ–ª–µ–ª —Ç–æ–≥–¥–∞ –æ—Ç —Å–≤–µ—Ç–∞ –Ω–æ—è–±—Ä—è,¬Ý
–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∞ –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω–∞—è –∑–∞—Ä—è, ‚Äì¬Ý
–∫–∞–∫ –±—É—Ä–µ–≤–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫, –æ–Ω –±—ã–ª –≤ –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤—Å–µ–π¬Ý
–∏ —Å–º–µ–ª –∏ –≥–æ—Ä–¥–µ–ª–∏–≤ —Å—Ä–µ–¥—å –Ω–µ–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω—ã—Ö –¥–Ω–µ–π.¬Ý
–ù–æ—è–±—Ä—å ‚Äì –º–µ–ª–æ–¥–∏–π –≥—É–ª, —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–∞—Ç—ã.¬Ý
–í–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –≤ –¥–æ–º —Ä–æ–¥–Ω–æ–π —Ç–æ—Ä–æ–ø—è—Ç—Å—è —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—ã.¬Ý
–û —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞–≤–∞–Ω—å—è —á–∞—Å! –ù–µ –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å ‚Äì —Å–∞–¥,¬Ý
–≥–¥–µ –±–µ—Å–∫–æ–∑—ã—Ä–∫–∏ –≤–Ω–∏–∑, –∫–∞–∫ –±–∞–±–æ—á–∫–∏, –ª–µ—Ç—è—ǬÝ
–∏ –ø–∞–¥–∞—é—Ç, –∫—Ä—É–∂–∞—Å—å –ø–æ —Ç—ë–ø–ª—ã–º –º–æ—Å—Ç–æ–≤—ã–º,¬Ý
–∏ —Ä—É–∫–∏ –≤—Ç–æ—Ä–æ–ø—è—Ö –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—ã —Ç—è–Ω—É—Ç –∫ –Ω–∏–º,¬Ý
–æ–±–Ω–∏–º—É—Ç—Å—è, –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç, –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤–æ –º–æ–ª—á–∞—Ç...¬Ý
–ê –ø–µ—Å–Ω–∏, –∫–∞–∫ –≤–æ–ª–Ω–∞, —Ç—É–¥–∞ —É–Ω–æ—Å—è—Ç –≤–∑–≥–ª—è–¥,¬Ý
–≥–¥–µ –∑–∞—Ä–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤–¥—Ä—É–≥ –Ω–∞—á–∞–ª–æ –¥—Ä—É–∂–±—ã –Ω–æ–≤–æ–π,¬Ý
–≥–¥–µ –Ω–æ–≤–æ–±—Ä–∞–Ω—Ü–µ–≤ —Å—Ç—Ä–æ–π, –≥–¥–µ –ª–∏—Å—Ç –≥–æ—Ä–∏—Ç –∫–ª–µ–Ω–æ–≤—ã–π¬Ý
–∞–ª–µ—é—â–µ–π –∑–≤–µ–∑–¥–æ–π, –≥–¥–µ –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ –¥—Ä–æ–∂–∞—ǬÝ
–∏ –æ—Ç–∑–≤—É–∫–∏ —à–∞–≥–æ–≤, –∏ –º—É–∑—ã–∫–∏ –Ω–∞–±–∞—Ç.¬Ý
–ê —É—Ç—Ä–æ –Ω–æ—è–±—Ä—è –Ω–∞–¥ –∫—Ä–æ–Ω–∞–º–∏ –∫–∞—à—Ç–∞–Ω–æ–≤¬Ý
–Ω–∞–ø–∏—Ç–æ–∫ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –ø—å—ë—Ç, –Ω–µ –≤–µ—Ä—è –º–≥–ª–µ —Ç—É–º–∞–Ω–æ–≤, ‚Äì¬Ý
–∏ –ª—å—ë—Ç—Å—è –ª—ë–≥–∫–∏–π —Ö–º–µ–ª—å —Å–∫–≤–æ–∑—å –∑–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–π —Ü–≤–µ—Ç,¬Ý
–∏ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–∏–≥ –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç–µ –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ—Ç.¬Ý
–ù–µ–≤–µ—Å—Ç—ã, —Ç–∞–∫ –º–∏–ª—ã –≤ —Ä–∞–¥—É—à–∏–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω–æ–º,¬Ý
–ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã –∫—Ä—É–∂–µ–≤–Ω—ã–º –ø—É—à–∏–Ω–∫–∞–º —Ç–æ–ø–æ–ª–∏–Ω—ã–º,¬Ý
–Ω–æ—è–±—Ä—å –Ω–∞–ø–µ—Ä–µ–±–æ–π –Ω–∞ —Å–≤–∞–¥—å–±—ã –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç,¬Ý
–∑–∞ —Å—Ç–æ–ª –µ–≥–æ –≤–µ–¥—É—Ç –∏ —â–µ–¥—Ä–æ —É–≥–æ—â–∞—é—Ç.¬Ý
–£—Å—Ç–∞–ª—ã–π —Å—Ç–æ–Ω–µ—Ç –ø–∏—Ä—Å. –ò –∫–æ–Ω–∏ –≤–æ–¥—è–Ω—ã–µ¬Ý
–Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É, –≤ —Ç–æ–ª–ø—É, –ø—Ä–æ—Å–∫–∞—á—É—Ç, —É–¥–∞–ª—ã–µ,¬Ý
–∏ –≤—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç –Ω–∞ –¥—ã–±—ã, –∏ –≤ –ø–µ–Ω–µ –∑–∞—Ö–ª–µ–±–Ω—É—Ç—Å—è ‚Äì¬Ý
–∏ —Ä–∏–Ω—É—Ç—Å—è –Ω–∞–∑–∞–¥. –ò —Å–µ–π–Ω–µ—Ä—ã –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—Å—è ‚Äì¬Ý
–≤ —Ü–∞—Ä–∞–ø–∏–Ω–∞—Ö, —Ä—É–±—Ü–∞—Ö, –Ω–∞–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–µ–≤,¬Ý
–Ω–æ –º–æ—Ä–µ –ø–æ–±–µ–¥–∏–≤ –∏ –≤–µ—Ç–µ—Ä –æ–¥–æ–ª–µ–≤.¬Ý
–ò –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–¥–æ—à–ª–æ ‚Äì –∏ —à—Ç–æ—Ä–º—ã –≥–¥–µ-—Ç–æ —Ä—è–¥–æ–º¬Ý
—Å —É–∑–æ—Ä–Ω–æ—é –ª–∏—Å—Ç–≤–æ–π, —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –≤–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥–æ–º.
¬Ý
–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫: –Æ. –ù–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å.