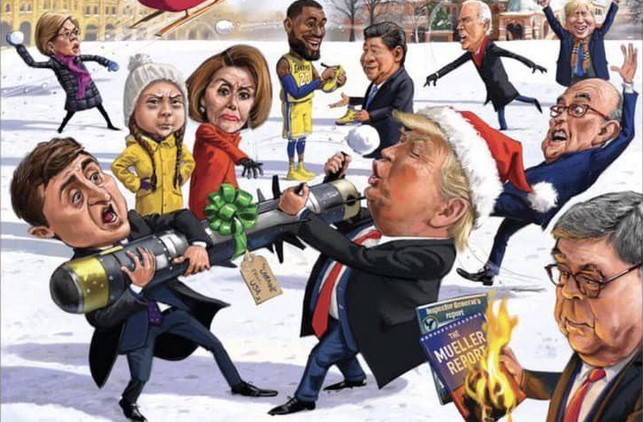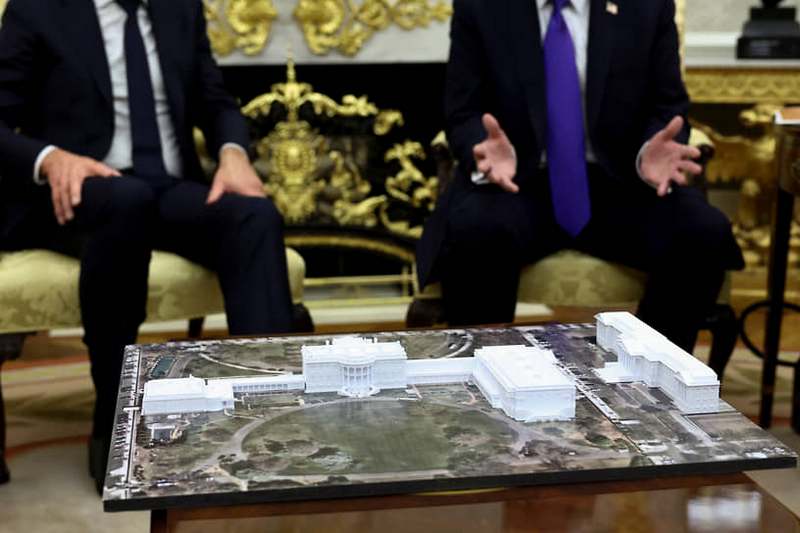–Ы—О–±–Њ–≤–љ–∞—П –ї–Є—А–Є–Ї–∞ 100 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –Є–ї–Є –Т–∞–ї—М—Б—Л –њ–Њ–і –≥–∞—А–Љ–Њ–љ—М
–Ы—О–±–Њ–≤–љ–∞—П –ї–Є—А–Є–Ї–∞ 100 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –Є–ї–Є –Т–∞–ї—М—Б—Л –њ–Њ–і –≥–∞—А–Љ–Њ–љ—М

¬Ђ–Ы—О–±–Њ–≤—М вАФ —Н—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, —Н—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ. –Ю—В –љ–µ—С —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Є —Б—В–Є—Е–Є, –Є –і–µ–ї–∞, –Є –≤—Б—С –њ—А. –Ы—О–±–Њ–≤—М вАФ —Н—В–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ –≤—Б–µ–≥–Њ. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В —А–∞–±–Њ—В—Г, –≤—Б—С –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–Љ–Є—А–∞–µ—В, –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –ї–Є—И–љ–Є–Љ, –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Л–Љ. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —Б–µ—А–і—Ж–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В, –Њ–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤–Њ –≤—Б—С–Љ¬ї. –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є
–Я—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П. –Т –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–∞—Е XX –≤. –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–≥–∞–ґ–∞. –°–њ—Г—Б—В—П –њ–Њ—З—В–Є 100 –ї–µ—В вАФ –Њ—В –±–∞–≥–∞–ґ–∞ –°–°–°–†.
–Ъ–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є (–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ) –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В-—В–µ–ї–µ–≤–µ–і—Г—Й–Є–є –Т. –Я–Њ–Ј–љ–µ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —Г–є–і—С—В —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П. –Ш–Љ–µ—П –≤ –≤–Є–і—Г ¬Ђ–Ј–∞—В—Е–ї—Л–µ¬ї –љ–∞–і–Њ–µ–≤—И–Є–µ —Д–Є–ї—М–Љ—Л, –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –ї–Є—Ж–∞, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤. –Ш–Љ–µ—П –≤ –≤–Є–і—Г —В—Г –ґ–µ –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П-–њ—А–Є—И–µ–і—И—Г—О, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Њ—В—В—Г–і–∞ вАФ –Є–Ј ¬Ђ–Ј–∞—В—Е–ї–Њ–≥–Њ¬ї —Б–Њ–≤–Ї–∞.¬†–І—В–Њ –ґвА¶ –Я—А–Њ–±–µ–ґ–Є–Љ—Б—П —А–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е (–±–µ–Ј –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—Л–њ–ї–µ—Б–Ї–Њ–≤) –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є –Є –њ–Њ—В–µ—А—М —Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є.¬†
–Ъ—В–Њ –ґ —В–µ–±—П –Ј–љ–∞–ї, –і—А—Г–≥ —В—Л –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤—Л–є –Љ–Њ–є,
–І—В–Њ –љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞–ґ–Є–≤—С—И—М —В—Л —Б—Г–і—М–±–Њ–є?
–°—Г–Љ–Ї—Г –і–∞ –Ї–љ—Г—В –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г –љ–Њ—Б–Є–ї. вАФ
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤.
–Ф–≤–Њ—А –±–µ–Ј –≤–Њ—А–Њ—В вАФ –і–∞ –Є–Ј–±–∞ –±–µ–Ј –Њ–Ї–Њ–љ. вАФ
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г–і–∞–ї—Б—П —Г–Љ—С–љ.
–†–≤–∞–љ—Л–є –њ–Є–і–ґ–∞–Ї, –Ї–Њ—З–µ–і—Л–≥ –і–∞ –Ї–Њ–њ—Л–ї. вАФ
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ —В—Л –і–Њ—А–Њ–≥ –Љ–љ–µ –±—Л–ї.¬†
(–Р. –Ґ–≤–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є)
*
–°–Њ—В–љ–Є —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Љ –Љ—Л–Ї–∞—В—М –њ–Њ—А–Њ–≤–љ—Г,¬†
–Ь–љ–µ –Є —В–µ–±–µ,¬†
–Т—Б—С, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Ї–ї–µ–≤–∞–ї–Є –Ј–ї—Л–µ –≤–Њ—А–Њ–љ—Л¬†
–Т –љ–∞—И–µ–є —Б—Г–і—М–±–µ.¬†
–°–Њ—В–љ–Є —В—Л—Б—П—З –ї–µ—В –љ–∞–Љ –ґ–і–∞—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є—З–µ–≥–Њ¬†
–Ш —Б –Њ–Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ: "–°–ї–∞–Ј—М",¬†
–° —Б–µ—А–і—Ж–µ–Љ –±–Њ–≥–∞—З–∞, —Б —Б—Г–Љ–Њ—О –љ–Є—Й–µ–≥–Њ¬†
–Я–ї—О—Е–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –≥—А—П–Ј—М.
(–Ш. –°–∞—А—Г—Е–∞–љ–Њ–≤, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В, –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В)
¬Ђ–°—Г–Љ–Ї–∞ –Є –Ї–љ—Г—В¬ї –Ґ–≤–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б—Л–ї–∞—О—В –љ–∞—Б –Ї —Б—В–∞—А–Њ—А–µ–ґ–Є–Љ–љ–Њ–є, вАФ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О –Є –Њ–±—П–Ј–∞–ї–Њ–≤–Ї–µ, вАФ –ґ–Є–Ј–љ–Є –±–µ–Ј –ї—О–±–≤–Є. –Р ¬Ђ—Б–µ—А–і—Ж–µ –±–Њ–≥–∞—З–∞¬ї, ¬Ђ—Б—Г–Љ–∞ –љ–Є—Й–µ–≥–Њ¬ї –Є ¬Ђ–≥—А—П–Ј—М¬ї –°–∞—А—Г—Е–∞–љ–Њ–≤–∞ вАФ –Њ—В—Б—Л–ї–∞—О—ВвА¶ –љ–µ—В, –љ–µ –≤ –°–°–°–†. –Р вАФ –Ї –Є–Ј–≤–µ—З–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є вАФ –ї–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–∞—В—Г–Љ—Г. –°—В–∞–≤—П –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ–є —Б–Љ–µ–љ—Л —Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ–≤, –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ —Б–≤–µ–ґ–µ–≥–Њ, –±–Њ–і—А–Њ–≥–Њ, –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ.¬†–Ш —В—Г—В, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, "–±—А–Њ–і—П–≥–∞" –Т. –Я–Њ–Ј–љ–µ—А –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤вА¶¬†
–Я—А–Є–µ–≤—И–Є–µ—Б—П –ї—О–і–Є вАФ —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј—П—В—Б—П –≤ –±–µ–Ј–і–љ—Г —Б–љ–Њ–≤, —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є. –Ш –њ–Њ—П–≤—П—В—Б—П –Є–љ—Л–µ, –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ-–∞–Љ–±–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ. –Ъ—А—Г—В—Л–µ. –Ц–∞–ґ–і—Г—Й–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–∞.¬†–Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П, —Б–Љ–µ—Б—В–Є—В—Б—П –ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –≤–ї–∞—Б—В–Є? –Ш –µ—С, –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≤–µ–Ї—В–Њ—А –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б, –Њ–і–љ–∞–Ї–ЊвА¶¬†–Ш –µ—Б–ї–Є —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–≥–Є–±–∞–µ–Љ—Л—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Ї 1960вАУ70-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ, –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Њ. –Ґ–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –ї–Є –ї—Г—З—И–µ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –ї–Њ–Ј—Г–љ–≥–Њ–≤—Л—Е –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ—Л—Е –≤–љ–µ–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥ –Є вАФ –≤–Њ—В-–≤–Њ—В, —Б–Љ–Њ—В—А–Є-—Б–Љ–Њ—В—А–Є! вАФ –њ–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Ј–∞ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ¬ї?¬†
–Ґ—Г—В –ї–µ–≥—З–µ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї –ї–Є—А–Є–Ї–µ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞...
–Т–µ–і—М –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–µ –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П —Б—В–∞–ї–ЊвА¶ –≤—Б–µ–≥–Њ-–љ–∞–≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Њ–є. –≠—В–∞–ї–Њ–љ–Њ–Љ –ґ–∞–љ—А–∞! [–І—В–Њ, –і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, –≥—А–Њ–Ј–Є—В –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г.]¬†–Р –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –ї—О–і–Є —Б ¬Ђ—Б—Г–Љ–Њ—О –љ–Є—Й–µ–≥–Њ¬ї –±—Л–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Љ—Л. –Ш –њ—А–Є –С–∞—В—Л–µ, –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–µ, –У–£–Ы–Р–У–µ; –Є –≤ –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ–Њ—А, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г, –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г.¬†–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –ї–Є—А–Є–Ї–∞ 1920-—Е –≥–≥. вАФ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –њ–∞—Д–Њ—Б –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Њ–Љ–Ї–Є, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П —В—А—Г—Е–Є –Є —В–ї–µ–љ–∞ (—Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ, –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ, ¬Ђ—В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ¬ї etc.) вАФ –≤–µ–Ї–∞ XIX.¬†–Х—Й—С –і–Њ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б –њ—А–Њ—А–Њ—З–Є–ї –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–ї–ї—О–Ј–Є–є:
¬Ђ–≠—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—А–∞—Б—В–µ—В –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ: –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г –Ј–∞ –і–µ–љ—М–≥–Є –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –Є–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В–і–∞—В—М—Б—П –ї—О–±–Є–Љ–Њ–Љ—Г –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–µ –Є–Ј –±–Њ—П–Ј–љ–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є¬ї.
–£–Ј—Л —Г–Ј–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М-—В–∞–Ї–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В—М—Б—П –љ–∞ 2 –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –ї–∞–≥–µ—А—П вАФ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є —З–∞—Б—В–љ—Л–є: ¬Ђ–Ю –ї—О–±–≤–Є —Г –љ–∞—Б —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ –њ–Є—И—Г—В, –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б—В—Л–і–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М¬ї, вАФ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Р—Б–µ–µ–≤. –Ф–µ—Б–Ї–∞—В—М, —В–µ–Љ–∞ –ї—О–±–≤–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ ¬Ђ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М¬ї. –Ш —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Н—В–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї–Њ –Ї –љ–µ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П. –Ш —В–Њ вАФ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Л–Љ –і–∞–љ—В–Њ–≤—Л–Љ –Р–і–Њ–Љ. –£–Ј–Є–ї–Є—Й–µ–Љ.¬†
–Ь—Г—З–∞–ї—Б—П –°. –©–Є–њ–∞—З—С–≤ вАФ –Љ–µ–ґ —Ж–µ—Е–Њ–≤—Л–Љ –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є –љ–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї—М–љ–µ–є —А–∞—Б–њ–Є—А–∞—О—Й–Є—Е –і—Г—И—Г —Н–Љ–Њ—Ж–Є–є. –°–Є—А–µ—З—М –њ—Л—В–∞—П—Б—М —В—А–Є–≤–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Г–±–µ–ґ–∞—В—М –Њ—В –Њ–±—А—Л–і–ї–Њ–є ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є —Б–і–µ–ї–Ї–Є¬ї —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ–∞ вАФ –Ї ¬Ђ–±–µ–Ј–і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Л–Љ¬ї —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≥—А—П–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є—П. –Я—А–Є–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, —А—Л–Ї–Њ–Љ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—С–≤–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–Њ–≤.¬†–Ь—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –С–µ–і–љ—Л–є, –Ц–∞—А–Њ–≤, –С–µ–Ј—Л–Љ–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –У–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є; –љ—Л—А—П—П –њ–Њ—А–Њ–є –≤ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ—И–ї–Њ—Б—В—М: ¬Ђ–†–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ—А—М–Ї–Њ, // –Р —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Ї–∞–ґ—Г: // –Э–µ –Њ–і–љ–Њ—О –ґ–µ–љ–Ї–Њ–є // –Т –ґ–Є–Ј–љ–Є –і–Њ—А–Њ–ґ—Г. // –Ь–Є—А —Б—В–Њ–Є—В —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є, // –Э–∞ –Ј–≤–µ–Ј–і—Г –≥–ї—П–і–Є—В. // –£ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П // –Ф—Г–± —И—Г–Љ–Є—В¬ї.¬†вАФ –†–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М —Б—В–µ–љ—Г –Њ—В—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–Є—И—М –≥–µ–љ–Є—П–Љ:
–Ш –ї—О–±–≤–Є
–њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–µ–Љ
—Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–≤–Њ—С,
–Є–Ј —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–µ,
–∞ –љ–µ –Є–Ј –≤–∞—В—ЛвА¶¬†вАФ ¬† ¬† ¬†
–Т –њ–Њ—Н–Љ–∞—Е ¬Ђ–Ы—О–±–ї—О¬ї, ¬Ђ–Я—А–Њ —Н—В–Њ¬ї –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Њ —Б–µ–±–µ. –Т —Н–Ї—Б—В—А–∞–њ–Њ–ї—П—Ж–Є–Є вАФ –љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і. –С–µ–Ј–Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤–Њ —Б–Љ–µ—И–Є–≤–∞—П –ї–Є—А–Є–Ї—Г –Є —Н–њ–Њ—Б. –Ы—О–±–Њ–≤—М –Є –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ц–Є–Ј–љ—М –Є —Б–Љ–µ—А—В—М.¬†–°—Г–≥—Г–±–Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞ –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Ґ—А–∞–≥–µ–і–Є—П –і–Њ–Љ–∞—И–љ—П—П, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П вАФ –Њ–±–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —В—А–∞–≥–µ–і–Є–µ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є, –≤–љ–µ—И–љ–µ–є. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П ¬Ђ–Ї—Г—Е–Њ–љ–љ–∞—П¬ї —А–∞–і–Њ—Б—В—М вАФ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –∞–њ—А–Њ–±–∞—Ж–Є–Є —Б—Г—Й–µ–≥–Њ.¬†–Ш —Е–Њ—В—П –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М –Њ–њ–∞–ї–µ–љ–∞ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ, –Њ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ, –љ–Њ –Є вАФ —Б–Є–ї–∞, —В–∞–ї–∞–љ—В, –≥–љ–µ–≤. –Т—Б—С, —З—В–Њ –і–≤–Є–ґ–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –µ–≥–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ. –Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ. (–Ш–љ–∞—З–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.)¬†
–Ы—О–±–Њ–≤—М –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–∞, –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ –Њ–љ–∞ –≥—А–Њ–Љ–Є—В –Љ–µ—Й–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, —А–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–њ—Г—Е–Њ–ї—М—О –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–µ, —Б–≤–µ–ґ–µ–µ: ¬Ђ–£—А–∞–≥–∞–љ, –Њ–≥–Њ–љ—М, –≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ —А–ЊћБ–њ–Њ—В–µ¬ї.¬†–Ю—В—А–Є—Ж–∞—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –љ–µ—Г—С–Љ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ, –Љ–µ—З—Г—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ—Н—В—Л —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–µ: –С–∞–≥—А–Є—Ж–Ї–Є–є, –°–≤–µ—В–ї–Њ–≤, –Р—Б–µ–µ–≤, –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤. –ѓ—А—Л–Љ –љ–µ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Л–Љ —Ж—Г–љ–∞–Љ–Є –Њ–±—А—Г—И–Є–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ —Й–µ–і—А–Є–љ—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—Ж–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б–≤—П—В–Њ–Љ. –Ш—Б–Ї–Њ–≤–µ—А–Ї–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—И–ї–Њ–є –љ–Є—Й–µ—В–Њ–є –Є ¬Ђ—А–ґ–∞–≤—Л–Љ –µ–≤—А–µ–є—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞.¬†
–Ы—О–±–Њ–≤—М?
–Э–Њ —Б—К–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤—И–∞–Љ–Є –Ї–Њ—Б—Л;
–Ъ–ї—О—З–Є—Ж–∞, –≤—Л–њ–Є—А–∞—О—Й–∞—П –Ї–Њ—Б–Њ;
–Я—А—Л—Й–Є; –Њ–±–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б–µ–ї—С–і–Ї–Њ–є —А–Њ—В
–Ф–∞ —И–µ–Є –ї–Њ—И–∞–і–Є–љ—Л–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В.
–†–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є?
–Э–Њ, –≤ —Б—Г–Љ—А–∞–Ї–µ —Б—В–∞—А–µ—П,
–У–Њ—А–±–∞—В—Л, —Г–Ј–ї–Њ–≤–∞—В—Л –Є –і–Є–Ї–ЄћБ,
–Т –Љ–µ–љ—П –Ї–Є–і–∞—О—В —А–ґ–∞–≤—Л–µ –µ–≤—А–µ–Є
–Ю–±—А–Њ—Б—И–Є–µ —Й–µ—В–Є–љ–Њ–є –Ї—Г–ї–∞–Ї–Є.
–Ф–≤–µ—А—М! –Э–∞—Б—В–µ–ґ—М –і–≤–µ—А—М!
–Ъ–∞—З–∞–µ—В—Б—П —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є
–Ю–±–≥–ї–Њ–і–∞–љ–љ–∞—П –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –ї–Є—Б—В–≤–∞,
–Ф—Л–Љ–Є—В—Б—П –Љ–µ—Б—П—Ж –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є–љ–µ –ї—Г–ґ–Є,
–У—А–∞—З –≤–Њ–њ–Є–µ—В, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П—Й–Є–є —А–Њ–і—Б—В–≤–∞.
(–≠. –С–∞–≥—А–Є—Ж–Ї–Є–є)
–Ш —Н—В–Њ –≤–Њ—В –Є—Б—В–Њ—И–љ–Њ–µ ¬Ђ–љ–∞—Б—В–µ–ґ—М –і–≤–µ—А—М!¬ї, вАФ –≤ —З—С–Љ –Є—Й–µ—В –≤—Л—Е–Њ–і –С–∞–≥—А–Є—Ж–Ї–Є–є, вАФ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Ї–Њ—А—Л–Љ –Є—Б—Е–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П –њ–Њ—З–Є–≤—И–Є—Е –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Х—Б–µ–љ–Є–љ–∞, —Б–Њ–љ–Љ —Б–њ–µ—И–љ–Њ —Г–µ—Е–∞–≤—И–Є—Е –Є–Ј —Б—В—А–∞–љ—Л —Б–Њ—З–Є–љ–Є—В–µ–ї–µ–є, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤, —В–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤.¬†–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Ј–∞–љ—П—В–љ—Г—О —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ–є –ї–Є—А–Є–Ї–Є –і–∞–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1930-—Е –°–µ—А–≥–µ–є –®–≤–µ—Ж–Њ–≤. [–Т 1950-—Е вАФ –≥–ї–∞–≤—А–µ–і –ґ. ¬Ђ–Ъ—А–Њ–Ї–Њ–і–Є–ї¬ї.]
1925 –≥. –І—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ –≤–Ј—П—В–∞ –њ–Њ–і –њ—А–Є—Ж–µ–ї. –Я—Г—В—М –њ–Њ—Н—В–∞: —З–µ—А–µ–Ј –ї—О–±–Њ–≤—М вАФ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г.
–Я—А–Њ–Љ—Д–Є–љ–њ–ї–∞–љ —В—Л —Б—А—Л–≤–∞–µ—И—М, –Љ–Є–ї–Ї–∞!
–£—Е–Њ–і–Є, –Љ–љ–µ —В–µ–±—П –љ–µ –ґ–∞–ї–Ї–Њ!
–Ь–љ–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ –Ї–∞–Љ–љ–µ–і—А–Њ–±–Є–ї–Ї–∞
–Ш –Љ–Є–ї–µ–µ –±–µ—В–Њ–љ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Ї–∞!
1930 –≥. –Ы—О–±–Њ–≤—М –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–µ–љ—М–Ї–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є–і–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є —Б–Ї—А–µ–њ–∞–Љ–Є вАФ —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–Є—Б–Ї—Г—А—Б–Њ–Љ.
–Ю—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ —В–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Њ—Д—Б—В–∞–ґ–µ–Љ,
–Ч–∞–±–Њ–ї–µ–ї —П —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–ЉвА¶
–Ь—Л —Б –Љ–µ—Б—В–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –ї—О–±–Њ–≤—М —Г–≤—П–ґ–µ–Љ,
–°–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ–Љ –µ—С —Б –Э–∞—А–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ!
1936 –≥. –Я–Њ–ї–љ—Л–є –Њ—В—А—Л–≤ ¬Ђ–ї–Є—А–Є–Ї–∞—О—Й–µ–є –ї–Є—А–Є–Ї–Є¬ї (—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ) вАФ –Њ—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ш –±—Л–ї–Њ –Њ—В —З–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ.
–Э–∞–і –њ–Њ–ї—П–Љ–Є —Й–µ–±–µ—З—Г—В –њ—В–∞—И–Ї–Є,
–Т–Њ–Ј–ї–µ –±—Г–і–Ї–Є —Ж–≤–µ—В—Г—В –љ–µ–Ј–∞–±—Г–і–Ї–Є,
–ѓ —Б–Є–ґ—Г —Г –Љ–Њ–µ–є –Љ–Є–ї–∞—И–Ї–Є
–Ш —Ж–µ–ї—Г—О—Б—М —Б –љ–µ–є –Ї—А—Г–≥–ї—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є.¬†
–Ъ–Њ–љ–µ—Ж –∞–њ–Њ–њ–ї–µ–Ї—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е 30-—Е –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї –ї–Є—А–Є–Ї—Г –Ї –Є—Б—В–Њ–Ї–∞–Љ... –∞—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ы–Є—И—М –±—Л –љ–µ –Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П.¬†–≠—В–Њ –Є –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–∞—П –і—А–∞–Љ–∞ –ї—О–±–≤–Є –Є –±—А–∞–Ї–∞ –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ –Ы–µ—Б–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ–Ї–Є вАФ ¬Ђ–Є–Ј —Б—Г–Љ—А–∞–Ї–∞ –≤—А–µ–Љ—С–љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е¬ї. –Ш –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В –Ї —В—О—В—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г ¬Ђ–±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤—Г¬ї. –Ш –±–ї–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—В–Є–≤—Г –Њ—В—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В –Љ–Є—А–∞.¬†–≠—В–Њ –Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–µ ¬Ђ–њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П¬ї –Ј–∞–≤–µ—В–∞–Љ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –Р. –Ь–∞–Ї–∞—А–µ–љ–Ї–Њ —Б –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–Њ–Љ: ¬Ђ–Т–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–є—В–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –≤–ї—О–±–ї—С–љ–љ—Л—Е!¬ї:
–Ы—О–±–Њ–≤—М—О –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М —Г–Љ–µ–є—В–µ,
–° –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –≤–і–≤–Њ–є–љ–µ.
–Ы—О–±–Њ–≤—М вАФ –љ–µ –≤–Ј–і–Њ—Е–Є –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–µ
–Ш –љ–µ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–Є –њ—А–Є –ї—Г–љ–µ.
(–°. –©–Є–њ–∞—З—С–≤)
–Ш –њ–Њ—Н—В—Л –≤—В–Њ—А–Є–ї–Є. –Я–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–µ–≤–∞—П –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –†–∞–Ј–±–Є—А–∞—П –љ–∞ —Ж–Є—В–∞—В—Л. [–Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–µ–є—И—Г—О —Й–Є–њ–∞—З—С–≤—Б–Ї—Г—О ¬Ђ–Ы—О–±–Њ–≤—М¬ї: –Ґ–µ–љ–і—А—П–Ї–Њ–≤ (¬Ђ–Э–µ –Ї–Њ –і–≤–Њ—А—Г¬ї), –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–љ (¬Ђ–§–∞–±—А–Є—З–љ–∞—П –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–∞¬ї), –Љ–љ. –і—А.] –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –ї–Є—А–Є–Ї–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї, —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М: ¬ЂвА¶–Є–і–Є –Є –≥–Є–±–љ–Є –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ¬ї. (–Ъ. –І—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є)¬†
–Ґ—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Ґ–≤–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞, –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–±–љ–∞–і—С–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ.¬†–Ц–Є–Ј–љ—М вАФ –і–∞, –њ—А–Њ–ґ–Є—В–∞ –Ј—А—П. –Э–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –≤–µ—Б–µ–ї—П—Й–∞—П—Б—П –≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ —З—Г–ґ–∞—П —О–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—О –љ–µ–Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–∞–ї—М—Б–∞ вАФ –Ј–≤—Г—З–Є—В –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –љ–∞ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А—Г—О ¬Ђ–њ–µ—А–µ–Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г¬ї. –Э–∞ –љ–Њ–≤—Г—О —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Г—О –ї—О–±–Њ–≤—М. –С–µ–Ј –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–±—П–Ј–∞–ї–Њ–≤–Ї–Є –Є... –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є—П 37 –≥–Њ–і–∞.¬†
–Т–Њ—В –њ–Њ—Б–Є–і–Є–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–Є–Љ –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є,
–С—Г–і—В–Њ –Љ—Л вАФ –њ–∞—А–µ–љ—М –і–∞ –і–µ–≤–Ї–∞ —Б —В–Њ–±–Њ–є.
–Ъ–∞–Љ—Г—И–Ї–Є –Љ–Њ–µ—В –≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–і –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ,
–Т—Б–ї—Г—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б–Њ–ї–Њ–≤–µ–є –Ј–∞ –Ї—Г—Б—В–Њ–Љ.
–С–µ–ї—Л–µ –Ј–≤—С–Ј–і—Л –Љ–Є–≥–∞—О—В –≤ —А–µ–Ї–µ.
–Т–∞–ї—М—Б—Л –Є–≥—А–∞–µ—В –≥–∞—А–Љ–Њ–љ—М –≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ.¬†