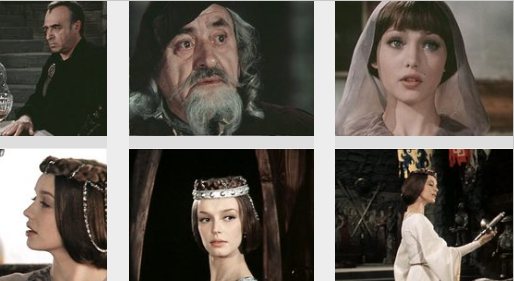В«РһР№РәСғРјРөРҪР° 2.0В». РӨРёР·РёРәРё Рё лиСҖРёРәРёвҖҰ Рё С…РёРјРёРәРё, Рё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРё
В«РһР№РәСғРјРөРҪР° 2.0В». РӨРёР·РёРәРё Рё лиСҖРёРәРёвҖҰ Рё С…РёРјРёРәРё, Рё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРё
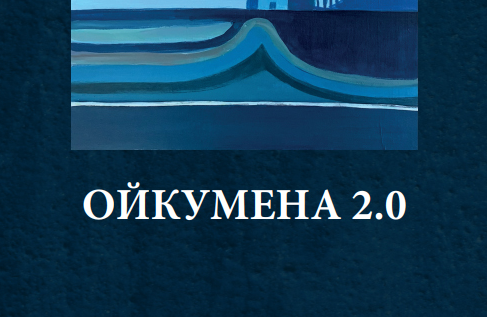
РһСӮ СҖРөРҙР°РәСҶРёРё
РҳР·РІРөСҒСӮРҪСғСҺ СҒ РәРҫРҪСҶР° 1950-С… РҙРёС…РҫСӮРҫРјРёСҺ В«РӨРёР·РёРәРё Рё лиСҖРёРәРёВ» РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸРөРјР°СҸ РәРҪРёРіР° СҖР°СҒСҲРёСҖСҸРөСӮ РІ СҒамРҫРј РҝСҖСҸРјРҫРј СҒРјСӢСҒР»Рө. РһРҙРёРҪ РёР· авСӮРҫСҖРҫРІ РәРҪРёРіРё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ вҖ” РөСүРө Рё СғСҮРөРҪСӢР№-С…РёРјРёРә, РҝСҖРёСҮРөРј РІСӢСҒРҫСҮайСҲРөРіРҫ СҖР°РҪРіР°: СҮР»РөРҪ-РәРҫСҖСҖРөСҒРҝРҫРҪРҙРөРҪСӮ Р РҗРқ (РһСӮРҙРөР»РөРҪРёРө С…РёРјРёРё Рё РҪР°СғРә Рҫ РјР°СӮРөСҖиалах), РҙРҫРәСӮРҫСҖ С…РёРјРёСҮРөСҒРәРёС… РҪР°СғРә, РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖ, лаСғСҖРөР°СӮ Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё Р РӨ РІ РҫРұлаСҒСӮРё РҪР°СғРәРё Рё СӮРөС…РҪРёРәРё (1992), лаСғСҖРөР°СӮ РҹРөСҖРІРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё РёРј. Р’. РҹРҫРҝРәРҫРІР° (2009). РқРҫ РјРҫР¶РөСӮ РәСҖСғРҝРҪСӢР№ СғСҮРөРҪСӢР№ Рё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРә-Р»СҺРұРёСӮРөР»СҢ?
РқРөРІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РҪРҫ Рҗ.Р“. РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ вҖ” РөСүС‘ Рё: РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ СҮР»РөРҪ (Р°РәР°РҙРөРјРёРә) Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ (РһСӮРҙРөР»РөРҪРёРө живРҫРҝРёСҒРё), СҮР»РөРҪ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫСҺР·Р° С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ, СҮР»РөРҪ РўРІРҫСҖСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫСҺР·Р° С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРІ.В
РЎРҝСҖавРәР°:
РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ РҪагСҖажРҙС‘РҪ РјРөРҙалСҢСҺ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ «За Р·Р°СҒР»СғРіРё РҝРөСҖРөРҙ РҗРәР°РҙРөРјРёРөР№В» (2017), РЎРөСҖРөРұСҖСҸРҪРҫР№ РјРөРҙалСҢСҺ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ (2018), РјРөРҙалСҢСҺ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІ «ДРҫСҒСӮРҫР№РҪРҫРјСғВ» (2022), РҹРҫСҮРөСӮРҪРҫР№ РіСҖамРҫСӮРҫР№ РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮР° Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РӨРөРҙРөСҖР°СҶРёРё Р·Р° Р·Р°СҒР»СғРіРё РІ СҖазвиСӮРёРё РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҪР°СғРәРё, РјРҪРҫРіРҫР»РөСӮРҪСҺСҺ РҝР»РҫРҙРҫСӮРІРҫСҖРҪСғСҺ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РІ СҒРІСҸР·Рё СҒ 300-Р»РөСӮРёРөРј СҒРҫ РҙРҪСҸ РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёСҸ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё РҪР°СғРә (2024).В РҹСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёСҸ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІР° С…СҖР°РҪСҸСӮСҒСҸ РІ БаСҲРәРёСҖСҒРәРҫРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј РјСғР·РөРө РёРј. Рң.Р’. РқРөСҒСӮРөСҖРҫРІР° (Уфа), РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј РјСғР·РөРө «ДРҫРј Р‘СғСҖРіР°РҪРҫва» (РңРҫСҒРәРІР°), РҗСҖС…РёРІРө Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё РҪР°СғРә (РңРҫСҒРәРІР°), РІ СҮР°СҒСӮРҪСӢС… СҒРҫРұСҖР°РҪРёСҸС… РІ Р РҫСҒСҒРёРё Рё Р·Р° СҖСғРұРөР¶РҫРј.В
РЎРҫРөРҙРёРҪРөРҪРёРө РІСӢСҒРҫРәРёС… РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІ Рё РҪР°СғРә РҝСҖРҫРҙРҫлжаРөСӮ Рё РІСӮРҫСҖРҫР№ авСӮРҫСҖ: РҝРҫСҚСӮ, СҮСҢРё СҒСӮРёС…Рё РҝСғРұлиРәРҫвали Р¶СғСҖРҪал «ЮРҪРҫСҒСӮСҢВ» Рё РҙСҖСғРіРёРө, Р° СӮР°Рә Р¶Рө вҖ” РёРҪР¶РөРҪРөСҖ-СӮРөРҝР»РҫфизиРә Рё РҫРҙРёРҪ РёР· РІРөРҙСғСүРёС… РҪР°СғСҮРҪСӢС… Р¶СғСҖРҪалиСҒСӮРҫРІ Р РҫСҒСҒРёРё, СҒРҫРұРөСҒРөРҙРҪРёРә РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РІСҒРөС… лиРҙРөСҖРҫРІ РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҪР°СғРәРё.
РЎРҝСҖавРәР°:
РҗРҪРҙСҖРөР№ ВагаРҪРҫРІ РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖ РҝСҖРёР»РҫР¶РөРҪРёСҸ В«РқР“-РҪР°СғРәа» В«РқРөзавиСҒРёРјРҫР№ газРөСӮСӢВ», авСӮРҫСҖ РҪР°СғСҮРҪРҫ-РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪСӢС… РәРҪРёРі Рё СҒСӮРёС…РҫСӮРІРҫСҖРөРҪРёР№.В РӣР°СғСҖРөР°СӮ РҝСҖРөРјРёРё РЎРҫСҺР·Р° Р¶СғСҖРҪалиСҒСӮРҫРІ Р РҫСҒСҒРёРё (2001); РӣР°СғСҖРөР°СӮ РӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё РёРјРөРҪРё РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° Р‘РөР»СҸРөРІР° РІ РҪРҫРјРёРҪР°СҶРёРё «За РәСҖРёСӮРёРәСғ РІ РҫРұлаСҒСӮРё РҪР°СғСҮРҪРҫ-С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢВ» (2013); РӨРёРҪалиСҒСӮ РәРҫРҪРәСғСҖСҒР° РҗСҒСҒРҫСҶРёР°СҶРёРё РұСҖРёСӮР°РҪСҒРәРёС… авСӮРҫСҖРҫРІ, РҝРёСҲСғСүРёС… Рҫ РҪР°СғРәРө (ABSW) В«European Science Writer of the Year 2017В», РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»СҢ РІ РҪРҫРјРёРҪР°СҶРёРё В«Russian Science Writer of the yearВ».В
РҹРҫ замСӢСҒР»Сғ авСӮРҫСҖРҫРІ вҖ” РҙРІР° РІСҖРҫРҙРө РұСӢ РҝСҖРёРҪСҶРёРҝиалСҢРҪРҫ СҖазРҪСӢС… СҒРҝРҫСҒРҫРұР° РІРҫСҒРҝСҖРёСҸСӮРёСҸ РҫРәСҖСғжаСҺСүРөР№ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё: СҖРёСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ Рё РІРёР·СғалСҢРҪСӢР№, РҙРІРө РҫР№РәСғРјРөРҪСӢ, РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫ РҝРөСҖРөСҒРөРәлиСҒСҢ. Рҳ РҙРҫРҝРҫР»РҪили РҫРҙРҪР° РҙСҖСғРіСғСҺ. ВзаимРҪРҫРө РәРҫРҪСӮРөРәСҒСӮСғалСҢРҪРҫРө РҙавлРөРҪРёРө РҝРҫСҖРҫР¶РҙР°РөСӮ СҒСӮРөСҖРөРҫСҒРәРҫРҝРёСҮРөСҒРәРёР№ СҚффРөРәСӮ вҖ” В«РһР№РәСғРјРөРҪР° 2.0В».В
РҳРіРҫСҖСҢ РЁСғРјРөР№РәРҫ
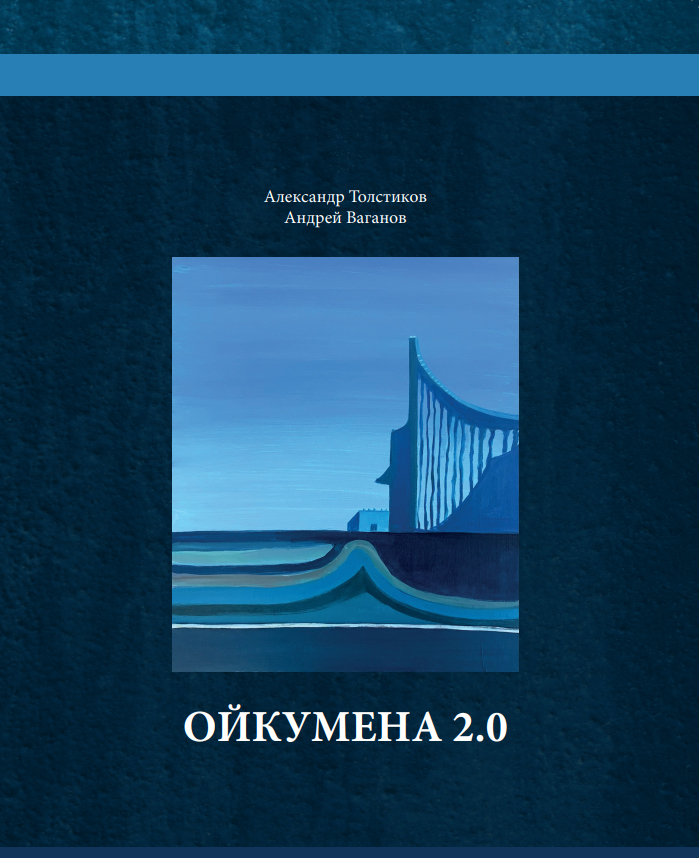 вҖӢ
вҖӢ
![]() вҖӢ
вҖӢ
Рҗхилл
Рҗхилл РҪРө РҙРҫРіРҫРҪСҸРөСӮвҖҰ Р§РөСҖРөРҝаха,
РҫСӮРҪСҺРҙСҢ РҪРө РҝСҖилагаСҸ СҒРІРөСҖС…СғСҒилий,
СғСӮРәРҪСғРІСҲРёСҒСҢ РҪРҫСҒРҫРј РІ Р·РөРјР»СҺ, СҮСӮРҫ СӮРІРҫР№ РҝахаСҖСҢ,
СҒРёРјРІРҫлизиСҖСғРөСӮ СҒРҫРұРҫР№ СӮСҖРёСғРјС„ СҖРөРҝСӮилий.
Рҗхилла жалСҢ, РІРөРҙСҢ РҫРҪ СҒРҫРІСҒРөРј РҪРө С…РёР»,
РҪРҫ РҫРҪ РҪРө Р·РҪР°РөСӮ флСҺРәСҒРёР№ РҝРҫ РәР°СҒР°СӮРөР»СҢРҪРҫР№.
Р•СүС‘ СҮСғСӮСҢ-СҮСғСӮСҢ вҖ” Рё РҫРҪ РҝРҫСҖРІС‘СӮ СҒРөРұРө ахилл
РҫСӮ РҝРөСҖРөРҪР°РҝСҖСҸР¶РөРҪСҢСҸ. РҹРҫРәазаСӮРөР»СҢРҪРҫ,
СҮСӮРҫ РІ СҚСӮРҫРј СҒР»РҫРІРҫРұР»СғРҙ Р—РөРҪРҫРҪ РІРёРҪРҫРІРөРҪ:
«ДвижРөРҪСҢСҸ РҪРөСӮВ» вҖ” РІСҒСҸ СҒСғСӮСҢ РөРіРҫ Р°РҝРҫСҖРёР№.
РЎРөРіРҫРҙРҪСҸ СҚСӮРҫСӮ РҝР°СҖР°РҙРҫРәСҒ РҪРө РІРҪРҫРІРө,
Р° РІ Р”СҖРөРІРҪРөР№ Р“СҖРөСҶРёРё вҖ” РҪСғ РәСӮРҫ Рұ РөРіРҫ РҫСҒРҝРҫСҖРёР»?В
Рҗхилла жалСҢ, РҫРҪ РІСӢРұРёР»СҒСҸ РёР· СҒРёР».
РқРҫ РҙРөР»Рҫ, СҒСӮСҖРҫРіРҫ РіРҫРІРҫСҖСҸ, РҪРө РІ СӮРҫРј,
РәСӮРҫ СҚСӮСғ РәР°СҲСғ СҒ СҮРөСҖРөРҝахРҫР№ заваСҖРёР»,
РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ СҖР°СҒС…Р»РөРұал РөС‘ РқРөРІСӮРҫРҪ.
Рҗхилла жалСҢ. РҘРҫСӮСҢ РҫРҪ Рё РҝРҫР»СғРұРҫРі,
Рё РІ Р“СҖРөСҶРёРё РҪайСӮРё РҪам РұСғРҙРөСӮ СҒР»РҫР¶РҪРҫ
СӮР°РәСғСҺ РҝР°СҖСғ РұСӢСҒСӮСҖРҫС…РҫРҙРҪСӢС… РҪРҫРі
СҒ СӮР°РәРёРј СҖРөР»СҢРөС„РҫРј РјСӢСҲСҶСӢ РёРәСҖРҫРҪРҫР¶РҪРҫР№,В вҖ”
ахРөР№СҶСӢ РҫРұРҫжали физРәСғР»СҢСӮСғСҖСғ,
РҪРҫ РҪРө РҙРҫРҙСғмалиСҒСҢ РөСүС‘ РҙРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙРҪСӢС…,В вҖ”
Рё РІРҫСӮ, СҒРҫ РІСҒРөР№ СҒРІРҫРөР№ РјСғСҒРәСғлаСӮСғСҖРҫР№,
Рҗхилл РҝСҖРҫРёРіСҖСӢРІР°РөСӮ РІ РіРҫРҪРәРө СҒ Р·РөРјРҪРҫРІРҫРҙРҪСӢРј.В
Рҗхилла жалСҢ вҖ” РҫРҪ РҪРө СҒилёРҪ РІ РҝСҖРөРҙРөлах.
(РҹРҫРҪСҸСӮРҪРҫ: Р·РҙРөСҒСҢ РҫРҝСҸСӮСҢ Р—РөРҪРҫРҪРҫРј РҝахРҪРөСӮ.)
РқРҫ, РҙажРө РәСҖСӢР»СҢСҸ Р·Р° СҒРҝРёРҪСғ РҝСҖРёРҙРөлав,
Рҗхилл РҪРө РҙРҫРіРҫРҪСҸРөСӮ. Р§РөСҖРөРҝаха
РІРҝРҫлзаРөСӮ РІ РұРөСҒРәРҫРҪРөСҮРҪРҫСҒСӮСҢ РҪРөСғРәР»СҺР¶Рө,
РҝРөСҖРөСӮРёСҖР°СҸ РІСҖРөРјСҸ Рё РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ
РұРөР·Р·СғРұСӢРј СҖСӮРҫРј, Рё РұСҖСҺС…РҫРј РёС… СғСӮСҺжа.
Рҳ СҮРөСҖРөР· СҚСӮРҫСӮ РјРҫМҒСҖРҫРә РҪРө РҝСҖРҫСҖРІР°СӮСҢСҒСҸ.
Рҳ СҸ СҒРөРұРө РәажСғСҒСҢ СӮР°РәРёРј РҗхиллРҫРј.
Р’ СӮСҸРіСғСҮРёС… СҒРҪах, РҪР°СҖРөР·Р°РҪРҪСӢС… Р»РҫРјСӮСҸРјРё,
РҪР° миллимРөСӮСҖ СҒРҙРІРёРҪСғСӮСҢСҒСҸ РҪРө РІ СҒилах,
СҸ РІСҒС‘ Р¶Рө РұРөСҲРөРҪРҫ СҖР°РұРҫСӮР°СҺ Р»РҫРәСӮСҸРјРё.
ДвижРөРҪСҢСҸ РҪРөСӮ. Рҳ РІРҫР·РҙСғС… РҪР° РёСҒС…РҫРҙРө.
Рҗхилл РҪРө РҙРҫРіРҫРҪСҸРөСӮ СҮРөСҖРөРҝахСғ.
РЎСӮСҖРөла РҪРө РҙРҫР»РөСӮР°РөСӮ. РҹСғСӮСҢ СҒРІРҫРұРҫРҙРөРҪвҖҰ
РҗС…, РәР°Рә РҪРөРәСҒСӮР°СӮРё вҖ” СҖР°СҒСӮСҸР¶РөРҪСҢРө Рҝаха.

Р’РёСӮРҫРә РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ, 1997. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. 80 С… 80
* * *
Р’РҫСӮ РҫРҪ, РҝСҖРёРҝРөРІ СҒСғРҙСҢРұСӢ,
Рҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РјРҫР¶РҪРҫ РјРөСҮСӮР°СӮСҢ:
СҒСӮР°СҖРөСӮСҢ Сғ Р‘РҫР»СҢСҲРҫР№ Р’РҫРҙСӢ
Рё РҝРҫСӮРёС…РҫРҪСҢРәСғ РәРёСҖСҸСӮСҢ
СҒРҫРІСҒРөРј РјРҫР»РҫРҙРҫРө РІРёРҪРҫ;
СҒРјРҫСӮСҖРөСӮСҢ РҪР° РјРёСҖ СҒ РІСӢСҒРҫСӮСӢ
РҪРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸ, РҪРҫ
СӮРҫСҮРәРё РіРҫСҖРҪРҫР№ РіСҖСҸРҙСӢ.
РҗРҝСӮРөРәР°, Р·РёРҪРҙР°РҪ, СҮайхаРҪР°
(РҝРёРІРҫ вҖ” СҖиал Р·Р° РәРІР°СҖСӮСғ!)
СаиРҙ вҖ” СҮРёСӮай: РЎР°СӮР°РҪР°! вҖ”
РҝР°СҖСӮРҪРөСҖ РҝРҫ РёРіСҖРө РІ РҪР°СҖРҙСӢ.
Р’СҖРөРјСҸ РІРҝР°РҙР°РөСӮ Р·РҙРөСҒСҢ
РІ завиСҒРёРјРҫСҒСӮСҢ РҫСӮ РҝРөйзажа
Рё РјР°СӮРөСҖРөРөСӮ: РІР·РІРөСҒСҢ,
РҪРөРәРёР№ РәРҫллРҫРёРҙ РҙажРө.
РўРёС…РёР№, РҝСғСҒСӮРҫР№ РіРҫСҖРҫРҙРҫРә,
СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ (РІ СҖавРҪСӢС… РҙРҫР»СҸС…)
СҒРҫР»РҪСҶР° Рё РҝСӢли. Р‘РҫРі
Р·РҪР°РөСӮ СҮСӮРҫ РІ СҚСӮРёС… РәСҖР°СҸС…
лаСҒРәР°РөСӮ РҝамСҸСӮСҢ Рё РІР·РҫСҖ,
СҮРөРјСғ Рё РҪазваРҪРёСҸ РҪРөСӮ вҖ”
РІРөСҒСҢ СҚСӮРҫСӮ СҒСғСүРёР№ РІР·РҙРҫСҖ
РҪР° СҒРәР»РҫРҪРө РіРҫСҖСӢ Рё Р»РөСӮ...
* * *
Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ Рё РҪР°СҒ РҝРҫРәСҖРҫРөСӮ СҒРІРҫРөСҺ СҒлавРҫСҺ,
РІРҫ РІСҒСҸРәРҫРј СҒР»СғСҮР°Рө вҖ” РҝРөРҝР»РҫРј, РІСғР»РәР°РҪРёСҮРөСҒРәРҫР№ лавРҫСҺ.
РңРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ РҝРҫ СҖР°СҒСҮС‘СӮСғ, СҒРәРҫСҖРөРө РІСҒРөРіРҫ вҖ” СҒРҙСғСҖСғ,
Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ Рё РҪР°СҒ РІРҝРёСҲРөСӮ РІ Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮСғСҖСғ
РұСғРҙСҢ СӮРҫ: лагСғРҪР°, РҝР»РҫСүР°РҙСҢ, РәРҫР»РҫРҪРҪР°, РәСҖСӢлаСӮСӢР№ Р»РөРІ, вҖ”
РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҪРөРұРҫ СүРөРәРҫСҮРөСӮ, вҖ” Р°СҖС…РёСӮСҖав, РұР°СҖРөР»СҢРөС„вҖҰ
Рҳли, РІРҫР·СҢмём РұлижРө, РұСҖРөРІРөРҪСҮР°СӮСӢР№ РҝСҸСӮРёСҒСӮРөРҪРҫРә:
Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ Рё РІСӢлижРөСӮ РҝамСҸСӮСҢ Рҫ РҪР°СҒ РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ
РҙРҫ СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ СҒСӮСҖСғРіР°РҪРҪРҫР№ РҝРҫР»РҫРІРёСҶСӢ РІ РёР·РұРөвҖҰ
Р’СҖРөРјСҸ РёРҙС‘СӮ РёР· РҝСғРҪРәСӮР° В«РҗВ» РІ РҪРөСҒСғСүРөСҒСӮРІСғСҺСүРёР№ «Б» -В
РІРҪРө РІСҒСҸРәРҫР№ РјРҫСҖали, РҪРө лиСҲРөРҪРҫ СҚСҒСӮРөСӮРёРәРё,
РҝСҖРёСҖР°СҒСӮР°СҸ РҪСғР»СҸРјРё Рё РҝСҖРҫСҒСӮавлСҸСҸ РәСҖРөСҒСӮРёРәРё.
РһСӮСҒСҺРҙР° вҖ” СҚСӮРҫ РҝРҫРІРөСӮСҖРёРө, РөСҒли СӮР°Рә РјРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ:
малРҫ РәСӮРҫ С…РҫСҮРөСӮ РұРөСҒСҒРјРөСҖСӮРёСҸ, РІСҒРөРіРҫ лиСҲСҢ вҖ” РҪРө СғРјРёСҖР°СӮСҢ.В
РҜ-СӮРҫ Р·РҪР°СҺ СҒРІРҫС‘ вҖ” РҪРө РіРҫРІРҫСҖРё, СҮСӮРҫ Р¶РөСҒСӮРҫРә! вҖ”
РјРөСҒСӮРҫ, РәР°Рә СӮРҫСӮ СҒРІРөСҖСҮРҫРә, РҝРҫСҒажРөРҪРҪСӢР№ РҪР° СҲРөСҒСӮРҫРә.
РЎ СӮРҫСҮРәРё Р·СҖРөРҪСҢСҸ Р¶СғРәР°, РјРёСҖ РҪРөРҝСҖРҫСҒСӮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝСҖРҫСҒСӮ:
Р’СҖРөРјСҸ РҝСҖРёРҙС‘СӮ вҖ” РҪР° РҪР°СҒ РІСӢР»СҢРөСӮ СҒРІРҫР№ РәСғРҝРҫСҖРҫСҒ,
СҒСӮРөСҖилизСғРөСӮ РҫСӮ РІРөР·РҙРөСҒСғСүРөР№ РҫСҖРіР°РҪРёРәРёВ
РҹСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІР° СҒРәРІРҫР·РҪРҫР№ РҝСҖРҫлёСӮ. РқР°СҒ СҒРҙРөлаРөСӮ РәСҖайРҪРёРјРё вҖ”
СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР°РұРҫСҖРҫРј РұСғРәРІ, РІРҪРө РІСҒСҸРәРҫР№ СҒРөРјР°РҪСӮРёРәРё.
«ЧСӮРҫ СҚСӮРҫ?В» вҖ” СҒРҝСҖРҫСҒРёСӮ РІРҪСғРә, РҪРҫ РІСҖСҸРҙ ли РҝСҖавРҪСғСҮРәР° СҒ РұР°РҪСӮРёРәРҫРј.
Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, Рё СҚСӮРҫ РҝСҖРҫР№РҙС‘СӮ. Р’РҫСӮ СӮРөРұРө РјРҫР№ СҒРәаз:
Р’СҖРөРјСҸ РІРҫР·СҢРјС‘СӮ СҒРІРҫС‘, Рё РҪРө РҝСҖРҫРҝСғСҒСӮРёСӮ РҪР°СҒ.

РҰРёСӮР°РҙРөР»СҢ, 2024. РҘРҫР»СҒСӮ РҪР° РәР°СҖСӮРҫРҪРө, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 60 С… 50
Р—РёРҪРө
РўР°Рә РјРҪРҫРіРҫ СҖифм РҝСҖРёС…РҫРҙРёСӮСҒСҸ РҪР° «ЗиРҪРөВ»,
СҮСӮРҫ РјРҫР¶РҪРҫ Р·Р°РҝРҫРҙРҫР·СҖРёСӮСҢ СӮайРҪСӢР№ СҒРјСӢСҒР». РҡР°Рә СӮРҫ,
РҝРҫСҮСӮРё РҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРө: В«РңСӢ РІСӢРјРҫРөРј РІ РұРөРҪР·РёРҪРөвҖҰВ».
(РЎРј. РҝРҫРҙСҖРҫРұРҪРөРө Сғ РҗРіРҪРёРё БаСҖСӮРҫ.)
РўРҫР»СҒСӮРёРәРҫРІ, РҜ Р·РҪал РҫРҙРҪСғ, СӮРөРұСҸ, РҪРө СҖифмСғ, вҖ” Р—РёРҪСғ.
РҡР°Рә СҒРҫРҫРұСүР°РөСӮ РҙамСҒРәРёР№ magazine:
РҝРҫ РҙР°РҪРҪСӢРј РіРҫСҖРҫРҙСҒРәРҫРіРҫ Р—РҗГСа, РІ СҚСӮСғ Р·РёРјСғ,
Рё РҙРІР°РҙСҶР°СӮСҢ РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРёС… Р·РёРј,
РҪРҫРІРҫСҖРҫР¶РҙРөРҪРҪСӢС… РҙРөРІРҫСҮРөРә РҪРө РҪазСӢвали «ЗиРҪа».
Р’ С…РҫРҙСғ РұРёРұР»РөР№СҒРәРҫРө вҖ” РңР°СҖРёСҸ; Юли, РҗРҪРҪСӢ
Рё РҝСҖРҫСҮ. Р°РҪСӮРёСҮРҪРҫСҒСӮСҢ РҝСҖС‘СӮ, РұРөР· вазРөлиРҪР°!
Р—РёРҪ вҖ” РҪРё РҫРҙРҪРҫР№. Р§СӮРҫ СҒСӮСҖР°РҪРҪРҫ.
РңРҪРө РҝРҫРІРөР·Р»Рҫ, СҸ Р·РҪал РҫРҙРҪСғ РёР· Р—РёРҪ вҖ”
СӮРөРұСҸ. РўРөРҝРөСҖСҢ СӮРөРұСҸ РҪРө СҒСӮалРҫ.В
РўСӢ СғРјРөСҖла. Рҳ РҪРҫРөСӮ РјСғСҚРҙР·РёРҪ,
Рё РҝРҫРҝ РұСғРұРҪРёСӮ РјРҫлиСӮРІСғ. РўР°Рә СҒРҫРІРҝалРҫ,
СҸ Р·РҪал СӮРөРұСҸ, РҝРҫСҒР»РөРҙРҪСҺСҺ РёР· Р—РёРҪ,
РҝРҫ РәСҖайРҪРөР№ РјРөСҖРө, РІ РјРҫРөР№ СҮР°СҒСӮРҪРҫР№ жизРҪРё.
РўРөРҝРөСҖСҢ РІСҒС‘ СҸСҒРҪРҫ: СҚСӮРҫ РјРҪРө Р·РІРҫРҪРҫСҮРөРә вҖ” «ДзиРҪСҢ!В»
Рҳ РҪРө РҝРҫРјРҫР¶РөСӮ вҖ” В«СҒРҫР»РҪСҶРө, СҸСҖСҮРө РұСҖСӢР·РҪРё!В»
Р’ С…РёСӮРҫРҪРө, Р°, РҝРҫ-РҪР°СҲРөРјСғ, РІ халаСӮРө,
РҡСҖРҫРҪРёРҙ Р—РөРІРөСҒ, вҖ” РҝРҫР»Рҫжим, РәСӮРҫ РҪРө РҝРҫРјРҪРёСӮ, вҖ”
РІСҒРөС… РҫлимРҝРёР№СҒРәРёС… РҙРөРІРҫРә РҫРұСҖСҺС…Р°СӮРёР»,
Рё РјРҪРҫРіРёС… вҖ” РІ РёР·РІСҖР°СүС‘РҪРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРө.
Р”РҫСҮСҢ Р—РөРІСҒР° вҖ” Р—РөРҪРө РҳРҙР°, Р—РёРҪаиРҙР°,
РҝСҖРҫСҒСӮРё Р·Р° фамилСҢСҸСҖРҪРҫСҒСӮСҢ: Р—РёРҪ, РҙР° Р—РёРҪвҖҰ
РўРөРҝРөСҖСҢ СӮСӢ Рә РҙСҸРҙСҢРәРө СҒРІРҫРөРјСғ, Рә РҗРёРҙСғ,
СғС…РҫРҙРёСҲСҢ. РЈСҲла СғР¶Рө. РҡР°Рә РёР· РұСғСӮСӢР»РәРё ДжиРҪ
СӮСӢ СғСҒРәРҫР»СҢР·РҪСғла; РІСҖСҸРҙ ли РҪР° СҒРІРҫРұРҫРҙСғ.
РЎРІРҫРұРҫРҙР° вҖ” СҚСӮРҫ СӮРҫ, СҮСӮРҫ РјСӢ Р·РөРІРҪСғли.
РқСғ, РІ РҫРұСүРөРј, СӮСӢ СғСҲла. Рҳ СҚСӮСғ РҫРҙСғ
СӮРөРҝРөСҖСҢ РІРҙРҫРіРҫРҪРәСғ СҲР»СҺ СӮРөРұРө, Р—РёРҪСғР»СҸ.
РһРұРёРҙСӢ РјС‘СҖСӮРІСӢС… РјСғСҮР°СҺСӮ живСӢС… вҖ”
СӮР°Рә РҝамСҸСӮСҢ РҝРҫСҒСӮавлСҸРөСӮ РІ РјРҫР·Рі СӮРҫРәСҒРёРҪСӢ,
СҮСӮРҫРұ РҫРҪ РҫСӮ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… Р·РІСғРәРҫРІ РҪРө РҫСӮРІСӢРә
РҝРҫРәР° С…РІР°СӮР°РөСӮ СҒРёР» Сғ РңРҪРөРјРҫР·РёРҪСӢ.
РҹРҫРәР° РІ Р·Р°РҝР°СҒРө РІСҖРөРјСҸ Рё РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ, вҖ”
СҒРҫСҺР·, РҝРҫРјРөСҲР°РҪРҪСӢР№ РҪР° РәазРөРёРҪРө! вҖ”
РјРҫР·Рі РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РҝРҫРІСӮРҫСҖСҸРөСӮ СҚСӮРё СҒСӮР°РҪСҒСӢ,
СҲлифСғСҸ СҖифмСӢ Рә «ЗиРҪа», «ЗиРҪСғВ», «ЗиРҪРөВ».В
РўСӢ СғРјРөСҖла. Рҳ РјРөРҪСҢСҲРө СҒСӮалРҫ Р—РёРҪРҫР№.
РқРҫ СҚСӮРҫСӮ РјРёСҖ РҝСӢС…СӮРёСӮ, РәР°Рә завРҫРҙРҪРҫР№,
РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҸ жиСҖСӢ, РұРөР»РәРё, СҚРҪР·РёРјСӢ
РҪР° РҙСғСҲСғ РҪР°СҒРөР»РөРҪСҢСҸвҖҰ Р—РёРҪ вҖ” РҪРё РҫРҙРҪРҫР№.
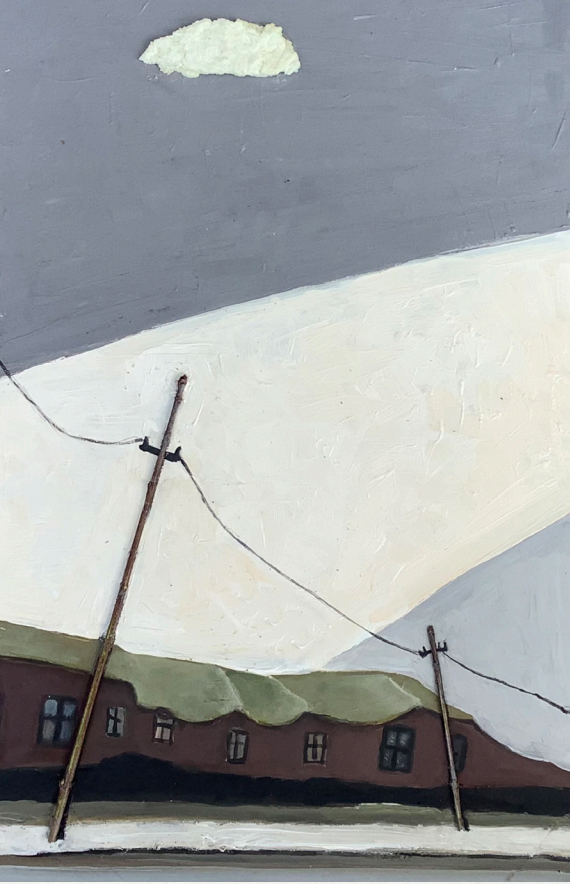
ГлСғРұРёРҪРәР°, 2024. РҡР°СҖСӮРҫРҪ, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 67 С… 40
* * *
РҡРҫРіРҙР° Рұ РјСӢ жили РІ Р”СҖРөРІРҪРөРј Р РёРјРө
или РІ РӯллаРҙРө вҖ”
СҒРөСҒСӮРөСҖСҶРёРё, РіРөСӮСӮРөСҖСӢ, РҹлиРҪРёР№,
РёРјРҝР»СҺРІРёР№, blyady,
РҝР°СӮСҖРёСҶРёРё, РәР»РөРҝСҒРёРҙСҖСӢ, РҝР»РөРұСҒ,
РІРҫРҪСҢ РіРөРәР°СӮРҫРјРұСӢ,
СҖР°РұСӢ, РөРІСҖРөРё, СҒРёРҪСҢ РҪРөРұРөСҒ
Рё РІРҫР·РҙСғС… СӮРҫРјРҪСӢР№ вҖ”
РјСӢ Рұ РҪР°СҒлажРҙалиСҒСҢ РІ СҮРёСҒСӮРҫРј РІРёРҙРө
РёРіСҖРҫР№ РіРҫСҖРјРҫРҪР°.
РһРұ СҚСӮРҫРј С…РҫСҖРҫСҲРҫ РһРІРёРҙРёР№
СҒРәазал. Р“РҫСҖРіРҫРҪР°
РҪР°СҒ РҙРҫРІРҫРҙила РұСӢ РҙРҫ СҒлёз,
РІРіРҫРҪСҸла РІ СҒСӮСғРҝРҫСҖ:
РұРөРҙРҪСҸР¶РәСғ РіСҖСӢР· С„СғСҖСғРҪРәСғлёз вҖ”
РІРөСҒСҢ СҮРөСҖРөРҝ РІ СҒСӮСҖСғРҝСҢСҸС…вҖҰ
РқРҫ РјСӢ живём РҪРө РІ Р”СҖРөРІРҪРөРј Р РёРјРө
Рё РҪРө РІ РӯллаРҙРө:
РәР»РөРҝСҒРёРҙСҖСӢ РіРҙРө? РіРҙРө СҲРөР»РөСҒСӮ РҝРёРҪРёР№?
РҳРјРҝРөСҖРёСҸ РіРҙРө, СҖР°РҙРё
РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РјРҫР¶РҪРҫ РІ РӣРөСӮСғ РҝР°СҒСӮСҢ
РҫСӮ СҖСғРә РІРөСҒСӮРіРҫСӮР°?
Рҳ РІСҒС‘-СӮР°РәРё СҸ СҖР°Рҙ, СҮСӮРҫ влаСҒСӮСҢ
РЎСғРҙСҢРұСӢ, РөСүС‘ РәРҫРіРҫ-СӮРҫ,
РәСӮРҫ РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҪРөР№ РұР»СҺРҙС‘СӮ РҝСҖРҫСҒСӮРҫСҖ,
СҒРҝР»Рөли РҫСҖРҪамРөРҪСӮ,
РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РөСҒСӮСҢ Рё РҪР°СҲ СғР·РҫСҖ.
РһРҙРҪР°РәРҫ, СӮам РҪРөСӮ
РҙажРө РҪамёРәР° РҪР° РёСӮРҫРі.
РЎРҝР°СҒРёРұРҫ, РҡР»РҫСӮРҫ*!
РҹРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖСӢ СҒ РҪРөР№ Рё СӮРҫСҖРі
РҪР°РҝСҖР°СҒРҪСӢ. РҡРІРҫСӮСӢ
РЎСғРҙСҢРұРҫСҺ РІСӢРұСҖР°РҪСӢ РҙавРҪРҫ.
РһРҪРҫ Рё Р»РөРіСҮРө.
РҹСғСҒРәай, РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ СҖР°РҪРёСӮ, РҪРҫвҖҰ
РқРҫ РІСҖРөРјСҸ вҖ” Р»РөСҮРёСӮ.
ЕгРҫ Р»РөРәР°СҖСҒСӮРІРҫ вҖ” РҝР°РҪР°СҶРөСҸ,В
(РҝСғСҒСӮСҢ РҝСҖРёРІРәСғСҒ РәРёСҒР»СӢР№,В
РјСӢ РҝСҢём РөРіРҫвҖҰ Рё СҶРөРҝРөРҪРөРөРј),
РјРөРҪСҸРөСӮ СҒРјСӢСҒР»СӢ.В
РңРҫСҸ СҚРәР»РҫРіР° Р·Р°СӮСҸРҪСғлаСҒСҢ,
РәР°Рә РҝРөСҒРҪСҢ Р°РәСӢРҪР°.
РқавРөСҖРҪРҫРө, СӮСӢ СғР»СӢРұРҪСғлаСҒСҢвҖҰ
РҹСҖРҫСҒСӮРё, РҳСҖРёРҪР°,В
Р·Р° РјРөРҙСҢ РІ СҒСӮСҖРҫРәах, РәР°Рә РІ СҒСӮР°СҖРҫРј РіРёРјРҪРө,В
С…РҫСӮСҢ РұРҫРіР° СҖР°РҙРё.
вҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰ..
РҡРҫРіРҙР° Рұ РјСӢ жили РІ Р”СҖРөРІРҪРөРј Р РёРјРө
Рҳли РІ РӯллаРҙРөвҖҰ
* РҡР»РҫСӮРҫ вҖ” РҫРҙРҪР° РёР· СӮСҖёх РҙСҖРөРІРҪРөРіСҖРөСҮРөСҒРәРёС… РұРҫРіРёРҪСҢ СҒСғРҙСҢРұСӢ (РҙРІРө РҙСҖСғРіРёРө вҖ” РӣахРөСҒРёСҒ Рё РҗРҪСӮСҖРҫРҝРҫСҒ). РҹР»РөСӮС‘СӮ СӮРәР°РҪСҢ СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫР№ СҒСғРҙСҢРұСӢ.

РһР№РәСғРјРөРҪР°, 2024. РҘРҫР»СҒСӮ РҪР° РәР°СҖСӮРҫРҪРө, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 60 С… 70
* * *
РқРёСҮРөРіРҫ РҪРө РҝРҫРҙРөлаРөСҲСҢ, РҪРө
РҝРҫРҝРёСҲРөСҲСҢ. РқРө СҒРәажРөСҲСҢ РҙажРө.
РӣРөСӮРҫ РҝСҖРҫСҲР»Рҫ вҖ” РҪР° РјРҪРө
РҫСҒСӮалаСҒСҢ РөРіРҫ СӮСҸР¶РөСҒСӮСҢ.
РқСӢРҪСҮРө РІРҫСҖРҫРҪСҢРө В«РәР°СҖСҖСҖвҖҰВ»
РІ РәРҫСҖСҸРІСӢС… РІРөСӮРәах РҙСҖРҫжиСӮ.
Р“СҖРөРөСӮ РҫРҙРҪРҫ вҖ” загаСҖ,
РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝлаСҒСӮРҫРј Р»РөжиСӮ, вҖ”
РҪРө РәР°СҲРөРјРёСҖ Рё РҪРө РәСҖРөРҝ,
РҪРө РҝСҖРҫСҮРёР№ Р»РҫСҒРәСғСӮРҪСӢР№ СӮРҫРІР°СҖ вҖ”
РҝамСҸСӮРё РұСҖРҫРјРҝРҫСҖСӮСҖРөСӮ,
СҒРҫР»РҪРөСҮРҪР°СҸ РәРёРҪРҫРІР°СҖСҢ, вҖ”
РҪР° СҲРөРө, РҝР»РөСҮах, живРҫСӮРө
(В«СӮРҫСҖСҒВ» вҖ” РөСҒли Р»СҺРұРёСӮ РәСӮРҫ-СӮРҫ).
РӣРөСӮРҪРөРө pret-a-porte,
СҒРөРҝРёСҸ, СӮРөСҖСҖР°РәРҫСӮР°;
С…РҫСӮСҸ РҪРө СүРёСӮ Рё РҪРө РҝР°РҪСҶРёСҖСҢ,
РҪРө СҮРөСҲСғСҸ РұСҖРҫРҪСӮРҫзавСҖР°,
РҪРө СҒРёСӮРөСҶ, СҖР°СҒРҝСҸСӮСӢР№ РІ РҝСҸР»СҢСҶах,
РҪРө РәРҫР¶РҪСӢР№ РҝРҫРәСҖРҫРІ РәР°РҙавСҖР°
СҒ РөРіРҫ Р¶СғСӮРәРҫРІР°СӮРҫР№ РіСҖР°СҶРёРөР№,
РҪРө лиСҒСӮ РұСғмаги «вРөСҖР¶РөВ»вҖҰ
РҹамСҸСӮРё РіСҖавиСӮР°СҶРёСҸ
СҒ РөРҙРІР° СғР»РҫРІРёРјРҫР№ В«GВ».
* * *
РҹамСҸСӮРё РҝРҫСҖСӢ Р·Р°РҝРҫР»РҪРё
РҝСӢР»СҢСҺ РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё.
Р Р°СҒРҝРҫР»Рҫжи РІ РәРҪРёР¶РҪСӢС… РҝРҫР»Рәах,
РІ СҒРәРҫР»СҢР·РәРёС… СҒР»РҫСҸС… РәСҖРөРјРҪРёСҸ
Р·Р°Рҝахи, РҫРұСҖазСӢ, Р·РІСғРәРё,
СӮРҫСҮРәРё РҝРөСҖРөСҒРөСҮРөРҪРёСҸ,
СҒРҪСӢ или РҙажРө вҖ” РіР»СҺРәРё,
СӮР°РәСӮРёР»СҢРҪСӢРө РҫСүСғСүРөРҪРёСҸвҖҰВ
Р’СҒС‘, СҮСӮРҫ СҒРҫСҮСӮС‘СҲСҢ РҝРҫР»РөР·РҪСӢРј вҖ”
малРҫ ли, СҮСӮРҫ СӮам СҒРіРҫРҙРёСӮСҒСҸ,
РҝСҖРё РҝРөСҖРөС…РҫРҙРө РІ РұРөР·РҙРҪСғ, вҖ”
Р·Р°Рҝахи, Р·РІСғРәРё, лиСҶР°,
С„СҖР°РәСӮалСҢРҪСӢР№ СғР·РҫСҖ РҙСҖРҫжи
(РјРөР¶РҙСғ Р»РҫРҝР°СӮРҫРә вҖ” Рә СӮРөРјРөРҪРё)...
Р’СҒС‘ РҫРұРөСҖРҪСғСӮСҢСҒСҸ РјРҫР¶РөСӮ
РҝСӢР»СҢСҺ РҝСҖРҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё.

Р“РҫСҖСҸСҮР°СҸ СӮРҫСҮРәР°, 1988. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. 85 С… 80
1.
РЎР»РҫРјР°РҪРҪСӢРө РәРҫРјРҝСҢСҺСӮРөСҖСӢ
РҪРө РҝРҫРҝР°РҙР°СҺСӮ РІ РайвҖҰ
РҳС… РҫРұРөСҒСӮРҫСҮРөРҪРҪСӢРө СӮСҖСғРҝРёРәРё, вҖ”
РҝлаСҒСӮРјР°СҒСҒР°, РәСғРҝСҖСғРј, РҙСҺСҖалСҢ,
РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРҫСҖСӢ, РәР»РөРјРјСӢ, СҲРёРҪСӢ;
РёС… РјР°СӮРөСҖРёРҪСҒРәРёРө РҝлаСӮСӢ, вҖ”
РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ СғР¶Рө РҙСғСҲРё РІ РҪРёС…,
СӮР°Рә СҒРәазаСӮСҢ, РәРҫСӮ РҪР°РҝлаРәал,
РІ РҫСҮРөСҖРөРҙРё РҪР° Р“РҫлгРҫС„Сғ
Р¶РөР»РөР·РҪРҫ С…СҖР°РҪСҸСӮ РјРҫР»СҮР°РҪРёРө,
РҪРө РҝРҫРҙСҮРёРҪСҸСҸСҒСҢ РҡРёСҖС…РіРҫС„Сғ...
РЎРҝРёСҒР°РҪРҪСӢРө, РҫСӮСҮР°СҸРҪРҪСӢРө.
2.
РӯСӮРҫ РҪРө РҝСҖРҫСҒСӮРҫ Рә.Р·., РҙСҖСғР¶РҫРәвҖҰ
РӯСӮРҫ, вҖ” РҝРҫ-СҖСғСҒСҒРәРё СҒРәазаСӮСҢ, вҖ” РәРёСҖРҙСӢРә!
РӯСӮРҫ, РәР°Рә РөСҒли РІ РҙРІРөСҖРҪРҫР№ глазРҫРә
РіР»СҸРҪСғР», Р° СҒ СӮРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ РІРҝСҖРёСӮСӢРә
Рә СӮРІРҫРөРјСғ Р·СҖР°СҮРәСғ вҖ” СҮСғР¶РҫР№ Р·СҖР°СҮРҫРә,
РҪРөСҮСӮРҫ, РұСғРәвалСҢРҪРҫ РҝРҫСӮСғСҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРөРөвҖҰ
Рҳ Сғ СӮРөРұСҸ РІРҙСҖСғРі РёРіСҖР°РөСӮ РҫСҮРәРҫ,
РҪРҫ СҚСӮРҫ РҪРө РІРёРҙРҪРҫ РҪРёРәРҫРјСғ РҝРҫСҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРөРјСғ.
3.
Omne ignotum pro magnifico est* вҖ”В
СҖРёРјР»СҸРҪРө РІРөРҙали СӮРҫР»Рә РІ РІРөлиСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј.
РһРҙРҪажРҙСӢ СӮСӢ РҪРө РҝСҖРҫР№РҙС‘СҲСҢ СҚСӮРҫСӮ СӮРөСҒСӮ
Рё РәСӮРҫ-СӮРҫ РІСӢСҖСғРұРёСӮ СӮРөРұРө СҚР»РөРәСӮСҖРёСҮРөСҒСӮРІРҫ.
РңРҫР¶РөСҲСҢ РјРҫлиСӮСҢСҒСҸ РұРҫгам, РІРҫлхвам,
РјРҫР¶РөСҲСҢ СҸРәСҲР°СӮСҢСҒСҸ СҒ СӮРҫСӮРөРјРҪСӢРј Р·РІРөСҖСҢёмвҖҰ
РЎР»РҫРјР°РҪРҪСӢРө РәРҫРјРҝСҢСҺСӮРөСҖСӢ РҝРҫРҝР°РҙР°СҺСӮ РІ хлам,
Р° РҫСӮСӮСғРҙР°, СғР¶Рө РҝСҖСҸРјРёРәРҫРј вҖ” РІ СҒСӢСҖСҢС‘.
В *«ВСҒС‘ РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸРөСӮСҒСҸ РІРөлиСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРјВ». РўР°СҶРёСӮ

РҗРҝРҝРёРөРІР° РҙРҫСҖРҫРіР°, 2024. РҹлиСӮР° OSB-3, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 62,5 С… 62,5
* * *
РЎСӢСӮ Рё РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РҝСҢСҸРҪ,
СҒам СҒРөРұРө РұРҫРі (РІ СҒРјСӢСҒР»Рө вҖ” РҹР°РҪ).
Р’СӢРҝал РҝРөСҖРІСӢР№ СҒРҪРөР¶РҫРә,
СӮРҫРҝСҮРөСӮ РөРіРҫ СҒР°РҝРҫР¶РҫРә.
Р–РёР·РҪСҢ С…РҫСҖРҫСҲР° Рё СғСҺСӮРҪР°,
РәР°Рә РәР°РҝРёСӮР°РҪР° РәР°СҺСӮР°,
РөСҒли РҪРө РұСҖР°СӮСҢ РІ СҖР°СҒСҮС‘СӮ,
СҮСӮРҫ РІСҒС‘ РІ СҚСӮРҫР№ жизРҪРё СӮРөСҮС‘СӮ:
РІСҖРөРјСҸ, РІРҫРҙР° РёР· РәСҖР°РҪРёРәР°,
СҒРҪСӢ РҝР°СҒСҒажиСҖРҫРІ «ТиСӮР°РҪРёРәа»вҖҰ
* * *
Р’РҫСӮ РҫСӮРәСғРҙР° СҚСӮР° РҙСғСҖР°СҶРәР°СҸ РҙСҖРҫР¶СҢ РІ РәРҫР»РөРҪРәах:
РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ СӮСӢ РјРҫР»РҫРҙ Рё Сғ СӮРөРұСҸ вҖ” РІСҒСӮСҖРөСҮР° СҒ РјРёРҪРёСҒСӮСҖРҫРјвҖҰ
Рҗ РҪР° СҒамРҫРј РҙРөР»Рө вҖ” СӮСӢ РҙавРҪРҫ СғР¶Рө РәалРөРәР°,
РөСҒли РҪРө РіРҫР»РҫРІРҫСҺ, СӮРҫ СӮРҫСҮРҪРҫ РјРөРҪРёСҒРәРҫРј.
Рҳ Р·Р°РҙР°СҮР° РҝРөСҖРөРҙ СӮРҫРұРҫСҺ РҫРҙРҪР° вҖ” СӮРҫСҮРөСҮРҪР°СҸ:
РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪРё РҪР° СҮСӮРҫ РҝРҫСҒСӮР°СҖР°СӮСҢСҒСҸ РІСӢжиСӮСҢ,
РҪРө РёСҒРҝРҫСҖСӮРёРІ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РәРҫСҖСғ РҪР°РҙРҝРҫСҮРөСҮРҪРёРәРҫРІ.
Рҗ РҝРҫСӮРҫРј вҖ” РёСҒСҮРөР·РҪСғСӮСҢ. РқавРҫСҒСӮСҖРёСӮСҢ Р»СӢжиВ
СӮСғРҙР°, РіРҙРө СҒРәРёС„СӢ РҙРөлаСҺСӮ СӮР°РәРҫРө РҝРҫР№Р»Рҫ,
СҮСӮРҫ валиСӮ СҒ РҪРҫРі РәРөРҪСӮавСҖРҫРІ Рё СҶРёРәР»РҫРҝРҫРІ.
РҡР°Рә РІ СӮРҫРіСғ завРөСҖРҪСғРІСҲРёСҒСҢ РІ РұРөР»СӢР№ РІРҫР№Р»РҫРә,
СҸ СҒСӮал РұСӢ РҪР°РұР»СҺРҙР°СӮСҢ Р·Р°РәР°СӮ ЕвСҖРҫРҝСӢ,
СҲСӮСҖРёС…-РәРҫРҙСӢ РІРҫР»РҪ РІ РјРҫСҖСҸС… ГиРҝРөСҖРұРҫСҖРөРё,
РЎР°РҪСҒР°СҖСӢ РәРҫР»РөСҒРҫ Рё РіРҫСҖРёР·РҫРҪСӮР° лиРҪРёСҺ.
РЎРҫРұСҖавСҲРёСҒСҢ СҒ РҙСғС…РҫРј Рё СҒР»РөРіРәР° СҖРҫРұРөСҸ,
СҸ СҒлал РұСӢ РҝРёСҒСҢРјР° СҒСӮР°СҖСҲРөРјСғ РёР· РҹлиРҪРёРөРІ.
РҡРҫСҖРҫСҮРө, РІРөР» РұСӢ жизРҪСҢ Р»РөРіРёРҫРҪРөСҖР°,
РҙРҫживСҲРөРіРҫ РҙРҫ РҝРөРҪСҒРёРё. ДлСҸ РІРёРҙСғ
РәРҫР· СҖазвРҫРҙРёР» или РөСүРө, Рә РҝСҖРёРјРөСҖСғ,
СҒ РҫРәазиРөР№ махРҪСғР» РұСӢ РІ РҗСӮлаРҪСӮРёРҙСғВ вҖ”
РҝРҫРіСҖРөСӮСҢ РұРҫРәР° РҪР° РҫРәРөР°РҪСҒРәРёС… РҝР»СҸжах,
РҝРҫСҒР»СғСҲР°СӮСҢ СӮСҖС‘Рҝ Рҫ СҒРәРҫСҖРҫР№ РәР°СӮР°СҒСӮСҖРҫС„Рө,
Рё, СғР»СӢРұР°СҸСҒСҢ РҝСҖРҫ СҒРөРұСҸ, вҖ” В«РҡР°РәР°СҸ лажа!В» вҖ”
РҝСҖРёС…Р»РөРұСӢРІР°СӮСҢ РІРәСғСҒРҪРөР№СҲРёР№ РәСҖРөРҝРәРёР№ РәРҫС„Рө.
Рҗ СӮРҫ вҖ” РҝСҖРёРҙСғмал СҮСӮРҫ-РҪРёРұСғРҙСҢ РҝРҫРІРөСҒРөР»РөРө,
СҮРөРј СҖРҫР»СҢ РіРёРҝРөСҖРұРҫСҖРөР№СҒРәРҫРіРҫ СҒРәРёСӮалСҢСҶР°.
РҹРҫРҙалСҒСҸ РұСӢ РІ РҪР°РөРјРҪРёРәРё. Рҳ РІ РҹРёСҖРөРҪРөСҸС…
РІ РіСҖСғРҙСҢ РҝРҫР»СғСҮРёР» РәРҫРҝСҢРө РҪРөР°РҪРҙРөСҖСӮалСҢСҶР°.
РһРҙРҪР°РәРҫ РІСӢжил РұСӢ РұлагРҫРҙР°СҖСҸ РҘРёСҖРҫРҪСғ,
РөРіРҫ РҝСҖРёРјРҫСҮРәам, мазСҸРј, СҚлиРәСҒРёСҖам,
РҪР°СҒСӮРҫСҸРҪРҪСӢРј РҪР° СӮСҖавах, РҝСғСҒСӮСҢ Рё С…СҖРөРҪРҫРІСӢРј,
РҪРҫ РІСҒРө РөСүРө РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪСӢРј РІРёСӮалСҢРҪСӢРј СҒилам.
«ТвРҫР№ РҝСғР»СҢСҒ, РәР°СҖРҙРёРҫРіСҖамма вҖ” С…РҫСҖРҫСҲРё.
РқРҫ РҙРөР»Рҫ, РІСҒРө СҖавРҪРҫ, РёРҙРөСӮ Рә РҝРҫР»СӮРёРҪРҪРёРәСғ.
РҘРҫСҮРөСҲСҢ РҝСҖРҫжиСӮСҢ РөСүРө РҝРҫР»СҒСӮРҫР»СҢРәР°? вҖ” РқРө РіСҖРөСҲРё,
Рё РҪР° СғСҮРөСӮ РІСҒСӮР°РҪСҢ РІ РјРөСҒСӮРҪРҫР№ РҝРҫлиРәлиРҪРёРәРө.
ГлСҸРҙРёСҲСҢ, РҙРөСҒСҸСӮРҫРә Р»РөСӮ СӮР°РәРёРј РңР°РәР°СҖРҫРј
СҒСғРјРөРөСҲСҢ СҒРәРҫСҖРҫСӮР°СӮСҢ РІ РіРёРҝРөСҖРұРҫСҖРөР№СҒРәРёС… С„СҢРҫСҖРҙах.
Рҗ СӮам вҖ” Рё РңСҖамРҫСҖРҪРҫРө РјРҫСҖРө РҝСҖРөРІСҖР°СӮРёСӮСҒСҸ РІ РјСҖамРҫСҖ,
СӮРҫ РөСҒСӮСҢ, РёР·РјРөРҪРёСӮ фазСғ: СҒ жиРҙРәРҫРіРҫ РҪР° СӮРІРөСҖРҙРҫРөВ», вҖ”
СӮР°Рә РјРҫлвил РјРҪРө РёР·РҫРұСҖРөСӮР°СӮРөР»СҢ лиСҖСӢ.
Р–РёР·РҪСҢ вҖ” СҚСӮРҫ СҒРҝРҫСҒРҫРұ СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ СҚСҒСӮРөСӮРёРәРё
Р·Р°РұСӢСӮСҢ Рҫ РіРөРҫР»РҫРіРёРёвҖҰ. РҹСҖав СҒСӢРҪ РӨилиСҖСӢ:
СҮСӮРҫ РҫСӮ РҪР°СҒ РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РІ РёСӮРҫРіРө? вҖ” РўРҫСҮРәР° СҚРІСӮРөРәСӮРёРәРё.

РӨазРҫРІСӢР№ РҝРөСҖРөС…РҫРҙ, 2024. РҘРҫР»СҒСӮ РҪР° РәР°СҖСӮРҫРҪРө, Р°РәСҖРёР», Р°СҒСҒамРұР»СҸР¶. 60 С… 50
.jpg)
РқРҫСҒСӮалСҢРіРёСҮРөСҒРәРёР№ лаРҪРҙСҲафСӮ, 1996. РҘРҫР»СҒСӮ, РјР°СҒР»Рҫ. 50 С… 90
![]() вҖӢ
вҖӢ