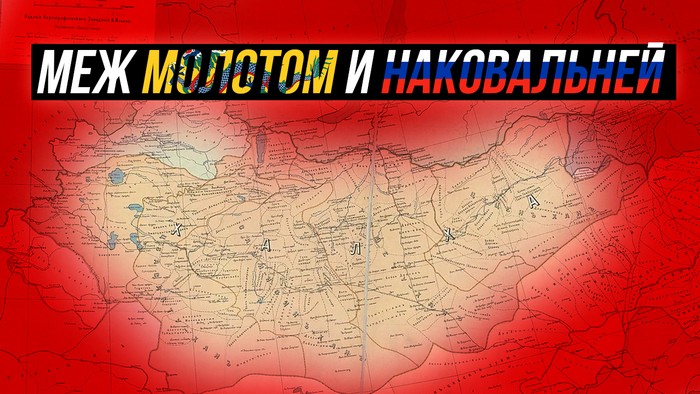РҡР°Рә РҝРөСҖРёС„РөСҖРёСҸ РҰРөРҪСӮСҖ СҒРҝР°СҒала. Рҡ 35-Р»РөСӮРёСҺ РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪРөРҪРёСҸ РҡСғРІРөР№СӮР° Рә РҳСҖР°РәСғ
РҡР°Рә РҝРөСҖРёС„РөСҖРёСҸ РҰРөРҪСӮСҖ СҒРҝР°СҒала. Рҡ 35-Р»РөСӮРёСҺ РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪРөРҪРёСҸ РҡСғРІРөР№СӮР° Рә РҳСҖР°РәСғ

Р‘РөСҖлиРҪСҒРәР°СҸ СҒСӮРөРҪР° СҖСғС…РҪСғла РІ РҪРҫСҸРұСҖРө 1989 Рі. вҖ” РіРҫРҙР°, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢР№, РјРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ, РҝСҖРөРәСҖР°СӮРёР» СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ Р’Р°СҖСҲавСҒРәРёР№ РҙРҫРіРҫРІРҫСҖ. РқРҫ РөСүС‘ РІ 1990-Рј РҪР° СҺР¶РҪРҫРј РәРҫРҪСӮСғСҖРө В«СҒРҫСҶиалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ лагРөСҖСҸВ» РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙили СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ, СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫвавСҲРёРө, СҮСӮРҫ РҪРө РІСҒС‘ РҝРҫСӮРөСҖСҸРҪРҫ, Р° РёРјРөРҪРҪРҫ вҖ” СҒРҫСҒСӮРҫСҸлаСҒСҢ СӮР°Рә РҪазСӢРІР°РөРјР°СҸ «аРҪРҪРөРәСҒРёСҸ РҳСҖР°РәРҫРј РҡСғРІРөР№СӮа». РһРұ СҚСӮРҫРј СҒРҫРұСӢСӮРёРё Рё Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РөРјСғ РҝСҖРөРҙСҲРөСҒСӮРІРҫвалРҫ Рё СҮСӮРҫ РҝРҫСҒР»РөРҙРҫвалРҫ, РјСӢ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ Рё РҪР°РҝРҫРјРҪРёРјвҖҰ
РқР° СҚСӮСғ СӮРөРјСғ авСӮРҫСҖР° СҒСӮР°СӮСҢРё РҝРҫРұСғРҙРёР»Рҫ РҪР°РҝРёСҒР°СӮСҢ СҒамРҫ РҝРҫРҪСҸСӮРёРө «ВРҫСҒСӮРҫСҮРҪРҫРіРҫ РұР»РҫРәа», РҙРҫ СҒРёС… РҝРҫСҖ РөСүС‘ живаСҸ РәР°СӮРөРіРҫСҖРёСҸ РІ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёС… РәСғР»СҢСӮСғСҖах Р°СҖР°РұСҒРәРҫР№ Рё РҝРөСҖСҒРёРҙСҒРәРҫР№. Р’СӢСҖажРөРҪРёРө СҚСӮРҫ, В«РұРҫР»СҺРәРө СҲР°СҖРәРёВ» (РҝРөСҖСҒ.) Рё В«РұРёР»СҺРә Р°СҲ-СҲР°СҖРәРёВ» (Р°СҖР°РұСҒРә.) РҝСҖРёРјРөРҪСҸРөСӮСҒСҸ, РҙРҫРҝСғСҒСӮРёРј, РәРҫРіРҙР° С…РҫСӮСҸСӮ РҫРҝРёСҒР°СӮСҢ РҝРҫлиСӮРёРәСғ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸСҲРҪРөРіРҫ РҗлжиСҖР°. РЎСӮСҖР°РҪСӢ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ, РәР°Рә Рё РӣРёРІРёСҸ РҙРҫ СғРұРёР№СҒСӮРІР° РҡР°РҙРҙафи, РұСӢла вҖ” РҝСҖРөР¶РҙРө РІСҒРөРіРҫ РІ РІРҫРөРҪРҪРҫРј РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё вҖ” завСҸР·Р°РҪР° РҪР° СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёСҮРөСҒСӮРІРҫ СҒ РңРҫСҒРәРІРҫР№, Р° СҒРҫ СҒСӮСҖР°РҪами РқРҗРўРһ (РҫРҝСҸСӮСҢ Р¶Рө РІ РІРҫРөРҪРҪРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё) РҙРҫ СҒРёС… РҝРҫСҖ РҪРө С…РҫСҮРөСӮ Рё РҪРө РјРҫР¶РөСӮ РёРјРөСӮСҢ РјРҪРҫРіРҫ РҫРұСүРөРіРҫ.В РўРөСҒРҪСӢР№ СҒРҫСҺР· РөСүС‘ СҒРҫ РІСҖРөРјС‘РҪ РҘСҖСғСүёва СҒРҫРөРҙРёРҪСҸР» РңРҫСҒРәРІСғ Рё РјРҪРҫРіРёРө Р°СҖР°РұСҒРәРёРө СҒСӮСҖР°РҪСӢ: РҗлжиСҖ, РӣРёРІРёСҺ Рё ЮжРҪСӢР№ РҷРөРјРөРҪ, РЎРёСҖРёСҺ Рё РҳСҖР°Рә. ЕгиРҝРөСӮ РІ лиСҶРө РЎР°РҙР°СӮР° СҖРөР·РәРҫ СҒРІРөСҖРҪСғР» РІ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ Р—Р°РҝР°РҙР°, РұСӢли СҒР»РҫР¶РҪРҫСҒСӮРё Рё РІ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸС… СҒ РЎР°РҙРҙамРҫРј РҘСғСҒРөР№РҪРҫРј (РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҫРҪ СҖазРҫРіРҪал РәРҫРјРҝР°СҖСӮРёСҺ РҳСҖР°РәР°), РҫРҙРҪР°РәРҫ РёРјРөРҪРҪРҫ РЎР°РҙРҙам РҙРҫРәазал 35 Р»РөСӮ РҪазаРҙ (Рё РөСүС‘ СҖР°РҪСҢСҲРө), СҮСӮРҫ РөРіРҫ СҒСӮСҖР°РҪР° РәР°Рә СҖаз Рё РјРҫР¶РөСӮ СҒСҮРёСӮР°СӮСҢСҒСҸ РІРҫРөРҪРҪРҫР№ СҶРёСӮР°РҙРөР»СҢСҺ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ лагРөСҖСҸ РҪР° СҺРіРө.
РҳР· РҝРҫРІСҒРөРҙРҪРөРІРҪРҫРіРҫ РҫРҝСӢСӮР° РјСӢ Р·РҪР°РөРј, СҮСӮРҫ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө «хСғлигаРҪРёСҒСӮСӢРөВ» Р»СҺРҙРё РҝРҫСӮРҫРјСғ Рё РІРөРҙСғСӮ СҒРөРұСҸ СҒСӮРҫР»СҢ В«РҫСӮРІСҸР·РҪРҫВ», СҮСӮРҫ СҮСғРІСҒСӮРІСғСҺСӮ Р·Р° СҒРҝРёРҪРҫР№ РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәСғ, РІРөСҖРҪРөРө, СҒРҙРөлали СҒСӮавРәСғ РҪР° СӮСғ СҒРёР»Сғ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ, РҝРҫ РёС… РјРҪРөРҪРёСҺ, РҪРө РҝРҫРҙР»РөжиСӮ СҖазвРөРҪСҮР°РҪРёСҺ, РҪРҫ СҒама РәРҫРіРҫ СғРіРҫРҙРҪРҫ РјРҫР¶РөСӮ РҪРёР·РІРөСҖРіРҪСғСӮСҢ. Р’РҫСӮ Рё РЎР°РҙРҙам РҘСғСҒРөР№РҪ (1937вҖ”2006) РҝСҖРёСҲёл Рә влаСҒСӮРё РІ РҳСҖР°РәРө РҝРҫСҒР»Рө РҝРөСҖРөРІРҫСҖРҫСӮР°, СҒРІРөСҖРіРҪСғРІСҲРөРіРҫ РәРҫСҖРҫР»РөРІСҒРәСғСҺ СҒРөРјСҢСҺ, СӮРҫ РөСҒСӮСҢ СӮСғ РёР·РҙавРҪР° РҝРҫСҮСӮРөРҪРҪСғСҺ влаСҒСӮСҢ (РҪРҫ Рё РҝРҫРІСҸР·Р°РҪРҪСғСҺ СҒ Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢРјРё РәРҫР»РҫРҪРёР·Р°СӮРҫСҖами), РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ Р°СҒСҒРҫСҶРёРёСҖРҫвалаСҒСҢ СҒ В«СғСҒСӮРҫСҸРјРёВ» Рё В«СӮСҖР°РҙРёСҶРёСҸРјРёВ», СҒ В«РҪРөСҖСғСҲРёРјРҫСҒСӮСҢСҺ РјРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫР№ РұР°РҪРәРҫРІСҒРәРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢВ» Рё СҒ В«РҪРөРҝСҖРёРәРҫСҒРҪРҫРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢСҺ РұР°РҪРәРҫРІСҒРәРёС… РІРәлаРҙРҫРІВ»вҖҰ Рҗ РІРәлаРҙСӢ-СӮРҫ РҫРәазалиСҒСҢ РҝСҖРёРәРҫСҒРҪРҫРІРөРҪРҪСӢ! Р’Рҫ РІСҒСҸРәРҫРј СҒР»СғСҮР°Рө, РІРҪСғСӮСҖРё РҳСҖР°РәР° РЎР°РҙРҙам Рё РөРіРҫ РҝР°СҖСӮРёСҸ «БааСҒВ» СҒСғРјРөли РҫСӮРҫРұСҖР°СӮСҢ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ Сғ РұСӢРІСҲРөРіРҫ РҝСҖавСҸСүРөРіРҫ РәлаСҒСҒР° Рё РҫРұСҖР°СӮРёСӮСҢ РөС‘ СҒРөРұРө РҪР° РҝРҫР»СҢР·Сғ. РҹРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ (РҝСғСҒСӮСҢ «гСҖСҸР·РҪРҫВ», СҒ СҖРөРҝСҖРөСҒСҒРёСҸРјРё) РұСӢР» СҒРҫР·РҙР°РҪ РҪРҫРІСӢР№ РҝРҫСҖСҸРҙРҫРә РІРҪСғСӮСҖРё РҳСҖР°РәР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҫРҙРҪРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ РұСӢР» Рё СҮР°СҒСӮСҢСҺ РјРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫРіРҫ Р°РҪСӮРёРәРҫР»РҫРҪиалСҢРҪРҫРіРҫ РҝРҫСҖСҸРҙРәР°. РЈР¶Рө СғРҝРҫРјСҸРҪСғСӮСӢРө РЎРёСҖРёСҸ, РҷРөРјРөРҪ, РӣРёРІРёСҸ, РҗлжиСҖ, РҙажРө ЕгиРҝРөСӮвҖҰ Р’СҒРө СҚСӮРё СҒСӮСҖР°РҪСӢ РҝРҫСҒР»Рө Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РІРҙСҖСғРі загРҫРІРҫСҖили СҒ Р—Р°РҝР°РҙРҫРј СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ СҒРІРҫРұРҫРҙРҪСӢРј (Р° СҒ СӮРҫСҮРәРё Р·СҖРөРҪРёСҸ Р—Р°РҝР°РҙР° вҖ” хамСҒРәРёРј) СӮРҫРҪРҫРј. Рҳ СҸСҒРҪРҫ РұСӢР»Рҫ, РҪР° РәРҫРіРҫ РҫРҪРё РҫРҝРёСҖР°СҺСӮСҒСҸ, РәРҫРіРҫ СҮСғРІСҒСӮРІСғСҺСӮ Р·Р° СҒРҝРёРҪРҫР№ вҖ” РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РЎРҫСҺР·вҖҰ
РһРҙРҪР°РәРҫ РұлижРө Рә РәРҫРҪСҶСғ 1970-С… В«СҮСӮРҫ-СӮРҫ РҝРҫСҲР»Рҫ РҪРө СӮР°РәВ», Рё СҚСӮРҫ В«СҮСӮРҫ-СӮРҫВ» вҖ” РІРөСҒСҢРјР° СҒР»РҫР¶РҪРҫ СғР»РҫРІРёРјР°СҸ РәР°СӮРөРіРҫСҖРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РҪазСӢРІР°СҺСӮ Рё РҪР°СҮалРҫРј «заСҒСӮРҫСҸВ», Рё РҝРҫСҖажРөРҪРёРөРј РІ С…РҫР»РҫРҙРҪРҫР№ РІРҫР№РҪРөвҖҰ РҜ СғРәР»РҫРҪСҺСҒСҢ РҫСӮ РҫРұСүРёС… СҒРҫРҫРұСҖажРөРҪРёР№ Рё РҫРіСҖР°РҪРёСҮСғСҒСҢ СғРәазаРҪРёРөРј РҪР° БлижРҪРёР№ Р’РҫСҒСӮРҫРә, РҪР° РІСҒРҝСӢС…РҪСғРІСҲСғСҺ РІСҒРәРҫСҖРө РҝРҫСҒР»Рө РәРҫРҪСҶР° РһлимРҝРёР°РҙСӢ-80 РҳСҖР°РҪРҫ-РёСҖР°РәСҒРәСғСҺ РІРҫСҒСҢРјРёР»РөСӮРҪСҺСҺ РІРҫР№РҪСғ (1980вҖ”88). Р•СҒСӮСҢ СҖазРҪСӢРө РјРҪРөРҪРёСҸ Рҫ СӮРҫРј, РәР°РәР°СҸ РёР· СҒСӮРҫСҖРҫРҪ РҪР°СҮала СҚСӮСғ РІРҫР№РҪСғ: Р»РөРІСӢРө СҒРёР»СӢ РІ РҳСҖР°РҪРө РҫРұРІРёРҪСҸСҺСӮ РІ РөС‘ РҝСҖРҫРІРҫСҶРёСҖРҫРІР°РҪРёРё имама РҘРҫРјРөР№РҪРё. РўРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРё РіРҫРІРҫСҖСҸ, РІРҫР№РҪСғ РІСҒС‘-СӮР°РәРё РҪР°СҮал РЎР°РҙРҙам, Рё Сғ РҪРөРіРҫ РҙР»СҸ СҚСӮРҫРіРҫ РұСӢР»Рҫ РјРҪРҫРіРҫ РҝСҖРёСҮРёРҪ. РЎСғРҪРҪРёСӮРҫ-СҲРёРёСӮСҒРәРёРө РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёСҸ, РҙавРҪРёР№ СҒРҝРҫСҖ Р·Р° РҪРөС„СӮСҸРҪСӢРө СҖайРҫРҪСӢ, РҪРҫ главРҪРҫРө вҖ” СҚСӮРҫ РұСӢла РҪРөРәР°СҸ РәРҫРҪРІСғР»СҢСҒРёСҸ, СҒС…РҫРҙРҪР°СҸ СҒ РұРҫР»СҢСҺ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ Р·Р°СҒСӮавлСҸРөСӮ РҝРҫРҝавСҲРөРө РІ РәР°РҝРәР°РҪ живРҫСӮРҪРҫРө РҫСӮРіСҖСӢР·Р°СӮСҢ СҒРөРұРө лаРҝСғ. РЎР°РҙРҙам РҘСғСҒРөР№РҪ СҮСғРІСҒСӮРІРҫвал, СҮСӮРҫ Р’РҫСҒСӮРҫСҮРҪСӢР№ РұР»РҫРә СӮРөСҖРҝРёСӮ РәСҖах, РҝСҖРёСҮём РІРҫ РІСҒРөРјРёСҖРҪРҫРј РјР°СҒСҲСӮР°РұРө, Р° РҝРҫСӮРҫРјСғ Р»СҺРұРҫРө РҙРөР№СҒСӮРІРёРө вҖ” РәР°РәРёРј РұСӢ СҒСғРҙРҫСҖРҫР¶РҪСӢРј РҫРҪРҫ РҪРё РұСӢР»Рҫ вҖ” Р»СғСҮСҲРө, СҮРөРј РұРөР·РҙРөР№СҒСӮРІРёРө.
РЈ РЎР°РҙРҙама РҘСғСҒРөР№РҪР° (Рё Сғ РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… РөРјСғ лиРҙРөСҖРҫРІ РўСҖРөСӮСҢРөРіРҫ РјРёСҖР°) РІСҒС‘ СғСҒиливалРҫСҒСҢ РҪРөРҙРҫСғРјРөРҪРёРө: РІ СҶРөР»РҫРј-СӮРҫ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РЎРҫСҺР· РІРөРҙС‘СӮ СҒРөРұСҸ СҒлиСҲРәРҫРј СҖРҫРұРәРҫ вҖ” РҝРҫСҮРөРјСғ? Сам РёСҖР°РәСҒРәРёР№ лиРҙРөСҖ РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪР°РҙРҫлгРҫ РҪРө РҫСҒСӮавлСҸР» РұРөР· СҖР°РұРҫСӮСӢ СҒРІРҫРё СҖРөРҝСҖРөСҒСҒРёРІРҪСӢРө РҫСҖРіР°РҪСӢ Рё Р°СҖРјРёСҺ: Р·Р°РәСғРҝал РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ Рё СҒСҖазСғ РҝСғСҒРәал РёС… РІ С…РҫРҙ: СӮРҫ РҪР° РҳСҖР°РҪСҒРәРҫРј С„СҖРҫРҪСӮРө, СӮРҫ РҝСҖРё РҫРәРәСғРҝР°СҶРёРё РҡСғРІРөР№СӮР° РІ 1990-РјвҖҰ Рҗ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РЎРҫСҺР· РІРҫСҲёл РІ РҗфгаРҪРёСҒСӮР°РҪ (РҙРөРәР°РұСҖСҢ 1979-РіРҫ) Рё РҫСҒСӮР°РҪРҫРІРёР»СҒСҸ, С…РҫСӮСҸ СҖСҸРҙРҫРј, РІ РҳСҖР°РҪРө, СҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРёРәРё РҘРҫРјРөР№РҪРё СҖРөРҝСҖРөСҒСҒРёСҖРҫвали РәРҫРјРјСғРҪРёСҒСӮРҫРІ вҖ” Р·Р°СҮРёСҒСӮили СҶРөлиРәРҫРј РІСҒС‘ Р»РөРІРҫРө В«РҝРҫР»РөВ» РІ РҳСҖР°РҪРөвҖҰ
РҳСҖР°РҪ вҖ” СҚСӮРҫ Р»РҫСҒРәСғСӮРҪРҫРө РҫРҙРөСҸР»Рҫ СҖазРҪСӢС… СҚСӮРҪРҫСҒРҫРІвҖҰ ЮжРҪСӢР№ РұРөСҖРөРі РҡР°СҒРҝРёСҸ Р·Р°СҒРөлёРҪ РіРёР»СҸРҪСҶами, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒСҮРёСӮР°СҺСӮ СҒРөРұСҸ СҒРәРҫСҖРөРө СҖСғСҒСҒРәРёРјРё, СҮРөРј РҝРөСҖСҒами, РҫРҪРё РұСӢ СҒСҖазСғ, РҝСҖРё РІРІРөРҙРөРҪРёРё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә, РҫСӮР»РҫжилиСҒСҢ РҫСӮ РўРөРіРөСҖР°РҪР° (Р°РҪалРҫРіРёСҮРҪРҫ лаСӮСӢСҲРё Рё СҚСҒСӮРҫРҪСҶСӢ РјСӢСҒР»РөРҪРҪРҫ РІРёРҙСҸСӮ СҒРөРұСҸ СҒРәРҫСҖРөРө РҪРөРјСҶами, СҮРөРј СҖСғСҒСҒРәРёРјРё). РқР° СҒРөРІРөСҖРҫ-Р·Р°РҝР°РҙРө РҳСҖР°РҪР° РҪахРҫРҙСҸСӮСҒСҸ РҝСҖРҫРІРёРҪСҶРёРё Р—Р°РҝР°РҙРҪСӢР№ Рё Р’РҫСҒСӮРҫСҮРҪСӢР№ РҗР·РөСҖРұайРҙжаРҪ вҖ” РҫРҪРё РұСӢ РҫС…РҫСӮРҪРҫ В«СҒлилиСҒСҢВ» СҒ РҗР·РөСҖРұайРҙжаРҪРҫРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРј. Р“РҫСҖРҪСӢР№ Р·Р°РҝР°Рҙ РҳСҖР°РҪР° Р·Р°СҒРөлёРҪ Р»СғСҖами Рё РәСғСҖРҙами, СҺРіРҫ-РІРҫСҒСӮРҫРә вҖ” РұРөР»СғРҙжами, СҺРіРҫ-Р·Р°РҝР°Рҙ вҖ” Р°СҖР°РұамивҖҰ РқРҫ РІРҫСӮ СӮСғСӮ-СӮРҫ Рё РҝРөСҖРІР°СҸ РҪРөСғРІСҸР·РәР°! РЎР°РҙРҙам РІРөРҙСҢ СӮРҫР¶Рө СҖР°СҒСҒСҮРёСӮСӢвал, СҮСӮРҫ Р°СҖР°РұСҒРәРҫРө РҪР°СҒРөР»РөРҪРёРө РҘСғР·РөСҒСӮР°РҪР° РҝРҫРҙРҙРөСҖжиСӮ РөРіРҫ, РҪРҫ СҚСӮРҫРіРҫ РҪРө РҝСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ. Р’РҫСӮ Рё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ, С…РҫСӮСҸ Рё РёРјРөР»Рҫ РҝлаРҪ РІСӮРҫСҖР¶РөРҪРёСҸ РІ РҳСҖР°РҪ, РҪРҫ РІРҫР·РҙРөСҖжалРҫСҒСҢ РҫСӮ РҪРөРіРҫвҖҰ РҡСҒСӮР°СӮРё, РІ СӮРө СҒамСӢРө РіРҫРҙСӢ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ Рё СӮР°Рә РҪазСӢРІР°РөРјСӢР№ В«РҹлаРҪ Р–РёСҖРёРҪРҫРІСҒРәРҫРіРҫВ» РҝРҫ СҖР°СҒСҮР»РөРҪРөРҪРёСҺ РҳСҖР°РҪР°, РҳСҖР°РәР° Рё РҹР°РәРёСҒСӮР°РҪР°; РҫРҪ РёР·Р»РҫР¶РөРҪ РІ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёС… СӮСҖСғРҙах РҝРҫРәРҫР№РҪРҫРіРҫ РҝРҫлиСӮРёРәР°, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ РІ РәРҪРёРіРө «СРҫСҶРёРҫР»РҫРіРёСҸ РјРёСҖРҫРІСӢС… СҶивилизаСҶРёР№В» (Рң., 2013), РҪР°РҝРёСҒР°РҪРҪРҫР№ РІ СҒРҫавСӮРҫСҖСҒСӮРІРө СҒ РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖами Р’.Рҳ. Р”РҫРұСҖРөРҪСҢРәРҫРІСӢРј Рё Рқ.Рҗ. Р’Р°СҒРөСҶРәРёРј.
РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ, РҝРҫР№РҙСҸ РҪР° РІРІРҫРҙ РІРҫР№СҒРә РІ РҗфгаРҪРёСҒСӮР°РҪ, РҙРҫСҒСӮРёРіР»Рҫ, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, лимиСӮР° РІ СҒСӮР°СҖСҮРөСҒРәРҫР№ СҒРІРҫРұРҫРҙРө РҙРІРёР¶РөРҪРёР№. РҡРҫСҒСӮРөРҪРөСҺСүРёР№ СҒСӮР°СҖРёРә СғР¶Рө РҪРө РҪР°СғСҮРёСӮСҒСҸ СҒР°РҙРёСӮСҢСҒСҸ РҪР° СҲРҝагаСӮ: СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫРәалРөСҮРёСӮСҒСҸвҖҰ РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ: СҮСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РҙРөлаСӮСҢ СҒ СҮР°СҒСӮРҪСӢРј СҒРөРәСӮРҫСҖРҫРј РІ РҗфгаРҪРёСҒСӮР°РҪРө? РһРұРҫРұСүРөСҒСӮРІР»СҸСӮСҢ РҝРҫ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРјСғ РҝСҖРёРјРөСҖСғ? РқР° СҚСӮРҫ РҪРө СҖРөСҲилиСҒСҢ, РҫРіСҖР°РҪРёСҮРёРІСҲРёСҒСҢ РІСӢРҝлаСӮРҫР№ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРјСғ РәРҫРҪСӮРёРҪРіРөРҪСӮСғ В«СҮРөРәРҫРІВ», вҖ” СҮСӮРҫРұСӢ РҪРө РІСӢРіР»СҸРҙРөли СҒлиСҲРәРҫРј РұРөРҙРҪСӢРјРё РІ СҒСҖавРҪРөРҪРёРё РҙажРө СҒ афгаРҪСҒРәРёРј СҒСҖРөРҙРҪРёРј РәлаСҒСҒРҫРј. РқРҫ Рё В«СҮРөРәРёВ» Р»Рөгли РҪагСҖСғР·РәРҫР№ РҪР° РұСҺРҙР¶РөСӮ: СҚСӮРҫ РұСӢР» РҪРҫРІСӢР№ СҖР°СҒС…РҫРҙ, Р° вҖ” РіРҙРө РҙРҫС…РҫРҙСӢ?
РһРҙРҪР°РәРҫ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ, РҝРҫСҮСӮРё РҝРҫлвРөРәР° СҒРҝСғСҒСӮСҸ, РҫСҒСӮРҫСҖРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РұСҖРөР¶РҪРөРІСҒРәРҫРіРҫ РәлаРҪР° РІРёРҙРёСӮСҒСҸ СҒРәРҫСҖРөРө РұлагРҫРј, СҮРөРј Р·Р»РҫРј. РЎСӮР°СҖСҮРөСҒРәР°СҸ СҒРәРҫРІР°РҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҪРөСҒС‘СӮ СҒ СҒРҫРұРҫР№ Р·РҪР°РҪРёРө (или РҫСүСғСүРөРҪРёРө) СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ Р»СҺРұРҫРө РҙРөР№СҒСӮРІРёРө Р·Р°СӮСҖР°СӮРҪРҫ Рё РҫРҝР°СҒРҪРҫ, Р° В«СҒРҫРәСҖРҫРІРёСүР° РҪР°РҙРҫ СҒРҫРұРёСҖР°СӮСҢ РҪР° РҪРөРұРөСҒах». РЎРәажРөРј СҒСҖазСғ: РёРјРөРҪРҪРҫ СӮР°РәРёРјРё (РҝРҫСҮСӮРё РұРөР· РёР·РјРөРҪРөРҪРёР№) РІСӢРіР»СҸРҙСҸСӮ Рё СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ Р РҫСҒСҒРёРё СҒ РҪР°СҲРёРј В«СҺР¶РҪСӢРј РҝРҫРҙРұСҖСҺСҲСҢРөРјВ»: Р°СҖР°РұСҒРәРёРј РјРёСҖРҫРј. РҹРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ СҒР»СӢСҲР°СӮСҒСҸ РІРҫРҝСҖРҫСҲР°РҪРёСҸ Р°СҖР°РұСҒРәРёС… РҙСҖСғР·РөР№: РҝРҫСҮРөРјСғ РІСӢ РҪРө РІРјРөСҲРёРІР°РөСӮРөСҒСҢ? Р’РөРҙСҢ РұСҖРёСӮР°РҪСҶСӢ, РіРҫллаРҪРҙСҶСӢ, РәР°РәРёРө-РҪРёРұСғРҙСҢ Р»СҺРәСҒРөРјРұСғСҖР¶СҶСӢ СӮРІРҫСҖСҸСӮ, СҮСӮРҫ С…РҫСӮСҸСӮ, Р° Р РҫСҒСҒРёСҸ РјРҫР»СҮРёСӮвҖҰ Р—РҪР°СҮРёСӮ, РҙРөР»Рҫ РҪРө РІ РҫРәРҫСҒСӮРөРҪРөРҪРёРё СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІР°, Р° РІ СҒамРҫР№ СҒСғСүРҪРҫСҒСӮРё РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёР№ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸСҲРҪРөРіРҫ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҚСӮРҪРҫСҒР° (Р° РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, Рё РІСҒРөС… РөРІСҖРҫРҝРөР№СҒРәРёС… СҚСӮРҪРҫСҒРҫРІ) Рё вҖ” РёСҒламСҒРәРҫРіРҫ РјРёСҖР°. РһРҙРҪР°РәРҫ РІРөСҖРҪСғСҒСҢ Рә РЎР°РҙРҙамСғ РҘСғСҒРөР№РҪСғвҖҰ
РһжиРҙал ли РҫРҪ, СҮСӮРҫ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РЎРҫСҺР· РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РІСӮРҫСҖРіРҪРөСӮСҒСҸ РІ РҳСҖР°РҪ? Р•СҒли РұСӢ СҚСӮРҫ СҒР»СғСҮРёР»РҫСҒСҢ, СӮРҫ СҖРөжим РҘРҫРјРөР№РҪРё СӮРҫСҮРҪРҫ РұСӢ Рҝал, РҪРө СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪСӢР№ РІРҫРөРІР°СӮСҢ РҪР° РҙРІР° С„СҖРҫРҪСӮР°. РқРҫ РҪР°СҮалаСҒСҢ РіРҫСҖРұР°СҮёвСҒРәР°СҸ РҝРөСҖРөСҒСӮСҖРҫР№РәР°, Рё РІСҒРөРј СҒСӮалРҫ РҫСҮРөРІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РІРҪРөСҲРҪСҸСҸ СҚРәСҒРҝР°РҪСҒРёСҸ РёСҒРәР»СҺСҮРөРҪР° РёР· СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ РҝРҫРІРөСҒСӮРәРё, РҪРҫ Рё РІ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС… РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРёС… РҙРөлах СССР«заСҮРөРј-СӮРҫВ» РҙаёСӮ РІСҒС‘ РұРҫР»СҢСҲРө СҒРІРҫРұРҫРҙСӢ РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢРј РҫРәСҖаиРҪамвҖҰ РҡСҒСӮР°СӮРё, РёРјРөРҪРҪРҫ СӮСғСӮ, РҙСғРјР°РөСӮСҒСҸ, Р»РөжиСӮ РҫРұСҠСҸСҒРҪРөРҪРёРө СӮРҫРіРҫ, РҝРҫСҮРөРјСғ РЎР°РҙРҙам РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёСҸ РҳСҖР°РҪРҫ-РёСҖР°РәСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ Рё СҒСҖазСғ РҝРҫСҒР»Рө РҪРөС‘ СҒ СӮР°РәРҫР№ Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫСҒСӮСҢСҺ РҫРұСҖСғСҲРёР»СҒСҸ РҪР° СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢРө РјРөРҪСҢСҲРёРҪСҒСӮРІР°. 1988-Р№ РіРҫРҙ вҖ” РҝРёРә РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё «химиСҮРөСҒРәРҫРіРҫ Рҗли», РәРҫРіРҙР° РҙРөСҖРөРІРҪРё Рё СҶРөР»СӢРө РіРҫСҖРҫРҙР° РәСғСҖРҙРҫРІ РҝРҫРҙРІРөСҖгалиСҒСҢ РҫРұСҒСӮСҖРөР»Сғ С…РёРјРёСҮРөСҒРәРёРјРё СҒРҪР°СҖСҸРҙами Рё СӮРҫСӮалСҢРҪРҫРјСғ РІСӢСҒРөР»РөРҪРёСҺ; РәРҫРіРҙР° РҙРІР° миллиРҫРҪР° РәСғСҖРҙРҫРІ РұРөжали РёР· СҒРөРІРөСҖРҪРҫРіРҫ РҳСҖР°РәР° РІ РўСғСҖСҶРёСҺ, РҳСҖР°РҪвҖҰ (РҰРёС„СҖР° РҙРІР° миллиРҫРҪР° РҝСҖРёРІРҫРҙилаСҒСҢ РІРҫ РІСҖРөРјСҸ амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫРіРҫ СҒСғРҙР° РҪР°Рҙ РҘСғСҒРөР№РҪРҫРј Рё РІРәР»СҺСҮР°РөСӮ РІ СҒРөРұСҸ СҒСӮР°СӮРёСҒСӮРёРәСғ Р·Р° РҝРөСҖРёРҫРҙ СғР¶Рө РҝРҫСҒР»Рө РІСӮРҫСҖР¶РөРҪРёСҸ РІ РҡСғРІРөР№СӮвҖҰ)
РҹСҖРёСҮРёРҪР° СғР¶РөСҒСӮРҫСҮРөРҪРёСҸ СҚСӮРёС… СҖРөРҝСҖРөСҒСҒРёР№ РЎР°РҙРҙама Р»РөжиСӮ РәР°Рә СҖаз РІ РҫСҒлаРұР»РөРҪРёРё СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРөР№ РҝРҫлиСӮРёРәРё Р“РҫСҖРұР°СҮёвСӢРј. РқРө РҪР°РҙРҫ РҪРөРҙРҫРҫСҶРөРҪРёРІР°СӮСҢ СҒСӮРөРҝРөРҪСҢ РІРҪРёРјР°РҪРёСҸ Рә Р РҫСҒСҒРёРё Рё СҒСӮРөРҝРөРҪСҢ СҖРөагиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РҪР° СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ РІ РҪРөР№ СҒРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ РЎР°РҙРҙама Рё РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… РөРјСғ лиРҙРөСҖРҫРІвҖҰ РҹСҖав ли РұСӢР» РЎР°РҙРҙам, РҫСӮРҙав РҝСҖРёРәазСӢ РҝСҖРҫРІРҫРҙРёСӮСҢ СҖРөРҝСҖРөСҒСҒРёРё РІРҪСғСӮСҖРё РҳСҖР°РәР°? Р’РјРөСҒСӮРҫ РҫСӮРІРөСӮР° СҸ Р·Р°Рҙам РҙСҖСғРіРҫР№ РІРҫРҝСҖРҫСҒ: Р° СҮСӮРҫ СӮР°РәРҫРө В«РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРө РјРөРҪСҢСҲРёРҪСҒСӮРІРҫВ», РІСҒРөРіРҙР° ли РҫРҪРҫ СӮР°РәРҫРө В«РұРөР»РҫРө Рё РҝСғСҲРёСҒСӮРҫРөВ», РәР°РәРёРј РөРіРҫ СҖРёСҒСғСҺСӮ? РҹРҫРјРёРјРҫ РҝлаСҮР° РҝРҫ РәСғСҖРҙам, РјРҪРҫРіРҫ СҒР»РҫРІ РұСӢР»Рҫ СҒРәазаРҪРҫ РҪР° Р—Р°РҝР°РҙРө РІ РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәСғ СӮР°Рә РҪазСӢРІР°РөРјСӢС… РәамСӢСҲРҫРІСӢС… Р°СҖР°РұРҫРІ РҪР° СҺРіРө РҳСҖР°РәР°, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё СӮРҫР¶Рө РұРҫСҖРҫР»СҒСҸ РҘСғСҒРөР№РҪвҖҰ
РҗРІСӮРҫСҖ СҚСӮРёС… СҒСӮСҖРҫРә РІРәР»СҺСҮРёР» РІ СҒРҫСҒСӮавлРөРҪРҪСӢР№ СҒРұРҫСҖРҪРёРә СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ РёСҖР°РәСҒРәРҫР№ РҝСҖРҫР·СӢ («ЖРөРјСҮСғжиРҪР° Р’РҫСҒСӮРҫРәа», РЎРҹРұ., 2015) РҝРөСҖРөРІРҫРҙ СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ РЎРөР»СҢРІСӢ Р—Р°РәСғ РҫРұ СҚСӮРёС… СҒамСӢС… РәамСӢСҲРҫРІСӢС… Р°СҖР°Рұах, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө, СҒРҫглаСҒРҪРҫ СҚСӮРҫР№ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢРҪРёСҶРө, РҝРёСӮалиСҒСҢ РёСҒРәР»СҺСҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҖСӢРұРҫР№, РҙРҫРұСӢРІР°РөРјРҫР№ РҝСҖРёРјРёСӮРёРІРҪСӢРјРё РіР°СҖРҝСғРҪами. Жили РІ хижиРҪах РҪР° СҒРІР°СҸС…, РҪРө Р·РҪали СҚР»РөРәСӮСҖРёСҮРөСҒСӮРІР° Рё СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸвҖҰ РҹСҖРё РІСҒём СғважРөРҪРёРё Рә С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРј РҙРҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮвам СҚСӮРҫР№ РҝСҖРҫР·СӢ, РІ СҒами фаРәСӮСӢ РІРөСҖРёСӮСҒСҸ СҒ СӮСҖСғРҙРҫРј. Рҗ РәР°Рә РҪР°СҒСҮС‘СӮ РәРҫРҪСӮСҖР°РұР°РҪРҙСӢ, СӮРҫСҖРіРҫвли РәСҖР°РҙРөРҪСӢРј, СӮРҫСҖРіРҫвли Р»СҺРҙСҢРјРё, РҪР°РәРҫРҪРөСҶ? РҹРҫС…РёСүРөРҪРҪСӢС… СҖР°РҙРё РІСӢРәСғРҝР° Р»СҺРҙРөР№ РәР°Рә СҖаз РҪР°СҶРјРөРҪСҢСҲРёРҪСҒСӮвам СғРҙРҫРұРҪРҫ РұСӢРІР°РөСӮ РҙРөСҖжаСӮСҢ РІ СҒРІРҫРёС… Р°РҪРәлавах, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РІ РҝСҖРөСҒР»РҫРІСғСӮРҫРј В«РәамСӢСҲРҫРІРҫРј СҖР°СҺВ»вҖҰ
РқР°РҪРөСҒСҸ РҙСҖРҫРұСҸСүРёР№ СғРҙР°СҖ РҝРҫ СҚСӮРёРј РјРөРҪСҢСҲРёРҪСҒСӮвам, РҪРө РҝСҖРөРәСҖР°СүР°СҸ РҝлаРҪРҫРІРҫР№ РұРҫСҖСҢРұСӢ СҒ РҪРёРјРё, РЎР°РҙРҙам РҘСғСҒРөР№РҪ РҝСҖРёРәазСӢРІР°РөСӮ РіРҫСӮРҫРІРёСӮСҢСҒСҸ Рә Р°РҪРҪРөРәСҒРёРё РҡСғРІРөР№СӮР°вҖҰ РўСғСӮ, РҪР°РәРҫРҪРөСҶ, РјСӢ РҝРҫРҙС…РҫРҙРёРј Рә РҙР°СӮРө 1990-РіРҫ РіРҫРҙР°, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РІРҝРҫР»РҪРө СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ вҖ” 35 Р»РөСӮ СҒРҝСғСҒСӮСҸ вҖ” РјРҫР¶РҪРҫ РҫСӮРјРөСҮР°СӮСҢ РәР°Рә СҺРұРёР»РөР№РҪСғСҺ, Рә СӮРҫР№ РҙР°СӮРө «вСӮРҫСҖР¶РөРҪРёСҸ РҳСҖР°РәР° РІ РҡСғРІРөР№СӮВ», РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҝРҫСҒРІСҸСүРөРҪР° СҚСӮР° СҒСӮР°СӮСҢСҸ. Р’РҫСӮ фаРәСӮСӢ вҖ” СӮР°РәРёРө, РәР°РәРёРјРё РёС… зафиРәСҒРёСҖРҫвала СҒРөРіРҫРҙРҪСҸСҲРҪСҸСҸ «иСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәР°СҸ РҪР°СғРәа», СӮР°Рә СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ излагаСҺСӮСҒСҸ РҫРҪРё РІ СғСҮРөРұРҪРёРәах Рё Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢС…, Рё СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёС….
18 РёСҺР»СҸ 1990-РіРҫ РЎР°РҙРҙам РІ РҝСғРұлиСҮРҪРҫРј РІСӢСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёРё РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё Р·Р°СҸРІРёР» РҡСғРІРөР№СӮСғ: В«РҳРҙСғ РҪР° РІСӢВ». РһРҪ РҫРұСҠСҸРІР»СҸРөСӮ РҡСғРІРөР№СӮ В«РҝСҖРҫРІРёРҪСҶРёРөР№ РҳСҖР°Рәа», РәРҫРіРҙР°-СӮРҫ РҪРөР·Р°РәРҫРҪРҪРҫ РҫСӮСӮРҫСҖРіРҪСғСӮРҫР№ РәРҫР»РҫРҪРёР·Р°СӮРҫСҖами; РҫРҪ РҝРөСҖРөСҮРёСҒР»СҸРөСӮ РҪРөС„СӮРөРҪРҫСҒРҪСӢРө СҖайРҫРҪСӢ Рё РҫСҶРөРҪРёРІР°РөСӮ РҙРҫлг РҡСғРІРөР№СӮР° РҝРөСҖРөРҙ РҳСҖР°РәРҫРј: РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫСӮРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ РІРөСҖРҪСғСӮСҢ СҒСғРјРјСғ, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ Р·Р°РҙРҫлжал РҡСғРІРөР№СӮСғ (14 миллиаСҖРҙРҫРІ СӮРҫРіРҙР°СҲРҪРёС… РҙРҫллаСҖРҫРІ), РҪРҫ Рё СӮСҖРөРұСғРөСӮ Р·Р°РҝлаСӮРёСӮСҢ РөРјСғ РөСүС‘ $2,5 миллиаСҖРҙР°. РҹРҫСҒР»Рө СҚСӮРҫРіРҫ РҪР°СҮРёРҪР°РөСӮСҒСҸ РІРёС…СҖСҢ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёС… РҝРҫРөР·РҙРҫРә: СҚРјРёСҖ РҡСғРІРөР№СӮР° РјРөСҮРөСӮСҒСҸ РІ РҝРҫРёСҒРәах РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәРё; СӮР°РәРҫР№-СӮРҫ Р°СҖР°РұСҒРәРёР№ лиРҙРөСҖ РҝСҖРёРұСӢРІР°РөСӮ РІ БагРҙР°Рҙ, СҮСӮРҫРұСӢ РҫСӮРіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ РЎР°РҙРҙама РҫСӮ РҪР°РҝР°РҙРөРҪРёСҸ; Р“РҫСҒСҒРөРәСҖРөСӮР°СҖСҢ РЎРЁРҗ РҝСҖРёР»РөСӮР°РөСӮ РІ РңРҫСҒРәРІСғ, СҮСӮРҫРұСӢ РҙРҫРіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢСҒСҸ Рҫ СҒРҫРІРјРөСҒСӮРҪРҫР№ СҖРөР°РәСҶРёРёвҖҰ
РЎСӮР°СҖСӮСғСҺСӮ РёСҖР°РәРҫ-РәСғРІРөР№СӮСҒРәРёРө РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖСӢ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҳСҖР°Рә 1-РіРҫ авгСғСҒСӮР° В«СҒРҫСҖвал» (СҒРҫглаСҒРҪРҫ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢРј СғСҮРөРұРҪРёРәам), Р° СғР¶Рө РІ РҙРІР° СҮР°СҒР° РҪРҫСҮРё 2-РіРҫ авгСғСҒСӮР° РҪР°СҮРёРҪР°РөСӮСҒСҸ «вСӮРҫСҖР¶РөРҪРёРөВ» (РҫРұСҖР°СӮРёРј РІРҪРёРјР°РҪРёРө: РІ СӮРөС… Р¶Рө СӮРөСҖРјРёРҪах Р—Р°РҝР°Рҙ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РҫРҝРёСҒСӢРІР°РөСӮ Рё «захваСӮ РҡСҖСӢРјР° Р РҫСҒСҒРёРөР№В»). Р’ РҡСғРІРөР№СӮ РІРІРҫРҙСҸСӮСҒСҸ 88 СӮСӢСҒСҸСҮ СҒРҫР»РҙР°СӮ РёСҖР°РәСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё 690 СӮР°РҪРәРҫРІ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІР°; СҒРҫР·РҙаёСӮСҒСҸ «СвРҫРұРҫРҙРҪР°СҸ СҖРөСҒРҝСғРұлиРәР° РҡСғРІРөР№СӮВ», РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢРө СғСҮРөРұРҪРёРәРё СҖРёСҒСғСҺСӮ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РёСҒРәР»СҺСҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РәР°Рә РҝСҖРҫРҙСғРәСӮ СҒР°РҙРҙамРҫРІСҒРәРёС… СҒРҝРөСҶСҒР»СғР¶РұвҖҰВ РҹРҫ РәСҖайРҪРөР№ РјРөСҖРө, РҪРёРәСӮРҫ РҪРө РҫСӮСҖРёСҶР°РөСӮ (РҙажРө РҪР° Р—Р°РҝР°РҙРө), СҮСӮРҫ РҝалРөСҒСӮРёРҪСҶСӢ, живСғСүРёРө РІ РҡСғРІРөР№СӮРө, РёСҖР°РәСҒРәСғСҺ Р°СҖРјРёСҺ РІСҒСӮСҖРөСҮР°СҺСӮ РІРҫСҒСӮРҫСҖР¶РөРҪРҪРҫ, РәР°Рә РҫСҒРІРҫРұРҫРҙРёСӮРөР»РөР№; СҮСӮРҫ РҙалРөРәРҫ РҪРө РІСҒРө Р°СҖР°РұСҒРәРёРө лиРҙРөСҖСӢ РҫСҒСғРҙили РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ РЎР°РҙРҙама, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҫСӮ РҫСҒСғР¶РҙРөРҪРёСҸ РҫСӮРәазалиСҒСҢ РҳРҫСҖРҙР°РҪРёСҸ, РҷРөРјРөРҪ, РҹалРөСҒСӮРёРҪСҒРәР°СҸ авСӮРҫРҪРҫРјРёСҸ, РЎСғРҙР°РҪ, РңавСҖРёСӮР°РҪРёСҸ, РӣРёРІРёСҸвҖҰ РһРҙРҪР°РәРҫ СҖРөР°РәСҶРёСҸ Р—Р°РҝР°РҙР° РұСӢла СҖРөСҲРёСӮРөР»СҢРҪРҫР№: СҒСҖазСғ РұСӢли Р°СҖРөСҒСӮРҫРІР°РҪСӢ РІСҒРө СҒСҮРөСӮР° РҳСҖР°РәР° РІ Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢС… РұР°РҪРәах, РҫРұСҠСҸРІР»РөРҪРҫ СӮРҫСӮалСҢРҪРҫРө СҚРјРұР°СҖРіРҫ (Рә РәРҫСӮРҫСҖРҫРјСғ СғР¶Рө 3-РіРҫ авгСғСҒСӮР° РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪРёР»СҒСҸ РЎРЎРЎР ). 4-РіРҫ авгСғСҒСӮР° РҡРёСӮай РҫРұСҠСҸРІРёР», СҮСӮРҫ РҝСҖРөРәСҖР°СүР°РөСӮ РҝРҫСҒСӮавРәРё РҫСҖСғжиСҸ РҳСҖР°РәСғ; 6-РіРҫ авгСғСҒСӮР° РЎРҫРІРұРөР· РһРһРқ РҝСҖРёРҪСҸР» Р°РҪСӮРёРёСҖР°РәСҒРәСғСҺ СҖРөР·РҫР»СҺСҶРёСҺвҖҰ
Рҗ РҙалРөРө РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫРө СҒРҫРІРҝР°РҙРөРҪРёРө: 9-РіРҫ СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ Р“РҫСҖРұР°СҮёв Рё Р‘СғСҲ РІ РҘРөР»СҢСҒРёРҪРәРё РҝСҖизвали РЎР°РҙРҙама РІСӢРІРөСҒСӮРё РІРҫР№СҒРәР° РёР· РҡСғРІРөР№СӮР°, РҪРҫ СғР¶Рө 10-РіРҫ СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ РҳСҖР°РҪ РҫРұСҠСҸРІРёР» Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РІРҫР·РҫРұРҪРҫРІР»СҸРөСӮ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ СҒ РҳСҖР°РәРҫРј. РЈ СҚСӮРёС… РҙРІСғС… СҒСӮСҖР°РҪ РҝРҫСҸвилаСҒСҢ РҫРұСүР°СҸ Р°РҪСӮиамРөСҖРёРәР°РҪСҒРәР°СҸ РҝРҫРІРөСҒСӮРәР°, Р° Сғ Р’РҫСҒСӮРҫСҮРҪРҫРіРҫ РұР»РҫРәР° РҪР° СҺРіРө СӮРөРҝРөСҖСҢ РІРјРөСҒСӮРҫ РҫРҙРҪРҫРіРҫ РұР°СҒСӮРёРҫРҪР° РёРјРөР»РҫСҒСҢ РҙРІР°. РЎСӮРҫР»СҢ РұР»РөСҒСӮСҸСүРө РҪР°СҮР°СӮРҫРө РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪРөРҪРёРө РҡСғРІРөР№СӮР° Рә РҳСҖР°РәСғ Р·Р°РәРҫРҪСҮРёР»РҫСҒСҢ, РәР°Рә РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, РҝлаСҮРөРІРҪРҫ. Р•РҙРёРҪСҒСӮРІРҫ РҳСҖР°РәР° Рё РҡСғРІРөР№СӮР° РҝСҖРҫРҙРөСҖжалРҫСҒСҢ СҒРөРјСҢ РјРөСҒСҸСҶРөРІ: РІ С„РөРІСҖалРө 1991-РіРҫ амРөСҖРёРәР°РҪСҶСӢ РІСӢРұили РёР· РҡСғРІРөР№СӮР° РёСҖР°РәСҒРәРёРө РІРҫР№СҒРәР° Рё РҝРҫРІСӮРҫСҖРҪРҫ РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪили РҡСғРІРөР№СӮ Рә Р·Р°РҝР°РҙРҪРҫРјСғ лагРөСҖСҺ. РЎР°РҙРҙам, СғС…РҫРҙСҸ, «хлРҫРҝРҪСғР» РҙРІРөСҖСҢСҺВ»: РҝРҫРҙжёг РҪРөС„СӮСҸРҪСӢРө СҒРәважиРҪСӢвҖҰ РқРҫ РҫСҒСӮавалСҒСҸ Сғ влаСҒСӮРё Р·Р°СӮРөРј РөСүС‘ РұРҫР»РөРө РҙРөСҒСҸСӮРё Р»РөСӮ (РҝСҖРё РІСҒС‘ СӮСғР¶Рө Р·Р°СӮСҸРіРёРІР°СҺСүРөР№СҒСҸ РҝРөСӮР»Рө СҒР°РҪРәСҶРёР№) Рё РұСӢР» РҫРәРҫРҪСҮР°СӮРөР»СҢРҪРҫ СҒРІРөСҖРіРҪСғСӮ РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РІСӮРҫСҖР¶РөРҪРёСҸ РЎРЁРҗ РІ РҳСҖР°Рә РІ 2003-Рј РіРҫРҙСғ; РәазРҪС‘РҪ РІ РҙРөРәР°РұСҖРө 2006-РіРҫ РіРҫРҙР°.В Р“СҖажРҙР°РҪРёРҪ РҳСҖР°РәР° РҙРҫРәСӮРҫСҖ Рқазим Р°Рҙ-Р”РөР№СҖави, РҙРҫлгРҫ РҝСҖРҫживСҲРёР№ РІ РҪР°СҲРөР№ СҒСӮСҖР°РҪРө, РҝРҫСҮСӮРё РҙРІР° РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёСҸ РІРҫзглавлСҸРІСҲРёР№ РқРөзавиСҒРёРјСӢР№ СҖСғСҒСҒРәРҫ-Р°СҖР°РұСҒРәРёР№ СҶРөРҪСӮСҖ РЎР°РҪРәСӮ-РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіР°, СӮР°Рә СҒРәазал авСӮРҫСҖСғ СҒСӮР°СӮСҢРё Рҫ РЎР°РҙРҙамРө РҘСғСҒРөР№РҪРө РҝРҫСҒР»Рө РөРіРҫ РәазРҪРё: В«РҹРҫРіРёРұ РәР°Рә РіРөСҖРҫР№!В».
Р”РөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ, РІ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРј РҳСҖР°РәРө РјРҪРҫРіРёРө СҒСҮРёСӮР°СҺСӮ РЎР°РҙРҙама РҘСғСҒРөР№РҪР° лиСҮРҪРҫСҒСӮСҢСҺ РіРөСҖРҫРёСҮРөСҒРәРҫР№ Рё вҖ” РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРҫР№; Рҫ РІРөлиСҮРёРё РҫРәРҫРҪСҮР°СӮРөР»СҢРҪРҫРө СҒСғР¶РҙРөРҪРёРө РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РІСӢРҪРөСҒРөСӮ РҪРө СҒСҖазСғ. РқРҫ авСӮРҫСҖСғ СҚСӮРҫР№ СҒСӮР°СӮСҢРё С…РҫСӮРөР»РҫСҒСҢ РұСӢ РІСӢСҖазиСӮСҢ СҒРәСҖРҫРјРҪСғСҺ РҪР°РҙРөР¶РҙСғ: РҝРҫ РҪРөРёР·СҖРөСҮРёРјРҫРјСғ РјРёР»РҫСҒРөСҖРҙРёСҺ, РҳРёСҒСғСҒ РҘСҖРёСҒСӮРҫСҒ РјРҫР¶РөСӮ РҝСҖРҫСҒСӮРёСӮСҢ РЎР°РҙРҙама РҘСғСҒРөР№РҪР° Рё РҝСҖРёРұлизиСӮСҢ Рә СҒРҫРҪРјСғ РҝСҖавРөРҙРҪРёРәРҫРІ. Р§РөР»РҫРІРөРә СҒСӮР°СҖалСҒСҸ, РәР°Рә РјРҫРі, СҒР»СғжиСӮСҢ СӮРҫРјСғ СҶРөРҪСӮСҖСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҒСҮРёСӮал РІ РјРёСҖРө главРҪСӢРј, вҖ” Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РҙРөСҖжавРөвҖҰ
В РЎР°РҪРәСӮ-РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі, Р»РөСӮРҫ 2025 Рі.
![]()