–Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –±—Г–і–љ–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ш–ї—М–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ (1923-1996)
–Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –±—Г–і–љ–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ш–ї—М–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ (1923-1996)
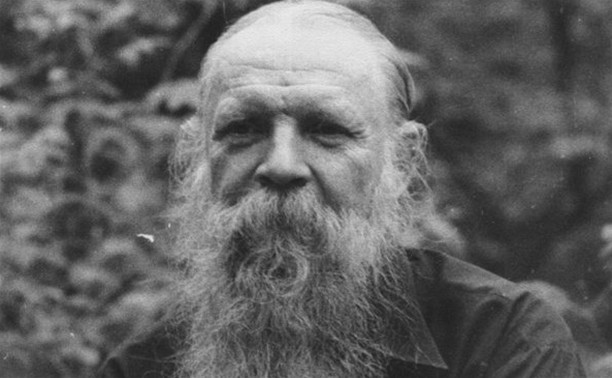
–Т —Г—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г¬† –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 90 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ш–ї—М–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ.
–Ъ—А—Г–њ–љ—Л–є —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В, —Г—З—С–љ—Л–є-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М –Є –і–Њ–љ–µ—Б—В–Є –і–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В—М –≤¬† —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞—Е –ї—О–±–Њ–≤—М –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б—В–≤—Г, –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Њ –±—А–∞—В—М—П—Е-—Б–ї–∞–≤—П–љ–∞—Е –≤ —Б—А–µ–і–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤¬† –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л—Б—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. –Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–љ–µ—А–≥–Є—П –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Є—Б—Б—П–Ї–∞–µ–Љ–∞—П; —И–Є—А–Њ—З–∞–є—И–∞—П —Н—А—Г–і–Є—Ж–Є—П, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –љ–µ–Њ—В—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ–µ¬† –Њ–±–∞—П–љ–Є–µ, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О, –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ, –љ–µ—Г—Б—В–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і¬† (¬Ђ—П –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї¬† –Ї –Ї–Є–њ—Г—З–µ–є вАФ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ вАФ —П –њ—А–Є–≤—Л–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ¬ї, вАФ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П —Г—З—С–љ—Л–є), –њ—Г–љ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Є–і–Є—А—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞—П –≤ —Г—З—С–љ—Л—Е –Ј–∞–љ—П—В–Є—П—Е, –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –Ј–Њ—А–Ї–Њ—Б—В—М, ¬Ђ–ґ–Є–≤–Њ–є –Є –±–Њ–є–Ї–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Г–Љ¬ї, –љ–∞—В—Г—А–∞ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—Л—З–љ–∞—П вАФ –±–Њ–≥–∞—В–∞—П, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П, —Г—В–Њ–љ—З—С–љ–љ–∞—П, –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–∞—ПвА¶ вАФ —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–Є–≤—С—В –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –£—З–Є—В–µ–ї—М.
13-16 –Љ–∞—П –≤ –ѓ—Б–љ–Њ–є –Я–Њ–ї—П–љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П вАФ 17 –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —З—В–µ–љ–Є—П ¬ЂEthnolinguistica Slavica¬ї,¬† 17 –Љ–∞—П –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ ¬Ђ–Ш–Ј –°–µ—А–±–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Њ–љ–∞¬† –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≥–і–µ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ш–ї—М–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є вАФ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В, —Б–Њ–ї–і–∞—В, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї¬ї —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Ы. –Э. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Р 10 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –≤ –Т–µ–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Э. –Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ.¬† –Ъ —О–±–Є–ї–µ—О –Э. –Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В —Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –†–Р–Э –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Д–µ—Б—В—И—А–Є—Д—В ¬ЂEthnolinguistica Slavica¬ї (–Ь., –Ш–љ–і—А–Є–Ї. 2013),¬† –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –±—Л–ї–Є –Є–Ј–і–∞–љ—Л 27 –њ–Є—Б–µ–Љ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–µ—Ж –Э. –Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є¬† –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є —В—С—В–Ї–µ –Р–љ–љ–µ –Ш–ї—М–Є–љ–Є—З–љ–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є-–Я–Њ–њ–Њ–≤–Њ–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Я—А–Є—З—С–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –љ–∞—И—С–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Є–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ: —Д–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–µ –њ–Є—Б–µ–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л –љ–∞ –њ–ї–Њ—В–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—В—А–Њ–µ-–≤—З–µ—В–≤–µ—А–Њ –ї–Є—Б—В–∞—Е –±—Г–Љ–∞–≥–Є вАФ —В–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –љ–∞—А—П–і—Г —Б —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є вАФ (–љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ —В–µ–Ї—Б—В –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞), –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —Б–Њ —И—В–µ–Љ–њ–µ–ї–µ–Љ ¬Ђ–Я—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –¶–µ–љ–Ј—Г—А–Њ–є¬ї, –≤—Б—П —Б—В–Њ–њ–Ї–∞ –њ–Є—Б–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –±–µ—З—С–≤–Ї–Њ–є вАФ –≤–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е ¬Ђ—Н–њ–Є—Б—В–Њ–ї¬ї, —А–∞—А–Є—В–µ—В.
–Э. –Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –Т—А—И–∞—Ж (–њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є), –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Б–µ–Љ—М—П –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –С–µ–ї–≥—А–∞–і, –≥–і–µ –Њ–љ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—Б–µ—А–±—Б–Ї—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О. –Т 1942-–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–µ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤¬† –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Э–Њ–≤—Л–є –С–µ—З–µ–є. –Ґ—Г—В —Г–ґ–µ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –±—Г–і–љ–Є. –°–µ–Љ—М—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–∞, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ –°–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О. –Т—Л–±–Њ—А –±—Л–ї –њ—А–Њ—Б—В вАФ –≤–ї–∞—Б—В—М –њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–∞, –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤–µ—З–љ–∞.
–Я–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –Э–Њ–≤—Л–є –С–µ—З–µ–є, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –≤—Л–і–∞–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–њ—А–∞–≤–Ї–∞, ¬Ђ–њ—А–Є —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–ЄвА¶ —А. –Ґ–Є—Б—Б–∞ –њ–Њ–і —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є –Љ–Є–љ–Њ–Љ—С—В–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ—С–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–є—Ж–∞–Љ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Б–∞–Љ–Њ–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–∞–ї–∞—В –і–ї—П –љ–Є—Е, —Б–Њ–±–Є—А–∞—П —Г –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –і–ї—П –љ–Є—Е, –Є —Б–∞–Љ —Б—Г—В–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–Њ–Љ-–љ–Њ—Б–Є–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ. –†–∞–љ–µ–љ—Л–µ –±–Њ–є—Ж—Л –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В –µ–Љ—Г —Б–∞–Љ—Г—О –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ—О—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М¬ї. –Ш–Ј –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –С–µ—З–µ—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Г—И—С–ї —Б –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–µ–є –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≤ –љ–µ—С –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –±–Њ–µ—Ж¬ї.
–Ш –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –Њ—В—Б—О–і–∞ —Б –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –≤ –і–∞–ї—С–Ї—Г—О, –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О, –љ–Њ —А–Њ–і–љ—Г—О –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –±–Њ–є—Ж—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ–Є—Б—М–Љ–∞. –Я–Є—Б—М–Љ–∞ —Н—В–Є —Б—Г—В—М —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є –ґ–Є–≤–Њ–є –љ–∞—В—Г—А—Л –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ —Г—З—С–љ–Њ–≥–Њ, –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П, –µ–≥–Њ –≤–Ї—Г—Б–Њ–≤ –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–є. –≠—В–Њ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М, –њ—Г—Б—В—М –Є –љ–µ–і–Њ–ї–≥–∞—П (–њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б –Љ–∞—А—В–∞ –њ–Њ –∞–≤–≥—Г—Б—В 1945 –≥.) –ґ–Є–Ј–љ–Є –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є, –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є, –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є. –І–Є—В–∞—П –Є—Е, –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –ї–Њ–≤–Є—И—М —Б–µ–±—П –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є вАФ –і–∞ –≤–µ–і—М –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ш–ї—М–Є—З –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ,¬† –≤ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї–Њ–≥–∞ –µ–Љ—Г –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—И—М, –∞ –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –њ–Њ—Н–Ј–Є—О, –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е –Њ–љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Ж–Є—В–Є—А—Г–µ—В —Б—В–Є—Е–Є, –µ—Б—В—М —В–∞–Љ –Є —З—Г–і–љ—Л–µ –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–µ –ґ–∞–љ—А–Њ–≤—Л–µ —Б—Ж–µ–љ–Ї–Є –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М—П –Њ —Б—Г–і—М–±–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –µ–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–µвА¶–≠—В–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –Є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—В—Г—А—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –Є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –µ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П—Е: –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Б—В–∞–љ–µ—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞, –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Њ–±—А—П–і–Њ–≤, –њ–µ—Б–µ–љвА¶ –Ю–љ¬† –њ—А–Є–і–∞—Б—В –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Њ—Й–љ—Л–є –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—В–≤–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В–Є–Ї–Є вАФ —Н—В–љ–Њ–ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–µ (–µ–і–≤–∞ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і), –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–µ ¬Ђ–љ–∞ —Б—В—Л–Ї–µ¬ї –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —Б—В–∞–љ–µ—В —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Н—В–љ–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ, –∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї —Б–≤–Њ–є –љ–∞—З–љ—С—В –≤ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ–Љ¬† –Я–Њ–ї–µ—Б—М–µ –≤ –С–µ–ї–Њ–є –†—Г—Б–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞—Б–њ–∞—Е–љ—С—В –њ–µ—А–µ–і –њ—Л—В–ї–Є–≤—Л–Љ —Г–Љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –Ї–ї–∞–і–Њ–≤—Л–µвА¶ –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б—В–∞–љ–µ—В —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є, –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М ¬Ђ–°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (–≤ 5-—В–Є —В—В. –Ь.,1995-2012) вАФ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤ —Б–ї–∞–≤–Є—Б—В–Є–Ї–µ –Њ–њ—Л—В —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤—Б–µ—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–µ–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ —З—В–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є.
–§—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –ї—О–±–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л, –Њ–љ–Є —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—В¬†¬† –љ–Њ–≤—Л–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ¬† –≥—А–∞–љ–Є –µ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Г–≥–Њ–ї–Ї–Є –і—Г—И–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ вАФ –≤–µ–і—М –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ —Б–≤–Њ–µ–є¬† —А–Њ–і–љ–Њ–є —В—С—В–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О, –њ—А–∞–≤–і–∞, –і–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О (–°–°–°–†) –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї, –љ–Њ —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Ј–љ–∞–ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ–є, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Ј–∞–і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є¬†¬† –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ. –Э–µ—В –≤ –µ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е¬† –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П, –Є —Е–Њ—В—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–Є—В –≥—А—Г—Б—В—М вАФ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л–µ ¬Ђ—Н–њ–Є—Б—В–Њ–ї—Л¬ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–љ—Л, –≤ –љ–Є—Е —Б–≤–µ—В–Є—В—Б—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ, –≤ –љ–Є—Е —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–ї—М–Ј—Л–≤–∞–µ—В —О–Љ–Њ—А –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–Љ —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ, –Њ–љ–Є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –ї–Є—А–Є—З–љ—Л, —В–∞–Љ –љ–µ—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є (–љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Є—Б–∞—В—М), —Н—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –±—Г–і–љ—П—Е, –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –Њ —Б–Љ–µ—А—В–ЄвА¶
¬Ђ–Э–µ –Ј–љ–∞—О –њ–Њ—З–µ–Љ—Г, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ, вАФ –љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ—М. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –≤—Б—С. –Ф–∞–ґ–µ —Б–Љ–µ—А—В—М –њ–Њ–Ї–Њ—А—П–µ—В—Б—П —Н—В–Њ–Љ—Г —З—Г–≤—Б—В–≤—Г вАФ —Н—В–Є–Љ –Є —Б–Є–ї—С–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. <вА¶> вА¶–≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±–Њ—П–ї—Б—П —Б–Љ–µ—А—В–Є. –•–Њ—В—П —П —В–∞–Ї–ґ–µ –і—Г–Љ–∞—О –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є вАФ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Х—Б–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ—Г—Б—М –ґ–Є–≤–Њ–є, —В–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –љ–∞–Ї–Њ–њ–Є—В—Б—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ. –•–Њ—В—П –≤—Б—С —Н—В–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–µ—З—В–∞–љ–Є–є. –§—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: вАЬ–Я—А–Њ–ґ–Є–ї –і–µ–љ—М –Є —Е–Њ—А–Њ—И–ЊвАЭ¬ї (–њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Є–Ј –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є –Њ—В 24.03.45).¬† –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ, –Љ—П–≥–Ї–Њ —Г–Ї–Њ—А—П—П —В–µ—В–Ї—Г –Ј–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ, –Њ–љ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В: ¬ЂвА¶ –∞¬† –±–µ–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Њ—Б–Ї–∞ –Ј–∞–µ–і–∞–µ—В, –Ш –љ–Є–Ї–∞–Ї –њ–Њ—А–Њ–є –љ–µ –њ–Њ–є–Љ—С—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ї —В–µ–±–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В, —Н—В–∞ —В–Њ—Б–Ї–∞ вАФ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Є –±–µ—Б–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ —Б—В–∞–љ–µ—В –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ –Є –љ–µ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Ш –≤ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Є—Б—М–Љ–µ—Ж–Њ вАФ –ї—Г—З—И–µ–µ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–Њ: –њ—А–Њ—З—В–µ—И—М —А–∞–Ј, –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ—Й—С —А–∞–Ј, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—И—М –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ, —Г–є–і—С—И—М –Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Є –љ–∞–µ–і–Є–љ–µ –≤ —В—А–µ—В–Є–є —А–∞–Ј –њ—А–Њ—З—В—С—И—М. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ —Б—Г–Љ–Ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—И—М –Є –µ—Й—С –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј —З–Є—В–∞–µ—И—М —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О-–і–≤–µ. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –Ї—А—Г–≥–ї—Г—О –њ–µ—З–∞—В—М: вАЬ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞вАЭ, –µ—Б—В—М –≤ –љ–µ–є¬† —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –≤–ї–µ–Ї—Г—Й–µ–µ¬† –Ї —Б–µ–±–µ. <вА¶> –Т–Њ—В —Б–Є–ґ—Г –Є –≤—Л–і—Г–Љ—Л–≤–∞—О –≤—Б—П–Ї—Г—О —З–µ–њ—Г—Е—Г, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А:
.
–Ц–і—Г –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–Љ –±–ї–Њ–Ї–љ–Њ—В–µ
–С—Г–і–µ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞
–Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ
–ѓ —Г–≤–Є–ґ—Г –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є —И—В–∞–Љ–њ: вАЬ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞вАЭ.
.
<вА¶>¬† –Я–Њ—Б—Л–ї–∞–є —Е–Њ—В—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї–Є, –і–∞ –њ–Њ—З–∞—Й–µвА¶ –Т–Њ–Ј—М–Љ–Є –і–ї—П —Б–µ–±—П –ї–Є—И–љ—О—О –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г –і–ї—П —Д—А–Њ–љ—В–∞: —А–∞–Ј –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї—Г –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О¬† –∞—А–Љ–Є—О. –Р –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї —В–≤–Њ–є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—П –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г вАФ –±—Г–і–µ—В –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–Њ–Љ, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–Љ: –Ї—А–µ–њ—З–µ –±—Г–і–µ—В –і–µ—А–ґ–∞—В—М –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В –≤ —А—Г–Ї–µ.
–Т–µ—Б–љ–∞вА¶ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ї –љ–∞–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–µ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–±–∞, –Ї–∞–Ї –≥—А—П–Ј–љ–∞—П —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–∞—П —И–Є–љ–µ–ї—М, —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є —Б–≤–µ—В–ї–∞—П вАЬ–≥–Њ–ї—Г–±–µ–љ—МвАЭвА¶ —П—Б–љ–Њ–µ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–µ –љ–µ–±–Њ. –Ш –Љ–Њ–є –ї—Г—З—И–Є–є –і—А—Г–≥ –°–µ—А—С–ґ–∞ –Р—А—В—О—Е–Є–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Љ–љ–µ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–є —Ж–≤–µ—В –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–є –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є. –Р —Г –Љ–µ–љ—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –љ–µ—В вАФ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г; –≤–Њ—В –Є –њ–Є—И—Г —П –Є —Б—Л–њ–ї—О —В–µ–±–µ —Н—В—Г –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ—Г—О –ї–Є—А–Є–Ї—ГвА¶¬† <вА¶>–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є –≤–њ–µ—А—С–і: —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ –≤–Њ–є–љ—Л –≤–∞–ї—П—О—В—Б—П —А–∞–Ј–±–Є—В—Л–µ —Д—А–Є—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —В–∞–љ–Ї–Є, —Г–±–Є—В—Л–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є, —В–∞—З–∞–љ–Ї–Є, –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—И–Є–љ—Л, –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В—Л.¬† –Ш –љ–∞ –≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–є —В–∞–ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –≤–∞–ї—П—О—В—Б—П –≤—Б—О–і—Г –љ–µ–Љ—Ж—Л –≤ –Ј–µ–ї—С–љ—Л—Е —И–Є–љ–µ–ї—П—Е. –Ш –і—Г—И–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–∞ –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–∞ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ вАЬ–≤–µ—Б–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–µ–≤–∞вАЭ, –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–Є–є –≥–Њ–і –љ–∞ —Н—В–Є—Е –њ–Њ–ї—П—Е –љ–µ –≤—Л—А–∞—Б—В—Г—В –љ–Њ–≤—Л–µ вАЬ—Д—А–Є—Ж—ЛвАЭ. –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Н—В–∞:
.
–Ш —В–∞–Ї —Б–ї–∞–і–Ї–Њ —А—П–і–Є—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Г,
–°–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –≤ –ґ–µ–Љ—З—Г–≥–∞,
–Я—А–Њ—Е–Њ–і—П –њ–Њ –і—Л–Љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г
–Ю—В—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞.<вА¶> ¬ї
.
–Ш –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ —А–∞–љ—М—И–µ –≤—Б–µ —В–∞ –ґ–µ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞ –Њ –≤–µ—Б—В–Њ—З–Ї–∞—Е –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –љ–µ—Е–Є—В—А—Л–є, –љ–Њ –Є —Б –Њ—В—В–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є —О–Љ–Њ—А–∞, –Њ –±—Г–і–љ—П—Е –≤–Њ–є–љ—Л.
¬Ђ–Ф–Њ—А–Њ–≥–∞—П —В—С—В—П –Р–љ—П, –µ—Б–ї–Є –±—Л —В—Л –Ј–љ–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —Б –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –і–ї—П –±–Њ–є—Ж–∞ —Н—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ. –Ю–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–∞—А–µ–љ—М, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, —Е–Њ–і–Є—В —Ж–µ–ї—Л–є –і–µ–љ—М —Б –љ–Є–Љ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Є —З–Є—В–∞–µ—В –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ. –Ш –≤—Б–µ —А–µ–±—П—В–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –њ–Є—Б—М–Љ–∞вА¶ –Є —В–∞–Ї –Њ–±–Є–і–љ–Њ –Є –≥–Њ—А—М–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–±—П—В–∞ –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ —Б –њ–Є—Б—М–Љ–∞–Љ–Є —Б—В–Њ—П—В, –ґ–∞–і–љ–Њ –≥–ї–Њ—В–∞—О—В –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –∞ —В–µ–±–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ—В. –Ю–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –і—Г—И–µ: —Б—А–∞–Ј—Г –Є –і–Њ–Љ —Б–≤–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –Є –Ј–∞–±–Њ—А –Њ–±–ї–µ–Ј–ї—Л–є, –Є —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ —Б–≤–Њ—П –њ—А–Є–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П вАФ –і–ї–Є–љ–љ–Њ—Г—Е–∞—П —Б –Ї—Г—Ж—Л–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ. –Ш—В–∞–Ї, –і–Њ—А–Њ–≥–∞—П —В—С—В—П –Р–љ—П, –њ–Є—И–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –Љ–љ–µ –њ–Њ—З–∞—Й–µвА¶
–Ґ—Л –≤–µ–і—М –ґ–Є–≤–µ—И—М –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ, —В–∞–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ—В; –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –±—М—С—В –Ї–ї—О—З–Њ–Љ. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–Є—В–∞–µ—И—М –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ вАЬ–Я—А–∞–≤–і—ЛвАЭ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤, –њ—М–µ—Б, –і—А–∞–Љ, –Є —В–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ —А–∞–і—Г–µ—В—Б—П. –Ф—Г–Љ–∞–µ—И—М —В–Њ–≥–і–∞, —З—В–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ –Њ–і–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П, –Є–Ј—А—Л—В–∞—П —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є, –љ–µ –Њ–і–љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–Ї—А—Л–µ –Њ–Ї–Њ–њ—Л –і–∞ —Б–≥–Њ—А–µ–ї—Л–µ —Е–∞—В—Л, –≥–і–µ-—В–Њ —В–∞–Љ –≤ –Ь–•–Ґ —Б—В–∞–≤—П—В вАЬ–Р–љ–љ—Г –Ъ–∞—А–µ–љ–Є–љ—ГвАЭ, –∞ –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є —В–µ–±–µ –≤—Л–њ–∞–і–µ—В —Б—З–∞—Б—В—М–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –≤ вАЬ–•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–ЉвАЭ. –Т—Б—С —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ –ї—Г—З—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ–µ, –∞ –Ј–і–µ—Б—М –≤ —З—Г–ґ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ, —Б–Ї—Г—З–љ–Њ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, —П –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ —Б–≥—Г—Й–∞—О –Ї—А–∞—Б–Ї–Є, –≤–Њ –≤—Б–µ–є –љ–∞—И–µ–є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л –Є —Б–≤–Њ–Є —А–∞–і–Њ—Б—В–Є. –ѓ —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ —П –љ–Є–≥–і–µ –±—Л —В–∞–Ї —В–µ–њ–ї–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї 27-—Г—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –†–Ъ–Ъ–Р, –Ї–∞–Ї —П –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –µ—С –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ. –Т—Б—С, –Є —А–µ—З—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –Є –Ј–і—А–∞–≤–Є—Ж—Л, —Е–Њ—А–Њ–≤—Л–µ –њ–µ—Б–љ–Є —А–µ–±—П—В, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Є –Њ—Е—А–Є–њ–ї—Л–є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–Њ–Є –і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–Є—Е–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Ї –Љ–µ—Б—В—Г. –Ш —П –µ—Й—С —А–∞–Ј –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і—А—Г–ґ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ. –Ґ–≤–Њ—О –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї—Г —П —З–Є—В–∞–ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ, –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —П —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї —В–µ–±—П, –Њ–љ–Є —И–ї—О—В —В–µ–±–µ –њ—А–Є–≤–µ—В –Є –њ—А–Њ—Б—П—В —В–µ–±—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –≤ –∞—А–Љ–Є–Є –µ—Й—С —Б 1941 –≥–Њ–і–∞.
–Ґ–∞–Ї —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б –†–Њ–і–Є–љ—Л –Є —В–∞–Ї —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞, —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–∞—И–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ—З–µ–љ—М –Њ–і–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞ –Є –µ—Б–ї–Є –Є –±—Л–≤–∞—О—В –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ вАФ —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—ПвА¶
–•–Њ—З—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –µ—Й—С –Њ —В–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і—К—С–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–µ–є—З–∞—Б¬† —Г –љ–∞—Б –≤ –Р—А–Љ–Є–Є. –°–Њ–ї–і–∞—В—Л –љ–µ–Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –Њ—В—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є, –њ—А–Њ–є—В–Є –≤–њ–µ—А—С–і. –Т—Б–µ —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–і—Г—В –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П: –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М —З–∞—Б –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л.
–Я–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ —А–µ–±—П—В–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ, –Є —П —З–Є—В–∞—О –Є–Љ –≤—Б–ї—Г—Е –≥–∞–Ј–µ—В—ЛвА¶ –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ–±—Л–≤–∞—О —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ вАФ вАЬ–Я—А–∞–≤–і—ГвАЭ,¬† вАЬ–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є—ПвАЭ, –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–±–µ–≥–∞—В—МвА¶ –Э–Њ —П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ –ґ–∞–ї–µ—О —В—А—Г–і–∞, –њ–Њ—В–∞ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–≥. –Ґ–∞–Ї —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є: –Є –≤ –Ї–ї—Г–±–µ –Љ–µ–љ—П –Ј–љ–∞—О—В, –Є –≤ –і–Є–≤–Є–Ј. —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –Є –љ–∞ –Ф–Њ—В-–µ, –Є –≤ —Б–∞–љ-–±–∞—В–µ, –Є –≤ –∞–≤—В–Њ-—А–Њ—В–µ, –Є –і–∞–ґ–µ –≤ —Е–Њ–Ј-–≤–Ј–≤–Њ–і–µ. –Ґ–∞–Ї –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ: вАЬ–Ю—Е, –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ, –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—ЗвАЭ вАФ —Н—В–Њ –њ–Њ–і—Б–Љ–µ–Є–≤–∞—О—В—Б—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ї –њ—А–∞–і–µ–і —Г–Љ–љ–Є—Ж–∞ –±—Л–ї, –∞ —В—Л –±–∞–ї–±–µ—Б. <вА¶> –§–Њ—В–Њ–Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї—Г –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞—О—Б—М –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М: —Е–Њ—В—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ —Б—Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Є—И–ї—О, –љ–µ –њ—Г–≥–∞–є—Б—П! –Ь–Њ–є —А–Њ—Б—В вАФ –њ–Њ—З—В–Є –і–≤–∞ –Љ–µ—В—А–∞¬ї (9 –Љ–∞—А—В–∞ 1945 –≥.). –Ґ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ш–ї—М–Є—З, –≤–µ–і—М –Њ–љ–Є —Б —В–µ—В–Ї–Њ–є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М, –∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1945-–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–µ–Љ—М—П –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л—Е, –Њ–і–љ–Є—Е –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —А–µ–њ–∞—В—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ—С –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Ґ–µ–Љ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ —Н—В–∞ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –љ–µ–ґ–љ–∞—П, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ—П—П, —В–∞–Ї–∞—П –њ—А–Њ—Б—В–∞—П –Є –і–Њ–±—А–∞—П —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬† –њ–Є—Б–µ–Љ, –±—Г–і—В–Њ –њ–Є—И–µ—В –Њ–љ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г.
–Ш–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Љ–∞—А—В–∞ 1945 –≥. –Т–µ–љ–≥—А–Є—П: ¬ЂвА¶—Б–Є–ґ—Г —Б–µ–є—З–∞—Б¬† –≤ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Д–∞—И–Є—Б—В–∞. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–њ–Њ–≤–∞–ї–Ї—Г —Б–њ—П—В —А–µ–±—П—В–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ґ–∞–љ—Л—Е –Ї—А–µ—Б–ї–∞—Е –Є –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–≤—А–∞—Е. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–ї—Л–±–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—А—В—А–µ—В –ґ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–∞—В–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –ї–Є [–±—Л] –Њ–љ —В–∞–Ї, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–≤–Є–і–µ–ї —Б–≤–Њ—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ–Є. –Р вАЬ–љ–Њ–≤—Л–µ —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞вАЭ, —Г—Б—В–∞–ї—Л–µ –Њ—В –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Г—В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, —Б–њ—П—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–≥–∞—В—Л—А—Б–Ї–Є–Љ —Б–љ–Њ–Љ. <вА¶> –Э–∞—И–Є —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –≥–Њ—А–Њ–і –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞—В–Є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—И–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є вАФ –і–∞–ґ–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—ВвА¶ –†—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є—В —А–∞–і–Є–Њ–њ—А–Є—С–Љ–љ–Є–Ї вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –љ–∞–Љ —Б–∞–ї—О—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞. –Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –≥–і–µ-—В–Њ —В–∞–Љ —Г —В–µ–±—П –≥—А–µ–Љ—П—В –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–∞—О—В –≤—Б–µ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–∞–Љ –≤–µ—Б—В—М –Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –Є —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ. –Ш –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –Љ–љ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —В—Л —В–∞–Љ, –∞ —П –Ј–і–µ—Б—М —Б–ї—Г—И–∞–µ–Љ –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –±–∞—Б–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–ї–Њ—Б –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–євА¶ –Ш –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≤—Б–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –љ–µ–і–µ–ї—О –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—ПвА¶ –Т–Њ—В –≤–µ–і—Г—В –і–ї–Є–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Г –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д—А–Є—Ж–µ–≤ –Є –Љ–∞–і—М—П—А. –Ю–±–Њ–і—А–∞–љ–љ—Л–µ, –љ–µ–±—А–Є—В—Л–µ, —Б –Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–ЄвА¶ –Р –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –Є–Љ –Љ—З–∞—В—Б—П –љ–∞—И–Є —В–∞–љ–Ї–Є вАЬ—В—А–Є–і—Ж–∞—В—М—З–µ—В–≤—С—А–Ї–ЄвАЭ вАФ —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В—Л –≤–µ—Б—С–ї—Л–µ, –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї—Л–µ, —Б–Є–і—П—В –љ–∞ –±—А–Њ–љ–µ, –њ–Њ—О—В –њ–µ—Б–љ–Є, –Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є, —А—Г—Б—Л–є, —Б —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ —И–ї–µ–Љ–Њ–Љ –љ–∞ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–µ, –Ї—А–Є—З–Є—В –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г вАЬ—Д—А–Є—Ж–∞–ЉвАЭ: вАЬ–Э—Г, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є –њ—Г—В—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—ГвАЭ. –Р –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–∞—П вАЬ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—ПвАЭ, –і–ї—П –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є вАФ –і–∞–ї—С–Ї–∞—П, –≥—А–Њ–Ј–љ–∞—П, –Ї–∞—А–∞—О—Й–∞—П. –ѓ —Г–ґ–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—ГвА¶ –Я–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–ї–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—МвА¶ –Ј–і–µ—И–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–ЄвА¶ –Ч–∞—Е–Њ–і–Є—И—М –Ї –љ–Є–Љ –≤ —Е–∞—В—Г (–Ї –Љ–∞–і—М—П—А–∞–Љ) –Є –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Ї —В–µ–±–µ –≤—Л–є–і–µ—В –њ—С—Б—В—А—Л–є –≥—Г—Б–∞—А –≤—А–µ–Љ—С–љ –§—А–∞–љ—Ж–∞-–Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –Є–ї–Є –Ь–∞—А–Є–Є-–Ґ–µ—А–µ–Ј–Є–Є. –Ш –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –≤—Л–є–і–µ—В вАФ —В–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –≤–Є—Б–µ—В—М –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ, –љ–∞–і —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –і—Г–±–Њ–≤–Њ–є –і–≤—Г—Б–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–∞—В—М—О —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞. –Р –Њ–љ —Б–∞–Љ вАФ –≥—Г—Б–∞—А –§—А–∞–љ—Ж–∞-–Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ вАФ 80-–ї–µ—В–љ–Є–є —Б—В–∞—А–Є–Ї вАФ –±—Г–і–µ—В —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞–Љ–µ–µ—З–Ї–µ —Г –і–≤–µ—А–Є –Є –Ї—Г—А–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –Љ–µ—В—А–Њ–≤—Г—О —В—А—Г–±–Ї—Г —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–Њ–ЉвА¶ –Р –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е —В–Є—Е–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–∞—П –≤–µ—Б–љ–∞. –Ґ—А–∞–≤–∞ –Ј–µ–ї–µ–љ–µ–µ—В, —А–∞—Б–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—З–Ї–Є –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—М—П—Е. –°–Ї–Њ—А–Њ –≤ —Д—А—Г–Ї—В–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–і–∞—Е –Ј–∞—Ж–≤–µ—В—Г—В —П–±–ї–Њ–љ–Є вАФ –Є—Е –Ј–і–µ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ґ—С–њ–ї—Л–є –≤–µ—В–µ—А –љ–µ–ґ–љ–Њ –ї–∞—Б–Ї–∞–µ—В –Є —В—А–µ–њ–ї–µ—В –њ–Њ—В—С—А—В—Г—О –Є –≤–Є–і–∞–≤—И—Г—О –≤–Є–і—Л —И–Є–љ–µ–ї—М, –љ–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Г—О –≤–љ–∞–Ї–Є–і–Ї—Г. –Р —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Њ–±–Љ–∞–љ—З–Є–≤–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, —В–∞–Ї –Є –≤–ї–µ—З—С—В —В–µ–±—П –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –ї–µ—З—М –љ–∞ —В—А–∞–≤—Г –њ–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –њ—А–Њ —Б–≤–Њ—О —И–Є–љ–µ–ї—М. –Ю–љ–∞ –Љ–љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г –Њ—В —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г—И—С–ї –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П. –•–Њ—В—М –Њ–љ–∞ –Є –±—Л–ї–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ –Є–Ј–Њ–і—А–∞–љ–∞, –≤—Б—С –ґ–µ —П —Б—З–Є—В–∞–ї –Ј–∞ —Б—З–∞—Б—В–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —И–Є–љ–µ–ї—М –њ–Њ —А–Њ—Б—В—Г, –Є–±–Њ –љ–Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Ї–ї–∞–і–µ —И–Є–љ–µ–ї–Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б —П –њ–Њ—В–µ—А—П–ї –µ—С –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ –Љ–Њ–Є–Љ –±–∞—А–∞—Е–ї–Њ–ЉвА¶ –І—В–Њ –ґ —В–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—И—М—Б—П –≤–њ–µ—А—С–і. –І–∞—Б—В–Њ –љ–∞ —Б–±–Њ—А –і–Њ –≤—Л–µ–Ј–і–∞ –і–∞—О—В 3 –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –≤–Њ—В –Є —Г–ї–Њ–ґ–Є—Б—М. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –і–µ–ї–Њ –Є–і—С—В –Ї –ї–µ—В—Г вАФ –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В—С—А–Ї–µ —Б —Д—Г—Д–∞–є–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤—Г –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ. –Р —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–±–ї–µ–≥—З–µ–љ–Є–µ: –ї–Є—И–љ–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є –љ–µ—В. –Ю—Б—В–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В –і–∞ —Б—Г–Љ–Ї–∞ –њ–Њ–ї–µ–≤–∞—П. –Р –≤ —Б—Г–Љ–Ї–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М —Б—В–µ—А–Є–ї—М–љ—Л–є –њ–∞–Ї–µ—В, —В–µ—В—А–∞–і—М –Љ–Њ—П вАЬ–ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–љ–µ–≤–љ–Є–ЇвАЭ –і–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —Ж–µ–ї–ї—Г–ї–Њ–Є–і–љ–∞—П —Б–Њ–±–∞—З–Ї–∞ вАЬ–С–Њ–љ–Ј–∞вАЭ. –≠—В–∞ вАЬ–С–Њ–љ–Ј–∞вАЭ вАФ –Љ–Њ–є –∞–Љ—Г–ї–µ—В –Є —Б—З–∞—Б—В–Є–µ, –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Љ–Њ–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ вАЬ—В—А–Њ—Д–µ–ЄвАЭ вАФ —П –µ—С –≤–Ј—П–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —Г—Б–∞–і—М–±–µвА¶¬ї.
–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–µ—Ж –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –С—Г–і–∞–њ–µ—И—В—Б–Ї–Њ–є –Є –Т–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е, –Є–Љ–µ–ї –Љ–µ–і–∞–ї–Є –Ј–∞ –≤–Ј—П—В–Є–µ –С—Г–і–∞–њ–µ—И—В–∞ –Є –Т–µ–љ—Л. –Ш–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ—В 5 –∞–њ—А–µ–ї—П 1945 –≥.(–Р–≤—Б—В—А–Є—П): ¬Ђ–°–µ–є—З–∞—Б –Ј–і–µ—Б—М –Є–і—Г—В –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ¬† –±–Њ–Є, —Е–Њ—В—П –Є –≤—А–∞–≥ –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –њ—П—В–Є—В—Б—П –љ–∞–Ј–∞–і. –Э–∞—Б –ґ–µ –≤–µ–і—С—В –≤–њ–µ—А—С–і –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ–µ –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ–ї—П –Ї —Б–Ї–Њ—А–µ–є—И–µ–є –њ–Њ–±–µ–і–µ, –∞ –Њ–љ–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Ј–∞ –≥–Њ—А–∞–Љ–Є.¬† вА¶—А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤–∞—П –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞, —Б –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї—Л–Љ –µ—Й—С –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Є –≤–Њ–є—Б–Ї. –Я—А–Є—П—В–љ–Њ —Б–µ–±—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ, –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Л–Љ –≤–Є–љ—В–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л. –Ь–љ–µ —Г–ґ–µ –≤—Л–і–∞–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –њ—А–Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—А. –С—Г–і–∞–њ–µ—И—В–Њ–Љ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –µ—Й—С –Є –≤ –Т–µ–љ–µ. <вА¶>¬† вА¶–њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є —Б—В–Њ–Є—В –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е. –Ч–∞–±–∞–≤–ї—П–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–Є–ї–Є–µ –±–µ–ї—Л—Е —Д–ї–∞–≥–Њ–≤ вАФ вА¶–љ–µ–Љ—Ж—Л —Б–і–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П. –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –Є–і—С—В –љ–µ—Г–і–µ—А–ґ–Є–Љ–ЊвА¶ <вА¶> –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, –Ї–∞–Ї –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –µ—Й—С –≤ 1914 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е вАЬ–Т–Њ–є–љ–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–∞вАЭ –њ–Є—Б–∞–ї: вАЬ–Я–Њ—Б—В–Њ–є—В–µ, —И–∞—И–Ї–Є –Њ —И—С–ї–Ї –Ї–Њ–Ї–Њ—В–Њ–Ї/ –Т—Л—В—А–µ–Љ, –≤—Л—В—А–µ–Љ –љ–∞ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞—Е –Т–µ–љ—Л!вАЭ вАФ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –і–∞–ґ–µ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞. –І—В–Њ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є 20 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, —В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –Ф–∞, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –≤ –Т–µ–љ–µ¬ї.
–Я–Њ—З—В–Є –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В—М –Є –≤–Ј–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є, –∞ –≤–µ–і—М –њ–Є—Б–∞–ї 21-–ї–µ—В–љ–Є–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –і–µ–ї–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –Њ–њ—Л—В –љ–∞–±–Є—А–∞–ї—Б—П –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є –≥–ї—Г–±–ґ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–Љ –ґ–Є—В—М–µ-–±—Л—В—М–µ, –љ–Њ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –≤–њ–Є—В–∞–љ–љ–∞—П –≤ —Б–µ–Љ—М–µ, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Е–Њ—В—П –Ј–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –ї–Є—И—М –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—П, —В–Њ–ґ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –Њ —Б–µ–±–µ –Ј–љ–∞—В—М. –Ш –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Ј–ї–Њ–±–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–∞—П –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М. –Т–µ—А–љ–Њ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ш–ї—М–Є—З —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –±—Л —В–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—И–µ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ вАФ –∞ –Ї–∞–Ї –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є–љ–∞—З–µ? –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–ї –Њ–љ –і–Њ вАЬ—Н–њ–Њ—Е–ЄвАЭ —Г—Б—В—А–∞—И–∞—О—Й–µ–є –љ–µ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—И–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є, –µ—Б–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б—В—Г–і–µ–љ—В—Л –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –≤ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Њ—З–љ—Л—Е –і–Є–Ї—В–∞–љ—В–∞—Е –Ј–∞–њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–µ—В –њ–∞–Љ—П—В—М, вАФ –і–Њ 20-—В–Є –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ; –і–Њ –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ–∞ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –≤—Г–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –і–Њ –Є–Ј–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї, –≤ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –±–∞–ї–Ї–∞–љ–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 50-—Е –≥–≥., –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —Б 1987 –≥., –±—Л–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –†–Р–Э.
–Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ вАФ —Н—В–Њ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –µ—С¬† –њ—А–µ–≤—А–∞—В–љ–Њ—Б—В—П—Е, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ¬† —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–µ, –њ–Њ—З—В–Є –∞—Д–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ, —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є: ¬Ђ <вА¶> –Р –ґ–Є–Ј–љ—М —Н—В–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ вАФ —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Є —Б—В–Њ–Є—В –ґ–Є—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—И—М, —З—В–Њ —В—Л —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—С—И—М, —В–≤–Њ—А–Є—И—М: —А–∞—Б—В—С—И—М¬† —Б–∞–Љ –Є –≤–Є–і–Є—И—М, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–Њ–±–Њ–є —Б–Њ–Ј–і–∞—С—В—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ –µ—Й—С вАФ –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ—В –ґ–µ —В—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–ї–Є—В—Л–є –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї.¬† <вА¶>¬ї (–§—А–Њ–љ—В 27 –∞–њ—А–µ–ї—П 1945); —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —В–∞–Ї –Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–є вАФ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –њ–Њ –љ–∞—В—Г—А–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М, –і–µ–ї–∞—В–µ–ї—М –љ–∞ –љ–Є–≤–µ –і–Њ–ї—М–љ–µ–є. –Ш–ї–Є –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ (7¬† –Є—О–ї—П 1945 –≥., –Р–≤—Б—В—А–Є—П): ¬Ђ–Т –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –і–∞—С—В—Б—П –±–µ–Ј —В—А—Г–і–∞ вАФ —Н—В—Г –Є—Б—В–Є–љ—Г —П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г—Б–≤–Њ–Є–ї: –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —П –љ–µ –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—З–Є–Ї–∞–Љ, –±—Л—Б—В—А–Њ –≤—Л–њ–ї—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Њ–љ–Є –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–±–Ї–Є –Є –њ–Њ —Г–Љ—Г –Є –њ–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О. <вА¶> –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –њ—А–Њ—Й–µ, –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О, —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –≤–∞—А–Є—В—М—Б—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ї—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ—Г вАФ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –≤—Б–µ —В–≤–Њ–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –±–Њ–ї–Њ—В–Њ —Б–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞ вАФ —Н—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В –Є–љ–Њ–≥–і–∞ вАФ —В—А—Г–і–љ—Л–є –њ—Г—В—М! –•–Њ—В—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —В–µ—А–њ–µ—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –ї—С–≥–Ї–Є—Е –њ—Г—В–µ–є! <вА¶> –Э–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—О —Б–µ–±—П вАЬ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є–ЉвАЭ вАФ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Є —А–µ—З–Є –љ–µ—В! вАФ –љ–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є. –Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ –і–∞—В—М –Њ—В —Б–µ–±—П¬ї.
–§—А–Њ–љ—В. –Ъ–Њ–љ–µ—Ж –∞–њ—А–µ–ї—П 45 –≥.: ¬ЂвА¶ –њ–Є—И—Г —Б–µ–є—З–∞—Б —Г–ґ–µ –Є–Ј –Р–≤—Б—В—А–Є–Є. –Ь—Л –±—Л—Б—В—А–Њ –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ–Љ—Б—П –≤–њ–µ—А—С–і. –Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П: —Б–Њ–ї–і–∞—В, –њ–Њ—З—Г—П–≤ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л вАФ –≥–Њ–љ–Є—В—Б—П –Ј–∞ –љ–µ–є, –Ї–∞–Ї –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї –Ј–∞ –Њ–ї–µ–љ–µ–Љ, —Г–≤–Є–і–µ–≤—И–Є–є —А—П–і–Њ–Љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤–µ—В–≤–Є—Б—В—Л–µ —А–Њ–≥–∞. –Ш –Ї–∞–Ї —Б–ї–∞–і–Њ–Ї, –Ї–∞–Ї —Г–њ–Њ–Є—В–µ–ї–µ–љ –љ–∞–њ–Є—В–Њ–Ї –њ–Њ–±–µ–і—Л вАФ –ї–µ–≥—З–µ –њ—М—С—И—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥—А—Г–і—М—О —Б–≤–µ–ґ–Є–є, –≥–Њ—А–љ—Л–є, –≤–µ—Б–µ–љ–љ–Є–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Є —А–∞–і—Г–µ—И—М—Б—П –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ–є –Є –±–Є—А—О–Ј–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–µ—Б–љ–µ. –Р –≤–µ—Б–љ–∞ –≤—Л–і–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М —В—С–њ–ї–∞—П, вАФ —Ж–≤–µ—В–Є—Б—В–∞—П, –љ–∞—А—П–і–љ–∞—П –∞–ї—М–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –≤–µ—Б–љ–∞. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –≤—Б—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Є –≤—Б—П —Б–Є–ї–∞ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є: —А—П–і–Њ–Љ —Б —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ —Г —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–є –Њ–≥—А–∞–і—Л —Ж–≤–µ—В—Г—В —П–±–ї–Њ–љ–Є вАФ –±–µ–ї—Л–µ вАФ –њ—Г—И–Є—Б—В—Л–µ вАФ –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї –љ–µ–≤–µ—Б—В—Л —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–є –≤–µ—Б–љ—Л. –Р –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї—С–Ї—Г –Њ—В —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –љ–∞ –Ј–µ–ї—С–љ–Њ–Љ –ї—Г–ґ–Ї–µ, —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —Б–Њ—З–љ–Њ–є —Б–≤–µ–ґ–µ–є —В—А–∞–≤–µ, –Њ—В–і—Л—Е–∞—О—В –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж—Л. –Ю–љ–Є –њ–Њ—О—В –њ–µ—Б–љ—О –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є –†–Њ–і–Є–љ–µ, –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ш –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–µ—Б–љ–Є.
.
–Ф–µ–љ—М –њ—А–Є–і—С—В –Є —А–∞–Ј–≥–Њ–љ–Є—В —В—Г—З–Є,
–Э–∞–і —Б—В—А–∞–љ–Њ—О –≤–µ—Б–љ–∞ —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В—С—В.
–Ш –≤–µ—А–љ—Г—Б—М —П –≤ —Б–≤–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і –Љ–Њ–≥—Г—З–Є–є,
–У–і–µ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є, –≥–і–µ –љ–µ–ґ–љ—Л–є –ґ–Є–≤—С—В.
–ѓ —Г–≤–Є–ґ—Г —А–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞,
–†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –≤–і–∞–ї–Є —В–Њ—Б–Ї–Њ–≤–∞–ї.
–Ф–Њ—А–Њ–≥–∞—П –Љ–Њ—П —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞,
–Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—П –Љ–Њ—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞.
.
–Ґ—Л, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ —Г–ґ–µ —Н—В—Г –њ–µ—Б–љ—О. –Р –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В, —В–Њ, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, вАФ –µ—Б–ї–Є –і–∞—Б—В –С–Њ–≥, —П —В–µ–±–µ –µ—С —Б–∞–Љ —Б–њ–Њ—О¬ї.
–С—Л–ї–Є –≤ –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ–Ї–Є–є –Ј–∞–і–Њ—А, –±—Г–і—В–Њ –Њ–Ј–Њ—А—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –љ–µ –±–µ–Ј–Њ–≥–ї—П–і–љ–Њ–µ, –∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ вАФ –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤–Њ—В —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ –і–∞–ї–µ–µ: ¬Ђ–Я–Њ—О —П —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –Є –њ–ї—П—Б–∞—В—М —Г–Љ–µ—О, —Е–Њ—В—П –Є –њ–ї—П—И—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –і–ї—П —Б–Љ–µ—Е–∞ вАФ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–≥—А—Г—Б—В—П—В —А–µ–±—П—В–∞.¬† –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї вАЬ—В—Г–≥–ЊвАЭ —Б—В–∞–љ–µ—В, —В–∞–Ї –Љ–Њ–є –і—А—Г–≥ –Т–∞—Б—М–Ї–∞ –±–µ—А—С—В –±–∞—П–љ, –∞ —П –Њ—В–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О –љ–Њ–Љ–µ—А–∞. –Ґ—Г—В –і–∞–ґ–µ –Є –њ–µ—Б—Б–Є–Љ–Є—Б—В –Ј–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В —Е–≤–∞—В–∞–µ—В—Б—П. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —В—Л –≤–Є–і–Є—И—М, —З—В–Њ –Є —П –±—Л–≤–∞—О –≤—А–Њ–і–µ вАЬ—А—Л–ґ–µ–≥–Њ –≤ —Ж–Є—А–Ї–µвАЭ вАФ –љ–Њ –Ї–∞–Ї —В—Л —Б–∞–Љ–∞ –њ–Є—И–µ—И—М, вАЬ–±–µ–Ј —А—Л–ґ–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—МвАЭ¬ї.
–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А—П–і–µ –њ–Є—Б–µ–Љ –Є–Ј –Р–≤—Б—В—А–Є–Є, —Г–ґ–µ –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–є–љ—Л (–≤ –Ф–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—П–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –і–Њ 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1945 –≥.) –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ –љ–µ—Г—С–Љ–љ–Њ–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї¬† —Г—З—С–±–µ. ¬Ђ–Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П –Љ—Г—З–Є—В –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ вАФ –љ—Г–ґ–љ–Њ –µ—Й—С –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –∞—А–Љ–Є–Є. –Ш—В–∞–Ї, –њ–µ—А–µ–Љ–∞–ї—Л–≤–∞—О —Б–≤–Њ—О —Б–Њ–ї–і–∞—В—З–Є–љ—Г вАФ –њ—А–Є—Г—З–∞—О —Б–µ–±—П –Ї —В–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Љ–љ–µ вАЬ–Ї–∞–Ї –Љ–µ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—В–µ–ї–Ї—ГвАЭ. –Х—Б—В—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Є –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –µ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –≤—Б–µ—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є, вАФ —Н—В–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В—Л –≥—А—Г–і—М—О —Б—В–Њ–Є—И—М –Ј–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —П –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –†–Њ–і–Є–љ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б—В–Њ—О –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Б—М —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є, –љ–Њ –µ—Й—С —З–µ–Љ-—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ. –•–Њ—З–µ—В—Б—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Г—З–Є—В—М—Б—П вАФ –≤–µ–і—М —П —Б 1941 –≥–Њ–і–∞ –љ–µ —Б–Є–і–µ–ї –Ј–∞ –Ї–љ–Є–≥–Њ–є¬ї (–њ–Њ—Б–ї–µ 19 –Љ–∞—П 1945). 1 –Є—О–љ—П 1945 –≥–Њ–і–∞: ¬Ђ<вА¶> –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ 4 –≥–Њ–і–∞ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї —П –±—А–Њ—Б–Є–ї —Г—З–Є—В—М—Б—П, –∞ —Н—В–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–є —Б—А–Њ–Ї. –£—З–Є—В—М—Б—П –Љ–љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –Њ—З–µ–љ—М вАФ –≤–Ј—П—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –≤ —А—Г–Ї–Є –Є–ї–Є –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞–і –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —В–µ–Љ–Њ–є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —З—В–Њ-–ї–Є–±–ЊвА¶ –Т –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–µ–є, —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є вАФ –Њ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –∞ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є—Е –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г.¬† <вА¶> вА¶ —В–∞–Ї –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Њ–Ї—Г–љ—Г—В—М—Б—П –≤ —Б–Њ–ї–і–∞—В—З–Є–љ—Г, –Є –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –µ—Й—С –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П вАЬ–Љ–µ—З—В—ЛвАЭ¬† –Є¬† вАЬ—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—ПвАЭ, –Ј–љ–∞—З–Є—В –Є—Е –љ–µ –Є—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—В—М¬ї. –Т –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –Ї–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Њ–љ —Г—З–Є–ї—Б—П –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ,¬† ¬Ђ—Г—З–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–љ—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ—П–ї–Њ, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Њ-—Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Њ¬ї.
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –Є –µ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –ї–Є—И—М –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ¬† —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ—М–µ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ, –≥–Њ—А—П—З–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ. –Ш–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ 20 –Є—О–љ—П 1945 –≥.: ¬Ђ–Ы—О–±–ї—О —П –Њ—З–µ–љ—М –Є –Ї–ї—О–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞—В–Њ–Ї—Г–і—А–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ вАФ —Н—В–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ, вАЬ–С–∞–є—А–Њ–љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–ЄвАЭ. –Х–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –Є —Б–≤–µ–ґ–µ—Б—В—М—О. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Б вАЬ–±–∞–є—А–Њ–љ–Є–Ј–Љ–∞вАЭ –Є —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И—С–ї –Ї –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ—Г –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є вАЬ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–євАЭ –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є вАФ —В–∞–Ї –ґ–µ –Є –љ–∞—И–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Н—В—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Г–і—Г—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –≤–Ј—П—В—М —Г вАЬ–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –і–µ—А–µ–≤–љ–ЄвАЭ. –Ґ–µ–Љ–∞ –Њ –Є—Б—В–Њ–Ї–∞—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є вАФ —В–µ–Љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ–∞—П –Є –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–ЄвА¶ –≤ —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П —П –і–Њ–ї–≥–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Н—В–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–ЉвА¶¬† вА¶–Љ–µ–љ—П —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –њ—А–µ—Б—Б—Л. <вА¶> вА¶–љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–µ—В –Љ–µ–љ—П –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–∞ (–Ы–Є—В. –≥–∞–Ј–µ—В–∞ вДЦ 21)вА¶ –С–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —А–µ—З—М –С–∞–ґ–Њ–≤–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–љ–Є—П—Е –њ–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Г –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–∞ (–Ы–Є—В. –≥–∞–Ј–µ—В–∞ вДЦ 22)вА¶ <вА¶> –Я—А–∞–і–µ–і –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї —Б—В–Є—Е–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ вАЬ–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—ПвАЭ, –Њ–љ —Б–∞–Љ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї¬† —В–µ –ґ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ—Н—В, –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –і–∞–ґ–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ –Њ–љ –±—Л –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ вАЬ–Э–Њ —Б–ї–Њ–≤ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ —Б–Љ—Л–≤–∞—ОвАЭ —Б—В—А–Њ–Ї–Њ–є вАЬ–Э–Њ —Б–ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В—Л–і–љ—Л—Е –љ–µ —Б–Љ—Л–≤–∞—ОвАЭ. <вА¶> –Т–Њ—В —В–∞–Ї –ґ–µ –Є –і—Г–Љ–∞—О –Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞–Љ–Є вАФ —В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ—О —Б—В—А–Њ–Ї–Є –С–ї–Њ–Ї–∞, —В–Њ –С—А—О—Б–Њ–≤–∞, —В–Њ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—Г—Б—М –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї –¶–Є—Ж–µ—А–Њ–љ—Г –і–∞–ґ–µ (–Ї—Г–і–∞ —З–µ—А—В –љ–µ –Ј–∞–љ–µ—Б–µ—В)вА¶ –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Г–і–∞—З–Є —Д—Г—В—Г—А–Є–Ј–Љ–∞ вАФ вАЬ–њ—А—Л–ґ–Ї–∞ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–µвАЭ вАФ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –Ї –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є–Ј–Љ—Г, –Ї —Б—В–∞—А—Л–Љ –Ъ–Ы–Р–°–°–Ш–Ъ–Р–Ь —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —Д–Є–≥—Г—А–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В –Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г вАФ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —И–∞–≥ –≤–њ–µ—А—С–і вАФ –љ–Њ —Б—В–Њ–Є—В –ї–Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і вАФ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Є–Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –њ–ї–µ—П–і–Њ–є –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Т–Њ–є–љ—Л –Є –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є вАФ —Г –љ–Є—Е –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї, –љ–Њ –±—Л–ї–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —Ж–µ–ї–Є. –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–∞–Љ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–∞—В—М? –Ь–Њ–≥—Г—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є –С—А—О—Б–Њ–≤, –Є –С–ї–Њ–Ї, –Є –У—Г–Љ–Є–ї—С–≤, –Є –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞, –Є –љ–µ–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Є (–Ь–∞–љ–і–µ–ї—М—И—В–∞–Љ), –Є –Є–Љ–∞–ґ–Є–љ–Є–Ј–Љ –і–∞–ґ–µ. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –∞–Ї–Љ–µ–Є—Б—В—Л вАФ —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ вАФ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ј–Љ–∞ –Є–ї–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –і–∞–ї–∞ –Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –і–ї—П —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–∞¬† –Ї–∞–Ї –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ?¬ї. ¬Ђ–І–∞—Б—В–Њ –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ—З–Є—В—Л–≤–∞—О вАЬ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О –≥–∞–Ј–µ—В—ГвАЭ вАФ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –≤ –љ–µ–є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В—А—Г–і–љ–Њ, –љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞ –Є –љ–µ–і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–є. <вА¶> –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —З–Є—В–∞—В—М –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞, –Ф–Њ–ї–Љ–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –§–∞–і–µ–µ–≤–∞вА¶ –Я–Њ вАЬ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µвАЭ —Б—Г–ґ—Г, —З—В–Њ —В–∞–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Є–њ—Г—З–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, –љ–Њ —П —Б–∞–Љ –ґ–і—Г –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ вАЬ–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞вАЭ, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Є–њ—Г—З–µ–є —Б—В—А—Г–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л –Ї–∞–Ї –љ–µ—Д—В—М –Ј–∞–±–Є–ї–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–Є–≤–Њ –Є –Љ–Њ–≥—Г—З–µ вАФ –Є –і–∞–ї–∞ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ вАЬ–љ–Њ–≤–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–ЊвАЭ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–є —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞вА¶ –Т –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є —Н–њ–Њ—Б –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–∞–љ—П—В—М —Б–≤–Њ—С –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Р –ї–Є—А–Є–Ї–∞ вАФ –ї–Є—А–Є–Ї–∞ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–∞вА¶¬ї (7 –Є—О–ї—П 1945 –≥., –Р–≤—Б—В—А–Є—П). –Р –і–∞–ї–µ–µ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–ґ–∞—О—В—Б—П —Ж–Є—В–∞—В—Л –Є–Ј –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Х—Б–µ–љ–Є–љ–∞, –Э. –Ю—Ж—Г–њ–∞, –У—Г–Љ–Є–ї–µ–≤–∞, –С–ї–Њ–Ї–∞ –Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞: ¬Ђ–Я—А–Є—И–ї–Є –Љ–љ–µ вА¶ –µ—Й–µ —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –Ґ—О—В—З–µ–≤–∞, –§–µ—В–∞ –Є –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤–∞вА¶ –° —Н—В–Є–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞–µ—И—М –і—Г—И–Њ–є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л —В—Л –≤–Њ—И—С–ї –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ–љ–Є—Б—В—Л–є —Б–∞–і¬ї.
–Ю–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–љ—Л–є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–є –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Н—В–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–є–љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М, –љ–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М: –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–µ –ґ–і–∞–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ.¬† –Т 1945-–Љ —Б–µ–Љ—М–µ –≤—Б–µ –ґ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –°–°–°–†, –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ш–ї—М–Є—З —Б—В–∞–љ–µ—В —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–Љ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –≤—Б—П –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Г–і–µ—В —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –љ–∞—Г–Ї–Њ–є, –Њ–љ –њ—А–Њ–є–і–µ—В –њ—Г—В—М –і–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞, –∞ –њ–Њ–Ї–∞ –≤ –Є—О–љ–µ 1945-–≥–Њ –Њ–љ –µ—Й–µ –≤ –Ф–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –≤—Б–µ –њ–Є—И–µ—В, –њ–Њ—А–Њ–є –Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М, –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ч–∞ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П¬† –Є –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ, –Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–Њ—А–µ–є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б—В—Г–њ–Є—В—М –љ–∞¬† —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –≤–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Њ–Ї—Г–љ—Г—В—М—Б—П –≤ —А–Њ–і–љ—Г—О —Б—В–Є—Е–Є—ОвА¶ –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і—П—Е —Н—В–Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—З–≤—Л, –≤–µ–і—М —А–Њ–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –°–µ—А–±–Є–Є, –Њ–љ –љ–Є –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ—Б—В–Є, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—П–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ—А–љ–Є,¬† ¬Ђ–°–µ—А–±–Є—П вАФ —А–Њ–і–Є–љ–∞, –†–Њ—Б—Б–Є—П вАФ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї, вАФ –ї—О–±–Є–ї –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М –Э. –Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є. –Ш –≤ –°–µ—А–±–Є–Є (–і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ—А–Њ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є) –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї –Њ–љ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ, –Є –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П¬† —Б –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞—А–љ—П–Љ–Є, —Б –љ–Є–Љ–Є –±–Њ–Ї –Њ –±–Њ–Ї –њ—А–Њ—И–µ–ї –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤–Њ–є–љ—Л, –Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–і–µ–і –µ–≥–Њ, –Њ—Й—Г—Й–∞–ї —Н—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ (—Б—З–∞—Б—В—М–µ) –µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ: ¬Ђ–Ш –µ—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: –Є–і—С—И—М –≤ —Б—В—А–Њ—О, –њ–µ—З–∞—В–∞–µ—И—М —И–∞–≥ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—И—М, —З—В–Њ —В—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–ї–і–∞—В. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є —Б–љ–Є–Ј—Г, –≤–Њ–є—В–Є –≤ –љ–µ—С¬ї.¬† –Ш–Ј –њ–Є—Б—М–Љ–∞ 27 –Є—О–љ—П 1945 –≥.: ¬Ђ–°–µ–є—З–∞—Б –≤–Њ—В —Б–Є–ґ—Г –њ–Є—И—Г —Н—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –∞вА¶ –Љ–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є вАЬ–Ь–Є—В—М–Ї–∞ –С—Г—А—П–ЇвАЭвА¶ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г —Б –±–∞—П–љ–Њ–Љ, —Б–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї вАФ –Є–≥—А–∞–µ—В –Љ–љ–µ вАЬ–°–Є–љ–µ–љ—М–Ї–Є–є –њ–ї–∞—В–Њ—З–µ–ЇвАЭвА¶ –Р —Б–µ–є—З–∞—Б –Ј–∞–Є–≥—А–∞–ї вАЬ–С—Г—А—П –Љ–≥–ї–Њ—О –љ–µ–±–Њ –Ї—А–Њ–µ—ВвАЭ вАФ —Н—В—Г –њ–µ—Б–љ—О —П –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–ї—О вАФ –Љ–љ–µ –µ—С –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ—П –Љ–∞—В—М –њ–µ–ї–∞ –љ–∞ —Б–Њ–љ –≥—А—П–і—Г—Й–Є–є, –µ—Й—С –≤ —А–∞–љ–љ–µ–Љ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–µ–Љ. –Т–Њ—В —П –љ–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞—О –і–Њ–њ–Є—Б–∞—В—М —Б—В—А–Њ–Ї—Г –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –Ї–∞–Ї –Ь–Є—В—М–Ї–∞ –Љ–µ–љ—П–µ—В –њ–µ—Б–љ—О. –£ –љ–µ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Л–є —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А (—В—Г—В –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–ї—Л—И–µ–љ –ї–µ–≥–Ї–Є–є –Є —В–Њ–љ–Ї–Є–є —О–Љ–Њ—А, —Н—В–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–ї–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–≤—И–µ–µ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—В—М –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і—Л). –Ґ—Г—В –Є вАЬ–Ю–≥–Њ–љ—С–ЇвАЭ –Є вАЬ–Ґ—Г—З–Є –љ–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–ЄвАЭ, –Є –Њ–і–µ—Б—Б–Ї–∞—П –±–ї–∞—В–љ–∞—П вАЬ–°–Є–љ–µ–µ—В –Љ–Њ—А–µ –љ–∞–і –±—Г–ї—М–≤–∞—А–Њ–ЉвАЭ вАФ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞ –ї–Є —В—Л —В–∞–Ї—Г—О? –Ґ–∞–Љ¬† –µ—Б—В—М –Є —В–∞–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞:
.
–Т –Њ—В–≤–µ—В –Њ—В–Ї—А—Л–≤ вАЬ–Ъ–∞–Ј–±–µ–Ї–∞вАЭ –њ–∞—З–Ї—Г,
–°–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–є –Ъ–Њ—Б—В—П —Б —Е–Њ–ї–Њ–і–Ї–Њ–Љ:
вАЬ–Т—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П —З—Г–і–∞—З–Ї–∞,
–Э–Њ –і–µ–ї–Њ, –≤–Є–і–Є—В–µ –ї—М, –љ–µ –≤ —В–Њ–ЉвАЭ.
.
–Х—Б—В—М –Є –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –Ј–∞–±–∞–≤–љ–∞—П –њ–µ—Б–µ–љ–Ї–∞ вАЬ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–∞—ПвАЭ, –Њ–љ–∞ –њ–Њ—С—В—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—В–Є–≤ вАЬ–Ї–Є—А–њ–Є—З–Є–Ї–Њ–≤вАЭ:
.
–Э–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –Ъ–∞–Ј–∞–љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞
–ѓ —А–∞–љ—М—И–µ –ґ–Є–≤—Н –Ї–∞–Ї –±—Г—А–ґ—Г–є
–Ш —Б–њ–Є—З–Ї–∞, –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б–Ї–∞,
–Э–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ —В–Њ–ґ–µ —В–Њ—А–≥—Г–є.
.
–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ, –і–љ–Є –≤–µ—Б–µ–љ–љ–Є–µ,
–Э–Њ–≤—Л–є —И–ї—П–њ–∞ –љ–Њ—Б–Є, –љ–∞–і–µ–≤–∞–є.
–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –±–∞—А—Л—И–љ—П —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–є –Љ–µ–љ—П.
–Р —П —В–Њ–ґ–µ –µ—С —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–є.
.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–≤–Є–і–∞–≤, —З—В–Њ —П –Ј–∞–љ—П—В –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ –Є –љ–µ —А–µ–∞–≥–Є—А—Г—О –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г, –Ь–Є—В—М–Ї–∞ —Г—И—С–ївА¶ –Р –≤–Њ—В –Є –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г–і–љ—О –љ–∞—Б—В–∞–ї–ЊвА¶ –Ч–∞–≥—Г–і–µ–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ вАФ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Е. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—И–Ї–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—П вАФ –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–∞—П –±–∞—И–љ—П-–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М: –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П –Є —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П вАФ —Г–≥–ї–Њ–≤–∞—В–∞—П —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–є –њ–Њ—Б–µ—А–µ–≤—И–µ–є –Ї—А—Л—И–µ–є вАФ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б—В–∞—А–Є–Ї –љ–∞–і–≤–Є–љ—Г–ї –љ–∞ –±—А–Њ–≤–Є —Б–≤–Њ—О —В–Є—А–Њ–ї—М—Б–Ї—Г—О —И–ї—П–њ—Г вАФ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–≤—И—Г—О –Њ—В –њ–Њ—В–∞ –Є –њ—Л–ї–Є –Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –њ–Њ—А—Л–ґ–µ–≤—И—Г—О –Њ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞.¬† –С–∞—И–љ—П –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–∞—П вАФ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–∞—П , –∞ —П –ї—О–±–ї—О –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б—П–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є вАФ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г. –Ч–і–µ—Б—М –µ—Б—В—М –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј–µ–є вАФ —П —Г–ґ–µ —В—Г–і–∞ –Ј–∞–±—А–∞–ї—Б—П вАФ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —В–∞–Љ. <вА¶>¬† –Ю—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–µ—О, —З—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—О –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ вАФ –Ј–і–µ—Б—М –µ—Б—В—М –Ї–љ–Є–≥–Є –њ–Њ —Н—В–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г. –•–Њ—В—П —П –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–ї—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –≥–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ вАФ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Є —Н—В–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–є –Є –±–ї–Є–ґ–µ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П. –Ь–∞–љ–Є—В —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О¬† –Є —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ–Љ –Є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї вАФ –Ю—А–Є–µ–љ—В.¬† –Т–ї–Є—П–љ–Є–µ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е, —В–∞–Љ —Б–Љ–µ—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Є —В–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є. <вА¶> вА¶–љ–µ –Ј–љ–∞—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є вАЬ–љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Б–Њ–±–∞–Ї—Г —Б—К–µ–ївАЭ вАФ –≤–Њ—В –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П! <вА¶> –Х—Й—С —З–∞—Б—В–Њ —Е–Њ–ґ—Г –≤ –Ї–Є–љ–ЊвА¶ –Р –≤—З–µ—А–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г вАЬ–Я–µ—Б–љ—М –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–ЄвАЭ вАФ —В–∞–Љ —Е–Њ—В—М –љ–∞ –Ї–Є–љ–Њ–њ–ї—С–љ–Ї–µ –њ–Њ–≤–Є–і–∞–ї —В–≤–Њ—О –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г¬ї.
–Т –Є—О–ї–µ 1945-–≥–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М, –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –Љ–∞–ї—П—А–Є—О. –Э–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –љ–µ —В–µ—А—П—П –±–Њ–і—А–Њ—Б—В–Є –і—Г—Е–∞, —Б —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ –њ–Є—И–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ (19 –Є—О–ї—П): ¬ЂвА¶—Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞—И–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–∞–ї—П—А–Є–Є вАФ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, вАЬ–Љ–Њ–ї–Њ–і—Г—О –Љ–∞–ї—П—А–Є—ОвАЭ вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –ї–µ—В¬† –Є –≥–Њ—А—П—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є —В—А—П—Б–ї–∞ –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ—В –љ–∞ –ї–±—Г –њ—А–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Њ –µ—С –Њ–±—К—П—В–Є—П—Е. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —П —Б–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ј–≤–Њ–і —Б –љ–µ–є (—В. –µ. —Б –Љ–∞–ї—П—А–Є–µ–є), –Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є–µ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Э–∞–і–µ—О—Б—М —Б –љ–µ–є –њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –µ—Й—С —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –і–≤–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–Ї–Є–љ—Г—В—М –µ—С –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –±–µ—Б–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Њ –≤ —И–µ—О: –њ—Г—Б—В—М –Є—Й–µ—В —Б–µ–±–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–Њ–≤, –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–Њ —И—Г—В–Ї–∞ вАФ —Е–Њ—В—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Њ—И—Г—В–Є—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ–є –њ–ї–Њ—Е–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—ЛвА¶ –Я–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –Љ–µ–љ—П –њ–Њ –Љ–Њ–µ–є –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –≤ –Њ–±—Й—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г вАФ —В—Г—В —И—Г–Љ–љ–Њ –Є –≤–µ—Б–µ–ї–Њ вАФ –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ –љ–∞—И –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ—Г—В—МвА¶ –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –±–Њ–є—Ж–∞ –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–є –∞–ї—М–±–Њ–Љ вАФ –њ–∞–Љ—П—В–Ї–∞ —Б —Д–Њ—В–Њ–Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є вАФ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ–Є вАФ –≤–Њ—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞—И—С–ї —П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–Є –Ґ–Є—Б—Б—ЛвА¶¬† –§–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї —П –µ—С —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Л–Љ –і–Њ–ґ–і—С–Љ –њ—Г–ї—М –Є —И–Ї–≤–∞–ї–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Њ–Љ—С—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б—С —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–µвА¶ –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –Њ–њ—П—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ь–∞—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ:
.
–≠—В–Њ –љ–µ –≥–µ—А–Њ—П–Љ
—Б—В–Є—Е —Г–Љ–Є–ї–µ–љ–љ—Л–є.
–Т –±–Њ—О:
—Б–ї–∞–≤–ї—О –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л вАФ
–≤–Є–ґ—Г –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л вАФ
–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –њ–Њ—О.
.
–Т–Њ—В –Є —П –±—Л–ї –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ 1/10 000 000 —З–∞—Б—В—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є вАФ –Ї–∞–њ–ї—П –≤ –Љ–Њ—А–µ¬ї. –Ф–∞–ї–µ–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В –Њ –Ї–љ–Є–≥–µ –Ы. –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞ (–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї ¬Ђ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ¬ї) ¬Ђ–Т–Ј—П—В–Є–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ—И—Г–Љ—Б–Ї–∞¬ї –Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г–µ—В, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–∞ ¬Ђ–≤–µ—Й—М –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–ї–∞–±–∞—П¬ї: ¬Ђ–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –і—Г–Љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –Є –≤–µ–і—Г—В —Б–µ–±—П —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–є –Ї–љ–Є–≥–Є, –≥–і–µ –Њ–і–љ–Є —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Є —В–∞–Ї–∞—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П —Д–∞–±—Г–ї–∞ вАФ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –≤–Є–і–∞–ї —Д—А–Њ–љ—В–∞. <вА¶> –У–µ—А–Њ–Є –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞: —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞—В–µ–ї–Є, –Њ–љ–Є –≤–Є–і—П—В –≤—Б—С –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ вАФ –Є —А–∞—Б—В—А—С–њ–∞–љ–љ—Г—О –Њ—Б–Є—А–Њ—В–µ–≤—И—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г, –Є –≥–Њ—А–µ–ї—Г—О —Г—Б–∞–і—М–±—Г вАФ –Є —Г–і–µ–ї—П—О—В —Н—В–Њ–Љ—Г —Ж–µ–ї—Л–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є вАФ –љ–Њ –Њ–љ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–µ, –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, –Њ –±–Њ–µ–Ј–∞–њ–∞—Б–µ вАФ —Е–≤–∞—В–Є—В –ї–Є –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А–∞–љ–∞—В¬† –≤ –њ–∞—В—А–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Ї–µ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї–∞–Ї—Г—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –і–∞—Б—В –Ї–Њ–Љ–≤–Ј–≤–Њ–і–∞. –Ш —Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —В–∞–Ї –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–∞—О—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—П, —З—В–Њ –≤—Б—С –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –і–∞–ґ–µ –і–Њ–Љ, —А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—П, –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –њ–Њ–Ј–∞–і–Є.¬† вА¶–њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б—С –ґ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–∞ –Њ—В —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л. <вА¶> –° –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ¬† —Б–ї–µ–ґ—Г –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ј–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤. –≤–Њ–є–љ—Л вАФ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л —Г–≤–Є–і–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Е–Њ—В—П –±—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ вАЬ–Т–Њ–є–љ—Г –Є –Љ–Є—АвАЭ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї.
–Ш –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж,¬† –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Њ—В 17 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞, –≥–і–µ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ш–ї—М–Є—З —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –Є–Ј –∞—А–Љ–Є–Є. ¬Ђ–Х—Й–µ —А–∞–Ј –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –≥–∞–Ј–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—Л –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–ї–∞, —П –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г–ї –Є–Ј –љ–Є—Е. –•–Њ—В—П –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —П –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г–ї –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л, –≤ –і–љ–Є –љ–∞—И–Є—Е –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –≤ –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –і–љ–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –±—Г–і–∞–њ–µ—И—В—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л, –≤ –і–љ–Є –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –љ–∞ –Т–µ–љ—Г вАФ –і–∞ —А–∞–Ј–≤–µ –≤—Б—С –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—И—М. –°–≤–Њ–µ–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ —П —А–∞–і—Г—О—Б—М, –Ї–∞–Ї —А–∞–і—Г—О—Б—М –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–µ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є вАФ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О –≥–і–µ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –≤ вАЬ–Т–Њ–є–љ–µ –Є –Љ–Є—А–µвАЭ, –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ вАЬ–ґ–Є–Ј–љ—М –µ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µвАЭ. –Р —П –і–∞–ґ–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О —А–∞–і вАФ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ—Г —А–µ–±—С–љ–Ї—Г, –≤—Б–Ї—А–Є–Ї–љ—Г—В—М –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј—Г: вАЬ–Ґ—Г-—В—Г-—В—Г!!!вАЭ <вА¶> –≠—В–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—И–∞ —Б —В–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П –≤—С–ї —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Є –Є–Ј –∞—А–Љ–Є–Є. –° —Б–Њ–±–Њ–є —П —Г–≤–Њ–ґ—Г –≤ –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —Б—Г–Љ–Ї–µ –њ–∞—З–Ї—Г —В–≤–Њ–Є—Е –њ–Є—Б–µ–ЉвА¶ –Ш—Е —П —З–∞—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ–Є, –ї—С–ґ–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–є–Ї–µ, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—П –≥–ї–∞–Ј–∞, –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –≤–∞–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –Р—А–±–∞—В 45 –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ 2вА¶ –Э–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ —Г–≤–Є–і–Є–Љ—Б—П —Б –≤–∞–Љ–Є, —З—В–Њ —П —Б–Љ–Њ–≥—Г –≤–∞—Б –≤—Б–µ—Е —А–∞—Б—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М –Є, –њ–Њ—Б–Є–і–µ–≤—И–Є –Ј–∞ —З–∞—И–Ї–Њ–є —З–∞—П, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–ї–Є–љ–љ—Л–є, –і–ї–Є–љ–љ—Л–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є вАФ –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ –ґ–Є—В—М–µ-–±—Л—В—М–µ¬ї.
–Э–Є–Ї–Є—В–∞¬† –Ш–ї—М–Є—З –љ–µ –±–µ–Ј –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ–ѓ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є¬ї.¬† –Р –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –Ю. –Э. –Ґ—А—Г–±–∞—З–µ–≤–∞, —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–∞ –Є –і—А—Г–≥–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ вАФ ¬Ђ—З–µ—Б—В—М —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ —Б–µ–±—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ¬ї.



