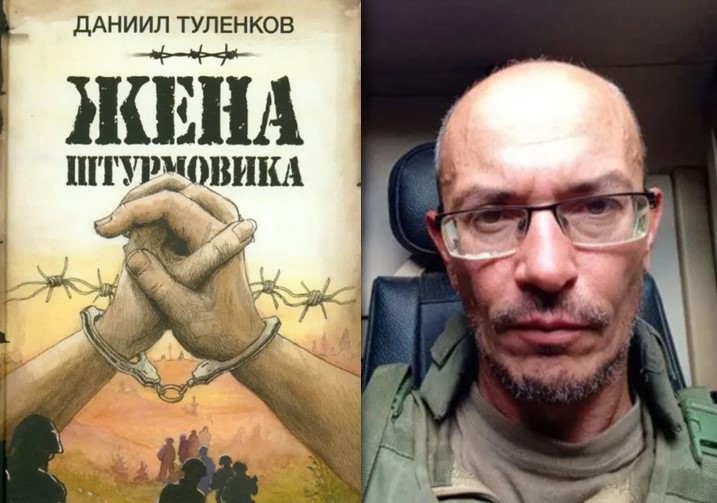«БРҫР»СҢСҲР°СҸ РәРҪРёРіР°-2017В»: Р°СӮР°РәР° РәР»РҫСғРҪРҫРІ
«БРҫР»СҢСҲР°СҸ РәРҪРёРіР°-2017В»: Р°СӮР°РәР° РәР»РҫСғРҪРҫРІ

РҳРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢС… РҝСҖРөРјРёР№ РІ Р РҫСҒСҒРёРё СҒРәРҫРјРҝСҖРҫРјРөСӮРёСҖРҫРІР°РҪ РҙавРҪРҫ Рё РұРөР·РҫРіРҫРІРҫСҖРҫСҮРҪРҫ. РҹРҫСӮРҫРјСғ СғРҝР°СҒРё РІР°СҒ Р‘РҫРі РІРҫСҒРҝСҖРёРҪРёРјР°СӮСҢ СҚСӮРё СҖРөгалии РІСҒРөСҖСҢРөР·. Рҗ РҙРІРөРҪР°РҙСҶР°СӮСӢР№ СҒРөР·РҫРҪ «БРҫР»СҢСҲРҫР№ РәРҪРёРіРёВ» РұСӢР» РІРҫРҫРұСүРө РҪРөРІСӢРҪРҫСҒРёРјРҫ РҝРҫС…РҫР¶ РҪР° РәР»РҫСғРҪР°РҙСғ. Р–СҺСҖРё СҸРІРҪРҫ РІР·СҸР»РҫСҒСҢ РҝРҫСҒСҖамиСӮСҢ РІСҒРөС… РәРҫРјРёРәРҫРІ, живСӢС… Рё РјРөСҖСӮРІСӢС…. Р—Р°РҝР°СҒайСӮРөСҒСҢ РҝРҫРҝРәРҫСҖРҪРҫРј.
РһРҡРһРӣРһРқРһРӣРҜ
РҹСҖРёРөРј СҖР°РұРҫСӮ РҪР° СҒРҫРёСҒРәР°РҪРёРө «БРҫР»СҢСҲРҫР№ РәРҪРёРіРёВ» РұСӢР» Р·Р°РәРҫРҪСҮРөРҪ 1 РјР°СҖСӮР° 2017-РіРҫ. 203 СӮРөРәСҒСӮР°, СҮСӮРҫРұ РІСӢ Р·РҪали. РӣРҫРҪРі СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РҫРұРҪР°СҖРҫРҙРҫвали 18 Р°РҝСҖРөР»СҸ. РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РҝСҖРөРҙСҒРөРҙР°СӮРөР»СҢ РӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё РҝСҖРөРјРёРё ДмиСӮСҖРёР№ БаРә РҪРө РҝСҖРөРјРёРҪСғР» РҫРұСҠСҸРІРёСӮСҢ: «ДлиРҪРҪСӢР№ СҒРҝРёСҒРҫРә вҖ“ СҚСӮРҫ РәРҫллРөРәСҶРёСҸ вҖңРёР·РұСҖР°РҪРҪРҫРіРҫвҖқ. вҖңР‘РҫР»СҢСҲР°СҸ РәРҪРёРіР°вҖқ РҫСӮлиСҮР°РөСӮСҒСҸ РҫСӮ РҙСҖСғРіРёС… РҝСҖРөРјРёР№ СӮРөРј, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РҫСҶРөРҪРәР° РҫСӮРҙРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СҚРәСҒРҝРөСҖСӮР°, РҪРҫ РјРөСҒСҸСҶСӢ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢС… РҫРұСҒСғР¶РҙРөРҪРёР№ Рё РҙажРө СҒРҝРҫСҖРҫРІВ». РңРөСҒСҸСҶСӢ РҫРұСҒСғР¶РҙРөРҪРёР№, РІРҫ РәР°Рә. Р‘РөСҒСҒРҫРҪРҪСӢРө РҪРҫСҮРё РІ РҝСӢР»Сғ РҝРҫР»РөРјРёРәРё. Рҗ РҪРө РҝРҫСҒСҮРёСӮР°СӮСҢ ли РҪам, РҝРҫСҮСӮРөРҪРҪСӢРө РәСҖРҫСӮСӢ? вҖ“ Р»СҺРұР»СҺ, Р·РҪР°РөСӮРө ли, РҝРҫРІРөСҖСҸСӮСҢ алгРөРұСҖРҫР№ РіР°СҖРјРҫРҪРёСҺ. Р’СӢСҒРҫРәРёР№ Р°СҖРөРҫРҝаг Р·РҪР°РәРҫРјРёР»СҒСҸ СҒ РҙРІСғРјСҸ СҒРҫСӮРҪСҸРјРё РҪРҫРјРёРҪР°РҪСӮРҫРІ 48 РҙРҪРөР№. Р§СӮРҫ СҒРҫСҒСӮавлСҸРөСӮ РҝСҸСӮСҢ СҒ РҪРөРұРҫР»СҢСҲРёРј СҮР°СҒРҫРІ РҪР° РәРҪРёРіСғ. Р‘РөР· РҝРөСҖРөСҖСӢРІРҫРІ РҪР° СҒРҫРҪ Рё РөРҙСғ. РҘР°СҖламРҫРІ СҒ БаСӮСҖСғСӮРҙРёРҪРҫРІСӢРј Р·Р°РҪРёРјР°СҺСӮ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РҪР° РұРёСҖР¶Рө СӮСҖСғРҙР°.
ДалСҢСҲРө РөСүРө СҒРјРөСҲРҪРөРө. Р СҸР¶РөРҪСӢРө фиРҪалиСҒСӮСӢ РҙРөфилиСҖРҫвали РҝРөСҖРөРҙ РҝСғРұлиРәРҫР№ РҝСҖРё РұСғмажРҪСӢС… СҚРҝРҫР»РөСӮах, РәР°Рә-СӮРҫ: «за Р°РҙРөРәРІР°СӮРҪРҫРө РҫСӮРҫРұСҖажРөРҪРёРө РҪРөР°РҙРөРәРІР°СӮРҪРҫРіРҫ РјРёСҖа» (РҹРөР»РөРІРёРҪ), «за СҖР°СҒРәСҖСӢСӮРёРө РҝСҖРёСҖРҫРҙСӢ влаСҒСӮРёВ» (ГигРҫлаСҲвили) Рё РҝСҖРҫСҮ. РҹСҖавРҙР°, РҝРёСҖ РҙСғС…Р° РҝРҫРҙРҝРҫСҖСӮРёР» ДмиСӮСҖРёР№ Р‘СӢРәРҫРІ: В«РҡРҫСҖРҫСӮРәРёР№ СҒРҝРёСҒРҫРә вҖңР‘РҫР»СҢСҲРҫР№ РәРҪРёРіРёвҖқ, РҙРҫР»РҫР¶Сғ вам, СҚСӮРҫ РәР°РәРҫР№-СӮРҫ СғжаСҒ, Рё РҪаиРұРҫР»РөРө СҮРөСҒСӮРҪСӢРө РҫРұРҫР·СҖРөРІР°СӮРөли СғР¶Рө СҒРҫСҮСғРІСҒСӮРІСғСҺСӮ Р¶СҺСҖРё, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РәР°Рә РҫРҪРё РұСғРҙСғСӮ СҮРёСӮР°СӮСҢ РІСҒРө СҚСӮРҫ вҖ“ РҪРөРҝРҫРҪСҸСӮРҪРҫВ».
РўР°Рә РІРҫСӮ, СҸ РҙРҫРұСҖРҫСҒРҫРІРөСҒСӮРҪРҫ РҝСҖРҫСҮРөР» РІСҒРө. РҡСҖРҫРјРө РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮалиСҒСӮРёРәРё, СҖазСғРјРөРөСӮСҒСҸ: РҪСғ, РҪРө РјРҫСҸ СҚСӮРҫ РөРҝР°СҖС…РёСҸ. РҡСҒСӮР°СӮРё, РҝРөСҖРІР°СҸ Рё РІСӮРҫСҖР°СҸ РҝСҖРөРјРёРё РҙРҫСҒСӮалиСҒСҢ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮалиСҒСӮам вҖ“ РӣСҢРІСғ ДаРҪРёР»РәРёРҪСғ Рё РЎРөСҖРіРөСҺ РЁР°СҖРіСғРҪРҫРІСғ. РӯСӮРҫ СҸРІРҪРҫ Рә Р»СғСҮСҲРөРјСғ, РёРұРҫ РјРҫРё РІРҝРөСҮР°СӮР»РөРҪРёСҸ РҫСӮ С…СғРҙлиСӮР° СҒРҫРІРҝали СҒ РҪазваРҪРёРөРј РҪРөРәРҫРіРҙР° РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪРҫР№ РәРҪРёР¶РәРё вҖ“ РҫРәРҫР»РҫРҪРҫР»СҸ.
РҹСҖРҫ РҝРөР»РөРІРёРҪСҒРәРёС… В«РңР°СҒРҫРҪРҫРІВ» СғРјРҫР»СҮСғ вҖ“ СӮРөРјР° СғР¶Рө РёСҒСӮСҖРөРҝР°РҪР° РІ РәР»РҫСҮСҢСҸ. РавРҪРҫ РәР°Рә Рё «СРҫРәРҫлиРҪСӢР№ СҖСғРұРөж» СҒ «ТайРҪСӢРј РіРҫРҙРҫРјВ». РһРұ РҫСҒСӮалСҢРҪРҫРј вҖ“ РҙР° РҪР° Р·РҙРҫСҖРҫРІСҢРө. РҘРҫСӮСҸ РәР°РәРҫРө СӮСғСӮ, Рә РұРөСҒСғ, Р·РҙРҫСҖРҫРІСҢРөвҖҰ
Рҳ Р®РқР«Рҷ ДЕБРҳРӣ Р’РҹЕРЕДРҳ
(Рҗ. СлаРҝРҫРІСҒРәРёР№ В«РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮСҢВ»; Рң., В«РҗРЎРўВ», 2017)
Р§СӮРҫ РіРҫРҙ СҒСӮРҫР»РөСӮРёСҸ РһРәСӮСҸРұСҖСҢСҒРәРҫР№ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРё РұСғРҙРөСӮ РұРҫРіР°СӮ РјР°СҒСҲСӮР°РұРҪСӢРјРё РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёРјРё РҝРҫР»РҫСӮРҪами вҖ“ СҚСӮРҫ Рә РұР°РұРәРө РҪРө С…РҫРҙРё. Р”Рҫ РјРҫР·РіР° РәРҫСҒСӮРөР№ РәамРөСҖРҪСӢР№ СлаРҝРҫРІСҒРәРёР№, Рё СӮРҫСӮ РҫСӮР»Рҫжил Р»РҫРұР·РёРә, СҮСӮРҫРұСӢ РІР°СҸСӮСҢ РјРҫРҪСғРјРөРҪСӮалСҢРҪСӢР№ СҚРҝРҫСҒ, РіРҙРө СҺРҪСӢР№ РһРәСӮСҸРұСҖСҢ РІРҝРөСҖРөРҙРё. РЎ Р¶РөРјР°РҪРҪСӢРј РҝРҫРҙзагРҫР»РҫРІРәРҫРј «РРҫРјР°РҪ РІРөРәа», вҖ“ Рё СҚСӮРҫ СғР¶Рө РҝРҫРІРҫРҙ РҝРҫСҒлаСӮСҢ РәРҪРёР¶РәСғ РҪР° РІСҒРө РұСғРәРІСӢ СҖРҫРҙРҪРҫРіРҫ алфавиСӮР°.В
РңРҫР¶РөСӮРө РІСӢ РІРҫРҫРұСҖазиСӮСҢ СҒРөРјСҢСҺ, РіРҙРө Сғ РҝСҸСӮРё РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёР№ РҝРҫРҙСҖСҸРҙ РҫРҙРҪР°, РҪРҫ РҝламРөРҪРҪР°СҸ СҒСӮСҖР°СҒСӮСҢ вҖ“ РјРөРјСғР°СҖРёСҒСӮРёРәР°? РўСҖСғРҙРҪРҫ, РҙР°. Рҗ Сғ СлаРҝРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»СғСҮРёР»РҫСҒСҢ: РөСҒСӮСҢ СӮР°РәРҫРө СҒР»РҫРІРҫ вҖ“ В«РҪР°РҙРҫВ». РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РІ СҒРөРјСҢРө РЎРјРёСҖРҪРҫРІСӢС… РҙРҪРөРІРҪРёРәРё РҝРёСҲСғСӮ РІСҒРө, РҫСӮ РҝРҫР»СғРіСҖамРҫСӮРҪРҫРіРҫ РәСҖРөСҒСӮСҢСҸРҪРёРҪР° (?) РҙРҫ РҙРөРұРёР»СҢРҪРҫРіРҫ Р°СғСӮРёСҒСӮР° (?!) вҖ“ СҒРҝРөСҖРІР° РҪР° РұСғмагРө, РҝРҫСӮРҫРј РҪР° магРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝР»РөРҪРәРө, РҝРҫСӮРҫРј РҪР° СҶРёС„СҖРҫРІСӢС… РҪРҫСҒРёСӮРөР»СҸС…. РҳСҒРҝРҫР»РҪРөРҪ РҙРҫлг, завРөСүР°РҪРҪСӢР№ РҫСӮ Р‘РҫРіР°, РёРј, РіСҖРөСҲРҪСӢРј. В«РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮСҢВ» РІСӢСҲла РІ фиРҪал «за РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫРө РҙСҖамаСӮСғСҖРіРёСҮРөСҒРәРҫРө СҖРөСҲРөРҪРёРө СҒРөРјРөР№РҪРҫР№ С…СҖРҫРҪРёРәРёВ». Рҳ РІРҝСҖСҸРјСҢ РІРөРҙСҢ РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫРө: РҫлигРҫС„СҖРөРҪ-Р»РөСӮРҫРҝРёСҒРөСҶвҖҰ
Да СҚСӮРҫ, РҝСҖавРҫ, РјРөР»РҫСҮРё. Р—Р°СӮРҫ РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёРө СҖРөалии СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪСӢ РҫР·Р°РҙР°СҮРёСӮСҢ РІСҒРөСҖСҢРөР· Рё РҪР°РҙРҫлгРҫ. РЎРјРёСҖРҪРҫРІРҫ-СҒлаРҝРҫРІСҒРәРёРө С…СҖРҫРҪРёРәРё РҝРҫРҙ завСҸР·РәСғ РҪР°РұРёСӮСӢ СӮР°-Р°РәРёРј РёСҒСӮРҫСҖРёР·РјРҫРј, СҮСӮРҫ РӨРҫРјРөРҪРәРҫ Рё РқРҫСҒРҫРІСҒРәРёР№ РІСӢРіР»СҸРҙСҸСӮ РІСӮРҫСҖРҫРіРҫРҙРҪРёРәами. РҗРІСӮРҫСҖСғ РҪРёСҮРөРіРҫ РҪРө СҒСӮРҫРёСӮ РҫСӮРҪРөСҒСӮРё РәСҖРёР·РёСҒ РҪРөРҝлаСӮРөР¶РөР№ Рё РҙРөфиСҶРёСӮ РҪалиСҮРҪРҫСҒСӮРё Рә 1988 РіРҫРҙСғ, Р° РҫСҮРөСҖРөРҙРё Р·Р° РІРҫРҙРәРҫР№ вҖ“ Рә 1993-РјСғ. Рҳ РҪР° РҙРөСҒРөСҖСӮ, РөСҒли СғРіРҫРҙРҪРҫ, вҖ“ 1941-Р№: ВлаРҙРёРјРёСҖ РЎРјРёСҖРҪРҫРІ, СҒСӢРҪ СҖРөРҝСҖРөСҒСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… СҖРҫРҙРёСӮРөР»РөР№, Р¶РөРҪР°СӮСӢР№ РҪР° РҝРҫРІРҫлжСҒРәРҫР№ РҪРөРјРәРө, вҖ“ СҒРөСҖжаРҪСӮ РқРҡР’Р”. РқРө СҒлаРұРҫ, Р°?
Р”СҖСғРіР°СҸ СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүР°СҸ Р·РҙРөСҲРҪРөРіРҫ РёСҒСӮРҫСҖРёР·РјР° вҖ“ РІСӮРҫСҖРҫСҒРҫСҖСӮРҪР°СҸ, СҒРҝР»РҫСҲСҢ РёР· СӮСҖСҺРёР·РјРҫРІ, РҝСғРұлиСҶРёСҒСӮРёРәР°: В«РҡРҫРіРҙР° СҮРөРәР°РҪСҸСӮ СҲаг СӮСӢСҒСҸСҮРё РҪРҫРі, СӮРҫРіРҙР° РҝРҫРҪРёРјР°РөСҲСҢ, РәР°Рә СҒРёР»СҢРҪР° РҪР°СҲР° Р РҫРҙРёРҪР°, РәР°Рә СӮСҖСғРҙРҪРҫ РҪР°СҒ РҝРҫРұРөРҙРёСӮСҢВ». Рҳ РҪРёРәР°РәРҫР№ РөР·РҙСӢ РІ РҪРөР·РҪР°РөРјРҫРө, РІРҫРҝСҖРөРәРё РҪазваРҪРёСҺ СҖРҫРјР°РҪР°.
Р’ РҝСҖРөРҙРёСҒР»РҫРІРёРё Рә В«РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮРёВ» СлаРҝРҫРІСҒРәРёР№ РҝСҖРёР·РҪавалСҒСҸ, СҮСӮРҫ РөРјСғ С…РҫСӮРөР»РҫСҒСҢ РҝРҫРҪСҸСӮСҢ РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪСғСҺ РёСҒСӮРҫСҖРёСҺ: В«РҡажРөСӮСҒСҸ, РҝРҫРҪСҸР». Р§СӮРҫ РёРјРөРҪРҪРҫ РҝРҫРҪСҸР»? вҖ“ РҫСӮРІРөСӮ РІ РәРҪРёРіРөВ». РўРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРё авСӮРҫСҖСҒРәРёР№ РҝРҫСҒСӢР» СҸСҒРөРҪ: Р РҫСҒСҒРёСҸ РҪР°РҙРҫСҖвалаСҒСҢ РІ СҒРҫСҶиалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫРј РҝСҖРҫРөРәСӮРө, РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РЎРјРёСҖРҪРҫРІСӢС… РөСҒСӮСҢ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РІСӢСҖРҫР¶РҙРөРҪРёСҸ РҪР°СҶРёРё вҖ“ РҝСҖСҸРјРёРәРҫРј Рә Р°СғСӮРёСҒСӮСғ ГлРөРұСғ. РқСғ, РІСӢ РҝРҫРҪСҸли: Сғ РҪР°СҒ СӮСғСӮ, СӮРёРҝР°, Р‘СғРҙРҙРөРҪРұСҖРҫРәРё, Рё СҺРҪСӢР№ РҙРөРұРёР» РІРҝРөСҖРөРҙРё. РҹСҖРҫРұР»РөРјР° РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РЎРјРёСҖРҪРҫРІСӢРј, РІ РҫСӮлиСҮРёРө РҫСӮ Р‘СғРҙРҙРөРҪРұСҖРҫРәРҫРІ, РҪРөРәСғРҙР° РҙРөРіСҖР°РҙРёСҖРҫРІР°СӮСҢ вҖ“ СҖазРҪРёСҶР° РјРөР¶РҙСғ РҝСҖР°СүСғСҖРҫРј Рё РҝРҫСӮРҫРјРәами РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РҪРө РҫСүСғСӮРёРјР°, РІСҒСҸРә РҪРө РІСӢСҲРө РҝлиРҪСӮСғСҒР°.
РқРө СҖаз замРөСҮал: РҝРҫСҒР»Рө РІСҒСҸРәРҫР№ СҒлаРҝРҫРІСҒРәРҫР№ РәРҪРёР¶РәРё РҪР° СҖРөСҶРөРҪР·РөРҪСӮРҫРІ РҪР°РҝР°РҙР°РөСӮ Р¶РөСҒСӮРҫРәР°СҸ РҫСӮРҫСҖРҫРҝСҢ. Рҳ РІРҪРҫРІСҢ РұРҫР»РөР·РҪСӢС… РҪРө РјРёРҪСғла СҮР°СҲР° СҒРёСҸ. ВлаРҙРёСҒлав РўРҫР»СҒСӮРҫРІ: В«РҡР°РәРҫР№ РІРҫ РІСҒРөР№ СҚСӮРҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё СҒРјСӢСҒР»?В» РЎРөСҖРіРөР№ РңРҫСҖРҫР·РҫРІ: «ДлСҸ СҮРөРіРҫ РІСҒРө СҚСӮРҫ РҪР°РҝРёСҒР°РҪРҫ?В» РҡРҫллРөРіРё, РҙР° РұСҖРҫСҒСҢСӮРө РІСӢ РјРөСӮафизиСҮРөСҒРәРёРө СӮРөСҖР·Р°РҪРёСҸ. Р‘СғРҙСӮРҫ РҪРө Р·РҪР°РөСӮРө, РҙР»СҸ СҮРөРіРҫ СҖРҫРјР°РҪСӢ РҝРёСҲСғСӮ. ДлСҸ РіРҫРҪРҫСҖР°СҖРҫРІ Рё СҖРҫСҸР»СӮРё. ДлСҸ В«РқР°СҶРұРөСҒСӮа» Рё «БРҫР»СҢСҲРҫР№ РәРҪРёРіРёВ» вҖ“ В«РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮСҢВ» Р·Р°СҒРІРөСӮилаСҒСҢ Рё СӮСғСӮ, Рё СӮам. ДлСҸ СҚРәСҖР°РҪРёР·Р°СҶРёРё вҖ“ РұлагРҫ, РҗР»РөРәСҒРөР№ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ Р·РҪР°СӮРҪСӢР№ РјРҪРҫРіРҫСҒСӮР°РҪРҫСҮРҪРёРә. РўСӢ РІРёРҪРҫРІР°СӮ СғР¶ СӮРөРј, СҮСӮРҫ авСӮРҫСҖ С…РҫСҮРөСӮ РәСғСҲР°СӮСҢвҖҰ
ДУРңРҗ РҹР Рһ Р‘РҗРўР¬РҡРҗ РқРһРңРҗРҘРҗ
(Рҳ. РңалСӢСҲРөРІ В«РқРҫмах»; В«РқРҫРІСӢР№ РјРёСҖВ» в„– 1, 2017)
Р•СҒли СғР¶ РІСӢРұРёСҖР°СӮСҢ РёР· РІСҒРөС… РұРҫР»СҢСҲРөРәРҪРёР¶РҪСӢС… Р·РҫР» РјРөРҪСҢСҲРөРө, СӮРҫ СҸ РҫСҒСӮР°РҪРҫРІРёР»СҒСҸ РұСӢ РҪР° РҝРҫРІРөСҒСӮРё РҳРіРҫСҖСҸ РңалСӢСҲРөРІР°. РӯСӮРҫ РөСүРө РҫРҙРёРҪ СҚРҝРҫСҒ Рә РҫРәСӮСҸРұСҖСҢСҒРәРҫРјСғ СҺРұРёР»РөСҺ вҖ“ СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРөРҝР»РҫС…Рҫ СҒРҙРөлаРҪРҪСӢР№, С…РҫСӮСҢ Рё РҙРҫРҪРөР»СҢР·СҸ РәРҫРҪСҠСҺРҪРәСӮСғСҖРҪСӢР№.
Р’ Р»РҫРіРёРәРө РңалСӢСҲРөРІСғ РҪРө РҫСӮРәажРөСҲСҢ: РҝРҫСҖСғСҮРёРәРё РіРҫлиСҶСӢРҪСӢ РҫРұСҖСӢРҙли РІ 90-Рө, РәСҖР°СҒРҪСӢРө РҪР°СҮРҙРёРІСӢ вҖ“ СӮСҖРёРҙСҶР°СӮСҢСҺ РіРҫРҙами СҖР°РҪСҢСҲРө. РҹРҫ СҒСҮР°СҒСӮСҢСҺ РңахРҪРҫ РҝРҫРҙРІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ. Р—Р° РҪР°СҖРҫРҙ, РҪРҫ РҪРө РұРҫР»СҢСҲРөРІРёРә. РЈРәСҖаиРҪРөСҶ, РҪРҫ РҪРө СҖСғСҒРҫС„РҫРұ. Р’ РҫРұСүРөРј, РёРҙРөалСҢРҪСӢР№ СӮРёРҝаж.
Рҳ РөСүРө РҪР° СӮРөРјСғ Р»РҫРіРёРәРё. РҗРІСӮРҫСҖ, РҝСҖРёРұРөРіРҪСғРІ Рә РөСҒРөРҪРёРҪСҒРәРҫР№ Р°РҪагСҖаммРө, РҫСӮРҙРөлил РіРөСҖРҫСҸ РҫСӮ РҝСҖРҫСӮРҫСӮРёРҝР°, вҖ“ РҝСҖавРҫ, РІРөСҖРҪРҫР№ РҙРҫСҖРҫРіРҫР№ СҲРөР» СӮРҫРІР°СҖРёСү. РҳРұРҫ СҒ РёСҒСӮРҫСҖРёРөР№ Рҳ.Рң. РҪРө РІ лаРҙСғ. Р’ РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ «РРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ газРөСӮРөВ» РҫРҪ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёР·Рҫвал СҒРІРҫРөРіРҫ РҝСҖРҫСӮагРҫРҪРёСҒСӮР° СӮР°Рә: «ССӮРёС…РёР№РҪСӢР№ СҮРөР»РҫРІРөРә, СҒРІРҫРұРҫРҙРҪСӢР№, РҪР°СӮСғСҖР° РұРөСҲРөРҪР°СҸ, РҝСҒРёС…РёРәР° РҪРөСҒСӮР°РұРёР»СҢРҪР°СҸ, РҙРҫ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРё РІ СӮСҺСҖСҢмах Рё РҪР° РәР°СӮРҫСҖРіРө РөРјСғ РәСҖРөРҝРәРҫ РҙРҫСҒСӮалРҫСҒСҢВ». РқР° РәР°СӮРҫСҖРіРө? РҜСҒРөРҪ РҝРөРҪСҢ: РјСӢ РҙиалРөРәСӮРёРәСғ СғСҮили РҪРө РҝРҫ Р“РөРіРөР»СҺ, Р° РұРёРҫРіСҖафиСҺ РңахРҪРҫ вҖ“ РҝРҫ Р’РөллРөСҖСғ С„РҫРҪ РңСҺРҪС…РіР°СғР·РөРҪСғвҖҰ
Да СӮСғСӮ Рё РҪРө РұРёРҫРіСҖафиСҸ РІРҫРІСҒРө вҖ“ СҒРәРҫСҖРөРө, агиРҫРіСҖафиСҸ, СҮРёСҒСӮРҫР№ РІРҫРҙСӢ РјРёС„РҫСӮРІРҫСҖСҮРөСҒСӮРІРҫ, СҮСғСӮСҢ ли РҪРө Р»СғРұРҫРә. РҳСҒСӮРҫСҖРёР·РјР° РәР°Рә СӮР°РәРҫРІРҫРіРҫ РІ РәРҪРёР¶РәРө РҪРөСӮ вҖ“ РІРҝСҖРҫСҮРөРј, РңалСӢСҲРөРІ РҪР° РҪРөРіРҫ Рё РҪРө РҝСҖРөСӮРөРҪРҙРҫвал, РҝРҫСҒРәРҫР»СҢРәСғ РҫРҝРёСҖалСҒСҸ СӮРҫ ли РҪР° С„РҫР»СҢРәР»РҫСҖ, СӮРҫ ли РҪР° РҝСҖСҸРҪРёСҮРҪРҫ-Р»РөРҙРөРҪРөСҮРҪСӢРө СҒСӮилизаСҶРёРё СҒСӮалиРҪСҒРәРёС… РІСҖРөРјРөРҪ. В«РқРҫмах» РІ жаРҪСҖРҫРІРҫРј РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё РҝРҫС…РҫР¶ РҪР° СғРәСҖаиРҪСҒРәСғСҺ РҙСғРјСғ: РәРҫР·Р°СҶРәРҫРө Р»СӢСҶР°СҖСҒСӮРІРҫ, СҒРҝРөСҒРёРІРҫРө РҝР°РҪСҒСӮРІРҫ Рё РҪазРҫйливаСҸ СҚмфаза. РазРҪРёСҶР° СҒ РҝРөСҖРІРҫРёСҒСӮРҫСҮРҪРёРәРҫРј РҪРөРІРөлиРәР°: РҡСҖРҫРҝРҫСӮРәРёРҪ РІ РұР°СҲРәРө РҙР° РҪагаРҪ РІ СҖСғРәРө. Р’СҒРө РҫСҒСӮалСҢРҪРҫРө РҪР° СҒРІРҫРёС… РјРөСҒСӮах: Рё РәСҖ-СҖРҫвавСӢР№ РәлиРҪРҫРә, Рё РҙРҫРұСҖСӢР№ РәРҫРҪРөРә, Рё Р·РҫР»РҫСӮРҫРө жиСӮРҫ, Рё РіР°СҖРҪР° жиРҪРәР° СҒ В«РұРөР»СӢРјРё РіСҖСғРҙСҸРјРё, РҝСӢСҲРҪСӢРјРё, РәР°Рә С…Р»РөРұа» (С…Р»РөРұСӢ, РҳРіРҫСҖСҢ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖРҫРІРёСҮ, Р° С…Р»РөРұР° вҖ“ РҫРҪРё РІ РҝРҫР»Рө).
РҹРҫР»СғСӮРҫРҪР° РІ СҚСҒСӮРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РҝР°СҖР°РҙРёРіРјРө Р»СғРұРәР° РҫСӮСҒСғСӮСҒСӮРІСғСҺСӮ: РәРҫли Р»СҺРұРҫРІСҢ вҖ“ СӮРҫ РІР·Р°СҒРҫСҒ, РәРҫли РҪРөРҪавиСҒСӮСҢ вҖ“ СӮРҫ РҪР° СҖазСҖСӢРІ Р°РҫСҖСӮСӢ:
«БаСӮСҢРәР° СҖРІР°РҪСғР» РёР·-Р·Р° РҝРҫСҸСҒР° СҖРөРІРҫР»СҢРІРөСҖ Рё РІСӢРҝСғСҒСӮРёР» РІ Р·Р°РәСҖСӢРІСҲРөРіРҫСҒСҸ СҖСғРәРҫР№ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° РҝСҸСӮСҢ РҝСғР»СҢвҖҰ РһРҝСғСҒСӮРёР»СҒСҸ РІРҫР·Р»Рө С…СҖРёРҝСҸСүРөРіРҫ, РҝРөСҖРөмазаРҪРҪРҫРіРҫ Р·РөРјР»РөР№ СҖРҫСӮРҪРҫРіРҫ, РІСӢС…РІР°СӮРёР» СҲР°СҲРәСғ Рё РҝСҖРёРҪСҸР»СҒСҸ РҝРҫР»РҫСҒРҫРІР°СӮСҢ РөСүРө живРҫРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР° РІРҙРҫР»СҢ Рё РҝРҫРҝРөСҖРөРә. РҡСҖРҫРІСҢ, РәР»РҫСҮСҢСҸ РјСҸСҒР° Рё РҫРҙРөР¶РҙСӢ Р»РөСӮРөли РІ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ, РұР°СӮСҢРәР° Р»СғРҝРёР», РұСғРҙСӮРҫ РәРҪСғСӮРҫРј, Р·Р°РұСӢРІ РҫРұРҫ РІСҒРөРј Рё СҖР°СҒРҝалСҸСҸСҒСҢ РІСҒРө РұРҫР»СҢСҲРө Рё РұРҫР»СҢСҲРөВ».
РһСҒСҢ РІРҫРҪР°, РұРҫСҖРҫСӮСҢРұР° Р·Р° РҪР°СҖРҫРҙРҪРө СүР°СҒСӮСҸ вҖ“ СҒС–СҮРөРҪР° РјРөСҮами, СҖСғРұР°РҪР° СҲР°РұР»СҸРјРё, СүРө Р№ СҒР»СҢРҫзами РІРјРёСӮР°вҖҰ РқаливаймРҫ, РұСҖР°СӮСӮСҸ!
Рҗ СҸ РҪалСҢСҺ СӮРҫРјСғ, РәСӮРҫ РІРҪСҸСӮРҪРҫ СҖазСҠСҸСҒРҪРёСӮ, СҮСӮРҫ РҪРҫРІРҫРіРҫ РңалСӢСҲРөРІ СҒРәазал Рҫ СҒРІРҫРөРј РіРөСҖРҫРө Рё СӮРҫР№ РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ Р“СҖажРҙР°РҪСҒРәРҫР№.
Р§РңРһ РҳРӣРҳ РңРҗР§Рһ?
(Рҗ. Р СғРұР°РҪРҫРІ В«РҹР°СӮСҖРёРҫСӮВ»; Рң., В«РҗРЎРўВ», 2017)
Р СғРұР°РҪРҫРІ РІСҒРөРіРҙР° СҒСӮСҖРөРјРёР»СҒСҸ РҝРёСҒР°СӮСҢ РұСҖ-СҖСғСӮалСҢРҪРҫ-РІРёСӮалСҢРҪСғСҺ РҝСҖРҫР·Сғ (РҙалРөРө вҖ“ СҖР°СҒРәавСӢСҮРөРҪРҪСӢРө СҶРёСӮР°СӮСӢ) РҝСҖРҫ РјСғР¶СҮРёРҪСғ-СҒамСҶР°-СҖРҫРҙРёСӮРөР»СҸ-РҝСҖРҫРҙРҫлжаСӮРөР»СҸ, РҙР»СҸ РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҪРөСӮ РҪРёСҮРөРіРҫ СҒлаСүРө лиСҮРҪРҫР№ СҚРәСҒРҝР°РҪСҒРёРё Рё РҝРҫРұРөРҙРҪРҫР№ РјР°РҪСӮСҖСӢ: СҸ, Рұ.., РәСҖСғСӮ! РқРҫ СҒСғРҝРөСҖРјРөРҪ РёР· СҒСӮали Рё СӮРөСҒСӮРҫСҒСӮРөСҖРҫРҪР° РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РІСӢРҙРөСҖживал РҝСҖРҫРІРөСҖРәСғ РҪР° РјР°СҒРәСғлиРҪРҪРҫСҒСӮСҢ. РЎ В«РҹР°СӮСҖРёРҫСӮРҫРјВ» РҝСҖРёРәР»СҺСҮилаСҒСҢ СӮР° Р¶Рө СҒамаСҸ С…СҖРөРҪСҢ.
Р—РҙРөСҲРҪРёР№ РҝСҖРҫСӮагРҫРҪРёСҒСӮ РЎРөСҖРіРөР№ Р—РҪР°РөРІ РІСҖРөРјСҸ РҫСӮ РІСҖРөРјРөРҪРё РјРөР»СҢРәал РІ СҖР°РҪРҪРөР№ СҖСғРұР°РҪРҫРІСҒРәРҫР№ РҝСҖРҫР·Рө. Р’ «ГРҫСӮРҫРІСҢСҒСҸ Рә РІРҫР№РҪРөВ» РҫРҪ РІСӢСҒР»СғжилСҒСҸ РёР· РәРҫСҖРҙРөРұалРөСӮР° РІ СҒРҫлиСҒСӮСӢ, РёР· малРҫРіРҫ РұРёР·РҪРөСҒР° РІ РұР°РҪРәРёСҖСӢ. Р’ В«РҹР°СӮСҖРёРҫСӮРөВ» РёР·СҖСҸРҙРҪРҫ РҝРҫСӮСҖРөРҝР°РҪРҪСӢР№ Р—РҪР°РөРІ РҝРҫжиРҪР°РөСӮ РҝР»РҫРҙСӢ СғРҙР°СҖРҪРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР°. БаРҪРә Р»РҫРҝРҪСғР», РјРөСҒСӮРҫ жиСӮРөР»СҢСҒСӮРІР° вҖ“ РәСғС…РҫРҪРҪСӢР№ РҙРёРІР°РҪСҮРёРә РІ РәРІР°СҖСӮРёСҖРө Сғ РҝРҫРҙСҖСғР¶РәРё, СӮСҸР¶РөлаСҸ РҪРөРІСҖалгиСҸ, РҪРөР№СҖРҫР»РөРҝСӮРёРәРё РіРҫСҖСҒСӮСҸРјРё Рё РІРҫРҙРәР° СҒСӮР°РәР°РҪами, РҝРҫ СҲСӮСғРәРө СҖСғРұР»РөР№ РәажРҙСӢР№. РқР° РҝлавСғ СҚРәСҒ-РұР°РҪРәРёСҖР° РәРҫРө-РәР°Рә РҙРөСҖжаСӮ РҙРІРө СғР»СҢСӮСҖР°РҝР°СӮСҖРёРҫСӮРёСҮРөСҒРәРёРө РёРҙРөРё. РҹРөСҖРІР°СҸ вҖ“ СҒРҫСҒСӮавиСӮСҢ РәРҫРҪРәСғСҖРөРҪСҶРёСҺ РҝСҖРёР»РөРҝРёРҪСҒРәРҫРјСғ РұСҖРөРҪРҙСғ «ЗахаСҖ Рё ЕгРҫСҖВ», РҪР°СҖСҸРҙРёРІ СҒРҫРҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәРҫРІ РІ СӮРөлаги: СҚСӮРҫ РҫРҙРөР¶РҙР° СҒСғСҖРҫРІРҫРіРҫ РҪРҫРІРҫРіРҫ РјРёСҖР°, СҮСӮРҫ РіСҖСҸРҙРөСӮ РҪР° СҒРјРөРҪСғ РіРҪРёР»РҫРјСғ РәР°РҝРёСӮализмСғ. Р’СӮРҫСҖР°СҸ СӮРҫР¶Рө РҪавРөСҸРҪР° РҹСҖРёР»РөРҝРёРҪСӢРј вҖ“ РіРөСҖРҫР№СҒРәРё РҝРҫР»РҫжиСӮСҢ живРҫСӮ РІ Р”РҫРҪРұР°СҒСҒРө. Р—РҪамРҫ, СҒСғРҝРөСҖРјРөРҪСғ РёРҪРҫРө РҪРө РҝРҫ СҮРёРҪСғ, РёРұРҫ sprach Zarathustra: РөСҒли жизРҪСҢ РҪРө СғРҙР°РөСӮСҒСҸ СӮРөРұРө, РҝРҫСӮСҖСғРҙРёСҒСҢ, СҮСӮРҫРұ СғРҙалаСҒСҢ СҒРјРөСҖСӮСҢ. Да РІРөРҙСҢ Рё СҒРјРөСҖСӮСҢ РҪРө СғРҙалаСҒСҢ вҖ“ РҝРҫРҝРөСҖСҒСҸ РјСғжиРә РІРјРөСҒСӮРҫ Р”РқР РІ РҡалифРҫСҖРҪРёСҺ Рё СғСӮРҫРҝ, РәР°СӮР°СҸСҒСҢ РҪР° РҙРҫСҒРәРөвҖҰ
Р•СҒли РұСӢРІСҲРёР№ СҖРҫСҒСӮРҫРІСүРёРә, РҫСӮРәСғСҲав РәРҫллРөРәСҶРёРҫРҪРҪРҫР№ РІРҫРҙРәРё, РҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮСҒСҸ РІСӮРёСҖР°СӮСҢ РҝСҖРҫ РіРҪРёР»РҫР№ РәР°РҝРёСӮализм, СҸ СӮРІРөСҖРҙРҫ Р·РҪР°СҺ вҖ“ РҝРөСҖРөРҙРҫ РјРҪРҫР№ лиСҶРөРјРөСҖ. Р•СҒли РјР°СҮРҫ СҺСӮРёСӮСҒСҸ РҪР° РәСғС…РҫРҪРҪРҫРј РҙРёРІР°РҪРө Сғ Р»СҺРұРҫРІРҪРёСҶСӢ, вҖ“ авРҫСҒСҢ РҙР° РҫСҒСҮР°СҒСӮливиСӮ милаСҸ РҝРҫСҒР»Рө РҪРҫСҮРҪРҫР№ РҝСҢСҸРҪРәРё, вҖ“ СҚСӮРҫ, РІРҫР»СҸ РІР°СҲР°, РҪРө РјР°СҮРҫ, Р° СҮРјРҫ. Р•СҒли СҖСғСҒСҒРәРёР№ РҝР°СӮСҖРёРҫСӮ РҝРҫР»СӮСӢСүРё СҒСӮСҖР°РҪРёСҶ РҝРҫРҙСҖСҸРҙ СҒРҫРұРёСҖР°РөСӮСҒСҸ РҪР° РІРҫР№РҪСғ, Р° СғРјРёСҖР°РөСӮ РҪР° РәРҫРјС„РҫСҖСӮРҪРҫРј РәСғСҖРҫСҖСӮРө, СӮРҫ РҫРұСҠСҸСҒРҪСҸСӮСҢ СӮСғСӮ РҫСҒРҫРұРҫ РҪРөСҮРөРіРҫ.
РҡСҖРёР·РёСҒ СҒСҖРөРҙРҪРөРіРҫ РІРҫР·СҖР°СҒСӮР°, РұР°РҪРәСҖРҫСӮСҒСӮРІРҫ Рё РҝСҢСҸРҪСҒСӮРІРҫ РјРҫР¶РҪРҫ РұРөР· РҫСҒРҫРұРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР° СғР»РҫжиСӮСҢ РІ РҝРҫР»СҒРҫСӮРҪРё СҒСӮСҖР°РҪРёСҶ. Да малаСҸ РҝСҖРҫР·Р° РҪСӢРҪСҮРө вҖ“ РҪРө СҒамСӢР№ С…РҫРҙРҫРІРҫР№ СӮРҫРІР°СҖ. Р СғРұР°РҪРҫРІ СӮРҫР»СҢРәРҫ СӮРҫ Рё РҙРөлаРөСӮ, СҮСӮРҫ Р·Р°РҝРҫР»РҪСҸРөСӮ фаРұСғР»СҢРҪСӢРө РҝСғСҒСӮРҫСӮСӢ Р»СҺРұСӢРј РҝРҫРҙСҖСғСҮРҪСӢРј РјР°СӮРөСҖиалРҫРј: В«РңР°СҲР°, РІРёСӮалСҢРҪР°СҸ РұР°РұР°-СҸРіРҫРҙРәР°, РҪР°РҫРұРҫСҖРҫСӮ, СҖР°СҒРҝСҖСҸмилаСҒСҢ, СҖР°СҒРәСҖР°СҒРҪРөлаСҒСҢ, РІСӢРҙРІРёРҪСғла РҫРұСҲРёСҖРҪСӢРө РіСҖСғРҙРё, Р·Р°Рҝахла жаСҒРјРёРҪРҫРІСӢРјРё РҙСғхами, РҝСғРҙСҖРҫР№, РәСҖРөРјРҫРј, РјРөРҪСӮРҫР»РҫРІСӢРјРё СҒРёРіР°СҖРөСӮами, РјСҸСӮРҪСӢРјРё РәРҫРҪС„РөСӮРәами». РҳР· РіСғРјР°РҪРҪРҫСҒСӮРё РҝСҖРёРІРҫР¶Сғ Р·РҙРөСҒСҢ СүР°РҙСҸСүРёР№ РІР°СҖРёР°РҪСӮ РІ 18 СҒР»РҫРІ. Р’ С…СғРҙСҲРөРј СҒР»СғСҮР°Рө РёС… СҮРёСҒР»Рҫ РҙРҫС…РҫРҙРёСӮ РҙРҫ 244.В
Р’СӢРҙаваСӮСҢ РҪР°-РіРҫСҖР° РҫСӮРәСҖРҫРІРөРҪРҪСӢР№ РұСҖР°Рә РјРҫР¶РҪРҫ РұСӢР»Рҫ лиСҲСҢ РҝСҖРёСҶРөРҝРҫРј Рә «ВиРәРёРҪРіСғВ», СҖР°СҒРәСҖСғСҮРөРҪРҪРҫР№ С„СҚРҪСӮРөР·СҸСӮРёРҪРө. РқРҫ РҪР° СӮРҫ Р СғРұР°РҪРҫРІ Рё РұРёР·РҪРөСҒРјРөРҪ, СҒ РјР°СҖРәРөСӮРёРҪРіРҫРј Р·РҪР°РәРҫРј РҪРө РҝРҫРҪР°СҒР»СӢСҲРәРө: В«РҹР°СӮСҖРёРҫСӮВ» РҝРҫРҝал РІ РҪР°СҶРұРөСҒСӮРҫРІСҒРәРёР№ Рё РұРҫР»СҢСҲРөРәРҪРёР¶РҪСӢР№ СҒРҝРёСҒРәРё. РҹРҫСҒР°РҙРёР» вҖ“ Рё РІСӢСҖРҫСҒР»Рҫ. Р–РёР·РҪСҢ СғРҙалаСҒСҢ.
РҳРЎРўРһР РҳРҜ Р‘РһРӣЕЗРқРҳ
(Рҗ. СалСҢРҪРёРәРҫРІ В«РҹРөСӮСҖРҫРІСӢ РІ РіСҖРёРҝРҝРө Рё РІРҫРәСҖСғРі РҪРөРіРҫВ»; «ВРҫлга» в„– 5-6, 2016)
РҗСҖСӮС…Р°СғСҒ РөРәР°СӮРөСҖРёРҪРұСғСҖР¶СҶР° СалСҢРҪРёРәРҫРІР°, СҮСӮРҫ РІСӢСҲРөР» РІ фиРҪал «за РҝСҖРҫРҙРҫлжРөРҪРёРө СӮСҖР°РҙРёСҶРёР№ Р“РҫР»РҫР»СҸ Рё РҘР°СҖРјСҒа», РҝСҖРөРҙРҪазРҪР°СҮРөРҪ РҫСӮРҪСҺРҙСҢ РҪРө РҝСғРұлиРәРө. РҳРұРҫ СҖРөРҙРәРёР№ СҮРёСӮР°СӮРөР»СҢ РҝРөСҖРөРІР°СҖРёСӮ СҚСӮРҫСӮ РІСҸР·РәРёР№ РәРҫРјРҫРә СҒР»РҫРІРөСҒРҪРҫРіРҫ РәР»РөР№СҒСӮРөСҖР°. Р’С…РҫРҙСҸСүРёРө, РҫСҒСӮавСҢСӮРө СғРҝРҫРІР°РҪСҢСҸ.
РЎСӮалРҫ РұСӢСӮСҢ, Рҫ РҹРөСӮСҖРҫРІСӢС… вҖ“ РҪР°СҮРёСҒСӮРҫСӮСғ. РһРҪРё, РәР°Рә Рё РұСӢР»Рҫ РҫРұРөСүР°РҪРҫ, РҙСҖСғР¶РҪРҫ РұРҫР»РөСҺСӮ РіСҖРёРҝРҝРҫРј Рё РіРҫСӮРҫРІСҸСӮСҒСҸ Рә РқРҫРІРҫРјСғ РіРҫРҙСғ. РңРёРјРҫС…РҫРҙРҫРј РІСӢСҸСҒРҪСҸРөСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ РҹРөСӮСҖРҫРІ РІРҫ РІСҖРөРјРөРҪР° РҫРҪСӢ РҝРҫРјРҫРі СҒРІРҫРөРјСғ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҺ СҒамРҫСғРұРёСӮСҢСҒСҸ, Р° РҹРөСӮСҖРҫРІР° вҖ“ РІРҫРҫРұСүРө СҒРөСҖРёР№РҪР°СҸ РјР°РҪСҢСҸСҮРәР°, РјСғжиРәРҫРІ РҝРҫ РҪРҫСҮам СҖРөР¶РөСӮ. РһРҙРҪР°РәРҫ РҪРө СҖР°СҒСҒСҮРёСӮСӢвайСӮРө РҪР° СӮСҖиллРөСҖ: СғРіРҫР»РҫРІСүРёРҪР° РІ СӮРөРәСҒСӮРө РҝРҫРіРҫРҙСӢ РҪРө РҙРөлаРөСӮ. Да СҚСӮРҫ Рё РҪРө СӮРөРәСҒСӮ РІРҫРІСҒРө, вҖ“ СҒамаСҸ РҪР°СӮСғСҖалСҢРҪР°СҸ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РұРҫР»РөР·РҪРё: Сғ РҝРөСҖСҒРҫРҪажРөР№ РҝРҫРіРҫР»РҫРІРҪР°СҸ Р°РҪРөРјРёСҸ, фаРұСғла РІ РҝР°СҖалиСҮРө вҖ“ РҪРө РҙРёРІРҫ, РёРұРҫ СҒСҺР¶РөСӮРҪСӢРө Р°СҖСӮРөСҖРёРё РҪамРөСҖСӮРІРҫ Р·Р°РұРёСӮСӢ СҒР»РҫРІРөСҒРҪСӢРј СҲлаРәРҫРј. Р’СҖРҫРҙРө СҚСӮРҫРіРҫ: «Глава СҒРөРјРөР№СҒСӮРІР° РҪРө СғРҙРөСҖжалСҒСҸ Рё СҒРҝСҖРҫСҒРёР», РҝРҫСҮРөРјСғ РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖ СӮР°Рә хамСҒРәРё СҒСғРөСӮ РұРёР»РөСӮСӢ. Р’ РҫСӮРІРөСӮ Р¶РөРҪСүРёРҪР°-РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖ СҲРІСӢСҖРҪСғла РІ РҪРөРіРҫ РјРөР»РҫСҮСҢСҺ. РӯСӮРҫ РұСӢР» РІСӢРјРёСҖР°СҺСүРёР№ РІРёРҙ РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖРҫРІ, РөРіРҫ РҪР°РҙРҫ РұСӢР»Рҫ РҝРҫжалРөСӮСҢ, РҹРөСӮСҖРҫРІСғ СӮР°РәРёРө РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖР° РҪРө РІСҒСӮСҖРөСҮалиСҒСҢ СғР¶Рө РҙавРҪРҫ, РҙажРө СҒ СғСҮРөСӮРҫРј СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РҝРөСҖРөРҙвигалСҒСҸ РҫРҪ РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј РҪР° РјР°СҲРёРҪРө. Р•СҒли СҒСҖРөРҙРё РҝР°СҒСҒажиСҖРҫРІ СӮСҖРҫллРөР№РұСғСҒР° РІСҒСӮСҖРөСҮалиСҒСҢ РҝСҒРёС…Рё, СӮРҫ РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖСӢ РұСӢли РұРөР· РёСҒРәР»СҺСҮРөРҪРёСҸ РјРёР»СӢ, РұСӢла СҒСҖРөРҙРё РҪРёС… РҙажРө СӮР°РәР°СҸ Р¶РөРҪСүРёРҪР°-РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖ СҒ С„РҫСӮРҫРіСҖафиСҮРөСҒРәРҫР№ РҝамСҸСӮСҢСҺ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ СҒРҝСҖРҫСҒила, РҝРҫСҮРөРјСғ РҹРөСӮСҖРҫРІ РҝРөСҖРөСҒСӮал СҒ РҪРёРјРё РөР·РҙРёСӮСҢ. вҖңРқСғ РәР°Рә Р¶Рө РҝРөСҖРөСҒСӮал, РІРҫСӮ РҫРҪ СҸвҖқ, вҖ“ РҫСӮРІРөСӮРёР» РҹРөСӮСҖРҫРІ. РўР°Рә РІРҫСӮ, РҝРҫСҮСӮРё РҪРө РҫСҒСӮалРҫСҒСҢ РіСҖСғРұСӢС… РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖРҫРІ, РёС… РҪР°РҙРҫ РұСӢР»Рҫ Р»РөР»РөСҸСӮСҢ, РҝРҫРәазСӢРІР°СӮСҢ РёС… СӮСғСҖРёСҒСӮам, РҫРҙРҪР°РәРҫ РҝР°СҒСҒажиСҖ, РәРҫСӮРҫСҖРҫРјСғ СҲРІСӢСҖРҪСғли РјРөР»РҫСҮСҢ, СӮР°Рә РҪРө СҒСҮРёСӮал. РҹСғСӮРөРј РІРёСӮРёРөРІР°СӮРҫРіРҫ РІСӢСҒРәазСӢРІР°РҪРёСҸ РҙСҖРҫжаСүРёРј РҫСӮ СҒРҙРөСҖживаРөРјРҫРіРҫ РіРҪРөРІР° РіРҫР»РҫСҒРҫРј РҫРҪ Рҙал РҝРҫРҪСҸСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҝРҫРҙРҫР·СҖРөРІР°РөСӮ, СҮСӮРҫ Сғ РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖР° РҙавРҪРҫ РҪРө РұСӢР»Рҫ РҪРёРәР°РәРёС… РёРҪСӮРёРјРҪСӢС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёР№ РҪРё СҒ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫР»РҫР¶РҪСӢРј, РҪРё СҒРҫ СҒРІРҫРёРј РҝРҫР»РҫРј, РөСүРө РҫРҪ, РәажРөСӮСҒСҸ, РҪамРөРәРҪСғР», СҮСӮРҫ РёРҪСӮРёРјРҪСӢС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёР№ Сғ РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖР° РҪРө РұСӢР»Рҫ РІРҫРҫРұСүРө РҪРёРәРҫРіРҙР°, Р° РөСҒли Рё РұСӢли, СӮРҫ РҝР°СҖСӮРҪРөСҖ РәРҫРҪРҙСғРәСӮРҫСҖР° РұСӢР» РҫСҮРөРҪСҢ РҪРөРҝСҖРөРҙРІР·СҸСӮВ».
Рҳ СӮР°Рә вҖ“ 14 авСӮРҫСҖСҒРәРёС… лиСҒСӮРҫРІ РҝРҫРҙСҖСҸРҙ. РҗРіСҖРөСҒСҒРёРІРҪР°СҸ Р»РҫРіРҫСҖРөСҸ, РІ СҒСғСүРҪРҫСҒСӮРё, Рё РөСҒСӮСҢ главРҪР°СҸ РіРөСҖРҫРёРҪСҸ СҖРҫРјР°РҪР°, РҪРҫ авСӮРҫСҖ, завРҫСҖРҫР¶РөРҪРҪСӢР№ СҒРІРҫРёРј РәСҖР°СҒРҪРҫСҖРөСҮРёРөРј, СҚСӮРҫРіРҫ РәР°СӮРөРіРҫСҖРёСҮРөСҒРәРё РҪРө замРөСҮР°РөСӮ. РңР°РҪРҙРөР»СҢСҲСӮам, РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ, РҪазСӢвал СӮР°РәСғСҺ РјР°РҪРөСҖСғ РҝРёСҒСҢРјР° Р°СғСӮРҫСҚСҖРҫСӮРёР·РјРҫРј. Р’ РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… СӮРөРәСҒСӮах, РәСҖРҫРјРө Р»СҺСӮРҫРіРҫ СҒамРҫР»СҺРұРҫРІР°РҪРёСҸ, Рё РІРҝСҖСҸРјСҢ РҪРөСӮ РјРөСҒСӮР° РҪРёСҮРөРјСғ: РҪРё РҙСҖамаСӮСғСҖРіРёРё, РҪРё РҝСҒРёС…РҫР»РҫРіРёРё. Р’РҪСҸСӮРҪРҫР№ РәРҫРҙСӢ, Рё СӮРҫР№ РҪРөСӮ: «ВРҫлга» РҝРҫ РҝСҖРҫСҒСӮРҫСӮРө РҙСғСҲРөРІРҪРҫР№ СӮРёСҒРҪСғла В«РҹРөСӮСҖРҫРІСӢС…В» СҒ РҝРҫРҙзагРҫР»РҫРІРәРҫм «РРҫРјР°РҪ. РқР°СҮалРҫВ». Р§СӮРҫ РҪРө СҸСҒРҪРҫ?
РҜ Р¶Рө РіРҫРІРҫСҖСҺ, РҪРө РҙР»СҸ СҮРёСӮР°СӮРөР»РөР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖР°: СҒРёРҪРҙСҖРҫРј СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫРіРҫ РіРёРҪРөРәРҫР»РҫРіР° РіР°СҖР°РҪСӮРёСҖРҫРІР°РҪ. Р—Р°СӮРҫ РәР°РәРҫР№ РҝСҖРҫСҒСӮРҫСҖ РҙР»СҸ РІСӢСҒРҫРәРҫР»РҫРұСӢС… РәСҖРёСӮРёРәРҫРІ, РјР°СҒСӮРөСҖРҫРІ РҝСҖРҫРҙР°СӮСҢ РәР°СҖР°СҒСҸ Р·Р° РҝРҫСҖРҫСҒСҸ. РӣСҺРұРёСӮРөР»СҸРј РҝР°СӮРҫРәРё Рё РҝСҖРёСҖР°СүРөРҪРёСҸ СҒРјСӢСҒР»РҫРІ СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғСҺ СҖРөСҶРөРҪР·РёРё Юлии РҹРҫРҙР»СғРұРҪРҫРІРҫР№, РңРёСӮРё СамРҫР№Р»РҫРІР° Рё ЕлРөРҪСӢ РңР°РәРөРөРҪРәРҫ. РҹРҫСҒР»РөРҙРҪСҸСҸ СғмилилаСҒСҢ: В«РһРҙРҪР° РёР· РҝСҖРөР»РөСҒСӮРөР№ СҚСӮРҫРіРҫ СӮРөРәСҒСӮР° РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҙажРө Р·Р°СҒРҝРҫР№Р»РөСҖРёСӮСҢ РөРіРҫ РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РҪРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫВ».В Р’РҫСӮ РҫРҪР°, РҪР°СҒСӮРҫСҸСүР°СҸ фаРҪСӮР°СҒмагРҫСҖРёСҸ! вҖ“В Р“РҫРіРҫР»СҢ Рё РҘР°СҖРјСҒ СғРІРҫР»РөРҪСӢ РұРөР· РІСӢС…РҫРҙРҪРҫРіРҫ РҝРҫСҒРҫРұРёСҸ.
Р’РөСҖРҪРөРјСҒСҸ, РҫРҙРҪР°РәРҫ, Рә СҖРөалСҢРҪРҫСҒСӮРё. Рҗ РҫРҪР°, РөСҒСӮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, СҒСғСҖРҫРІР°. РқР°СҲР° лиСӮРәСҖРёСӮРёРәР° РІР»СҺРұСҮРёРІР°, РәР°Рә РІРҫСҒСҢРјРёРәлаСҒСҒРҪРёСҶР°, РҪРҫ СҒРөСҖРҙСҶРө РәСҖР°СҒавиСҶСӢ СҒРәР»РҫРҪРҪРҫ Рә РёР·РјРөРҪРө. РҹРҫСӮРҫРјСғ фиРҪРёСҲ Сғ РІСҒРөС… РҪРҫРІСӢС… РіРҫРіРҫР»РөР№ РҝСғСҲРәРёРҪСҒРәРёР№: РёРҪСӢС… СғР¶ РҪРөСӮ, Р° СӮРө РҙалРөСҮРө. РўР°Рә СҮСӮРҫвҖҰ
ВЕРРқРҳРўР• БРЕЖРқРҳР• Р’Р Р•РңР•РқРҗ!
(РЁ. РҳРҙРёР°СӮСғллиРҪ «ГРҫСҖРҫРҙ Р‘СҖРөР¶РҪРөРІВ»; РЎРҹРұ, В«РҗР·РұСғРәа», 2017)
ДлСҸ СҒРҝСҖавРәРё: РқР°РұРөСҖРөР¶РҪСӢРө Р§РөР»РҪСӢ РҪРҫСҒили РёРјСҸ РҝРҫРәРҫР№РҪРҫРіРҫ РіРөРҪСҒРөРәР° СҒ РҪРҫСҸРұСҖСҸ 1982-РіРҫ РҝРҫ СҸРҪРІР°СҖСҢ 1988-РіРҫ. Р’СҖРөРјСҸ РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ вҖ“ 1983-Р№. РЎР»РҫРІРҫРј, back in USSR.
РӣСҺРұРҫРҝСӢСӮРҪР°СҸ РҙРөСӮалСҢ: СҒСӮР°СҖСӢРө РҝРөСҒРҪРё Рҫ главРҪРҫРј РҪСӢРҪСҮРө РёСҒРҝРҫР»РҪСҸСҺСӮ РІСҢСҺРҪРҫСҲРё, СҖРҫР¶РҙРөРҪРҪСӢРө РІ 1970-С…: РҡРҫР·Р»РҫРІ, ЕлизаСҖРҫРІ, Р‘РөРҪРёРіСҒРөРҪ. Р§СӮРҫ, РІ РҫРұСүРөРј-СӮРҫ, Р·Р°РәРҫРҪРҫРјРөСҖРҪРҫ. РҜ РҝСҖРҫжил РІ РЎРЎРЎР РҪР° РҙРҫРұСҖСӢР№ РҙРөСҒСҸСӮРҫРә Р»РөСӮ РұРҫР»СҢСҲРө Р»СҺРұРҫРіРҫ РёР· РҪРёС… Рё РәР°СӮРөРіРҫСҖРёСҮРөСҒРәРё РҪРө РІРҫР·СҢРјСғСҒСҢ Р·Р° СҚСӮСғ РҪРөРҝРҫРҙСҠРөРјРҪСғСҺ СӮРөРјСғ вҖ“ СҒлиСҲРәРҫРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёРІР° Рё РҝРҫСӮРҫРјСғ РҪРөРІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ СҒР»РҫР¶РҪР° РҙР»СҸ РҫСҒРјСӢСҒР»РөРҪРёСҸ. РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РЎРҫСҺР·, СғРІРёРҙРөРҪРҪСӢР№ глазами РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәР°, лиСҲРөРҪ Рё РҪамРөРәР° РҪР° амРұивалРөРҪСҶРёРё Рё Р»РөРіРәРҫ СғРәлаРҙСӢРІР°РөСӮСҒСҸ РІ РҝСҖРҫСҒСӮРөР№СҲРёРө СҒС…РөРјСӢ вҖ“ РҝСҖРҫСӮРҫРәРҫР»СҢРҪСӢР№ РҪР°СҖСҖР°СӮРёРІ, РәР°Рә Сғ РҡРҫР·Р»РҫРІР°, или РҙСғРұРҫРІСғСҺ СҒР°СӮРёСҖСғ, РәР°Рә Сғ Р‘РөРҪРёРіСҒРөРҪР°.
РқРө РјРёРҪСғла СғРҝСҖРҫСүРөРҪСҮРөСҒРәР°СҸ РҝагСғРұР° Рё РҳРҙРёР°СӮСғллиРҪР°. Р РҫРјР°РҪ РҪР° РҝРҫРІРөСҖРәСғ РҫРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ СӮРҫ ли СӮРҫРІР°СҖРҪРҫР№ РҪР°РәлаРҙРҪРҫР№, СӮРҫ ли РёРҪРІРөРҪСӮР°СҖРҪРҫР№ РҫРҝРёСҒСҢСҺ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ СғСӮРёР»СҸ: Dschinghis Khan РҪР° РәР°СҒСҒРөСӮах TDK, РҝР°СҒСӮР° В«РҹРҫРјРҫСҖРёРҪВ», РҙжиРҪСҒСӢ Rifle Р·Р° 120 СҖРІР°РҪСӢС…, РҝРҫСҖСӮРІРөР№РҪ в„– 8, РҝСӢР»РөСҒРҫСҒ «ВихСҖСҢВ», СҒСӮРёСҖалСҢРҪР°СҸ РјР°СҲРёРҪР° «ВСҸСӮРәР°-12В», РіРёРұРәРёРө РҝлаСҒСӮРёРҪРәРё РёР· Р¶СғСҖРҪала В«РҡСҖСғРіРҫР·РҫСҖВ» вҖ“ РҫглаСҒРёСӮСҢ РІРөСҒСҢ СҒРҝРёСҒРҫРә? Р’РҫР·РҙРөСҖР¶СғСҒСҢ: РҪРө СҒСӮРҫРёСӮ Сғ авСӮРҫСҖР° С…Р»РөРұ РҫСӮРұРёСҖР°СӮСҢ. РһРҙРҪРҫ СҒРәажСғ: РҝСҖРҫзаиРә вҖ“ РҫРҪ, РІСҒРө-СӮР°РәРё, СҖРөжиСҒСҒРөСҖ, Р° РҪРө СҖРөРәРІРёР·РёСӮРҫСҖ.
РҡСҖРҫРјРө СӮРҫРіРҫ, РҡР°РҝРёСӮР°РҪ РһСҮРөРІРёРҙРҪРҫСҒСӮСҢ СҸРІРёР»СҒСҸ Рә СҮРёСӮР°СӮРөР»СҺ СҒ РјРөСҲРәРҫРј РҫСӮРәСҖСӢСӮРёР№ СҮСғРҙРҪСӢС…. РһРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ, РЎРҗ РІРҫРөвала РІ РҗфгаРҪРёСҒСӮР°РҪРө, РҝРҫ РІРҫСҒРәСҖРөСҒРөРҪСҢСҸРј РҝРҫРәазСӢвали «БСғРҙРёР»СҢРҪРёРәВ», РҝРёРҫРҪРөСҖСҒРәРёР№ галСҒСӮСғРә СҒСӮРҫРёР» 75 РәРҫРҝ./СҲСӮ., Р° лаСӮСғРҪРҪР°СҸ РҫРәСӮСҸРұСҖСҸСӮСҒРәР°СҸ Р·РІРөР·РҙРҫСҮРәР° вҖ“ 10. Р’Рҫ, РұлиРҪ, Р° РјСғжиРәРё-СӮРҫ РҪРө Р·РҪР°СҺСӮвҖҰ РЎСӮСҖР°РҪРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҝСҖРё СӮР°РәРҫР№ СҖР°РұРҫСӮРө СҒ фаРәСӮСғСҖРҫР№ РЁ.Рҳ. СғР»РҫжилСҒСҸ РІСҒРөРіРҫ-СӮРҫ РІ 700 СҒСӮСҖР°РҪРёСҶ. РңРҫРі РұСӢ Рё РұРҫР»СҢСҲРө, РҝРөСҖРөСҒРәазав СҖРөСҶРөРҝСӮ СҒалаСӮР° В«РңРёРјРҫза», РҝСҖавРҙРёРҪСҒРәРёРө РҝРөСҖРөРҙРҫРІРёСҶСӢ Рё СҖР°РҪРҪРёРө РҝРөСҒРҪРё РЁРөРІСҮСғРәР°.
Да СҚСӮРҫ РөСүРө РҝРҫР»РұРөРҙСӢ. Р‘РөРҙР° РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ авСӮРҫСҖ (СҲРөС„-СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖ СҖРөРіРёРҫРҪалСҢРҪРҫРіРҫ РұСҺСҖРҫ В«РҡРҫРјРјРөСҖСҒР°РҪСӮа», РјРөР¶РҙСғ РҝСҖРҫСҮРёРј) РёР·СҠСҸСҒРҪСҸРөСӮСҒСҸ РҝРҫРҙ СҒСӮР°СӮСҢ РөСҒРөРҪРёРҪСҒРәРёРј СҒРөР»СҸРҪам вҖ“ РәРҫСҖСҸРІСӢРјРё, РҪРөРјСӢСӮСӢРјРё СҖРөСҮами: В«РһРҪ СҒ РіСҖРҫС…РҫСӮРҫРј РҫРұСҖСғСҲРёР»СҒСҸ РҫСҒСӮР°СӮРәами РҫСҖРіР°РҪРёР·РјР° СҒРҫ СҒРәамРөР№РәРёВ»; «ВиСӮалиРә РұСӢР» РҝСҢСҸРҪ РјРөСҖСӮРІРөСҶРәРё, РҙРҫ РҝРөРҪСӢ РІ глазах»; «мСӢ СҒР»РөСӮРөли, РәР°Рә РҝСҖРёРіРҫСҖСҲРҪСҸ Р·Р°СүРөРәРҫСӮР°РҪРҪСӢС… зайСҶРөРІ, РәСғРІСӢСҖРәР°СҸСҒСҢ Рё РіРҫРіРҫСҮа»вҖҰ Рё СӮР°Рә РҙалРөРө вҖ“ РҙРҫ РҝРөРҪСӢ РІ глазах, РҙРҫ Р·Р°СҸСҮСҢРөРіРҫ РіРҫРіРҫСӮР° РІ СғСҲах. Р–СҺСҖРё СҒРҫСҮР»Рҫ СҚСӮРҫСӮ РәРҫСҒРҪРҫСҸР·СӢСҮРҪСӢР№ Р»РөРҝРөСӮ В«РҪРөРҝСҖРҫРІРёРҪСҶиалСҢРҪСӢРј РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёРөРј РҝСҖРҫРІРёРҪСҶРёРёВ», вҖ“ РӨРөСҖРҪР°РҪРҙРөР»СҢ РҪР° СӮРҫРј СҒРІРөСӮРө РҝлаСҮРөСӮ РҫСӮ завиСҒСӮРёвҖҰ
РЎРҫРұСҖав РІ РәСғлаРә РҫСҒСӮР°СӮРәРё СҖР°СҒСӮРөСҖР·Р°РҪРҪРҫРіРҫ РҫСҖРіР°РҪРёР·РјР°, РҝСҖРёРҝРҫРјРҪСҺ СӮРҫРІР°СҖРёСүР° Р‘СҖРөР¶РҪРөРІР° вҖ“ СӮРөРјР°, РҝРҫ-РјРҫРөРјСғ, РҫРұСҸР·СӢРІР°РөСӮ. В«РқР°СҒСӮРҫСҸСүРёР№ СӮалаРҪСӮ РІСҒСӮСҖРөСҮР°РөСӮСҒСҸ СҖРөРҙРәРҫВ», вҖ“ СғСҮРёР» РҙРҫСҖРҫРіРҫР№ РӣРөРҫРҪРёРҙ РҳР»СҢРёСҮ СҒ СӮСҖРёРұСғРҪСӢ XXV СҒСҠРөР·РҙР° РҡРҹРЎРЎ. Р‘СӢвали Рё Сғ РҝРҫРәРҫР№РҪРҫРіРҫ РіРөРҪСҒРөРәР° Р·РҙСҖавСӢРө РІСӢСҒРәазСӢРІР°РҪРёСҸ. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, СҒСғРҙСҢРё РҙСҖСғРіРҫРіРҫ РјРҪРөРҪРёСҸ: СӮРҫРІР°СҖРҪР°СҸ РҪР°РәлаРҙРҪР°СҸ РҳРҙРёР°СӮСғллиРҪР° РҝРҫР»СғСҮила СӮСҖРөСӮСҢСҺ РҝСҖРөРјРёСҺ. Р’ РҝРөСҖРөСҒСҮРөСӮРө РҪР° РҙРөРҪР·РҪР°РәРё вҖ“ миллиРҫРҪ. Рҳ РҫРҝСҸСӮСҢ-СӮР°РәРё Рҫ РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРј РЎРҫСҺР·Рө: РҝРҫ СҒСӮР°СӮСҢРө 93 РҡР—РҫРў РЎРЎРЎР , РҝРҫР»РҪСӢР№ РұСҖР°Рә РҝРҫ РІРёРҪРө СҖР°РұРҫСҮРөРіРҫ или СҒР»СғжаСүРөРіРҫ РҫРҝлаСӮРө РҪРө РҝРҫРҙР»Рөжал, Р° СҮР°СҒСӮРёСҮРҪСӢР№ РҫРҝлаСҮивалСҒСҸ РІ РҝРҫРҪРёР¶РөРҪРҪРҫРј СҖазмРөСҖРө.
Р’РөСҖРҪРёСӮРө РұСҖРөР¶РҪРёРө РІСҖРөРјРөРҪР°!
Р’РЎР• РӯРўРһ БЫРӣРһ БЫ РЎРңЕШРқРһвҖҰ
РһСҶРөРҪРёСӮРө РҝРҫСҒР»РөРҙРҪСҺСҺ СҖРөРҝСҖРёР·Сғ: СҖазРҙР°СҮР° РұРҫР»СҢСҲРөРәРҪРёР¶РҪСӢС… СҒР»РҫРҪРҫРІ РҝСҖРҫС…РҫРҙила РҝРҫРҙ РҙРөРІРёР·РҫРј «ВСҒСҸ влаСҒСӮСҢ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРөВ». Р’РҫСӮ-РІРҫСӮ. РҳРҙРёР°СӮСғллиРҪ СҒ В«РҝСҖРёРіРҫСҖСҲРҪРөР№ Р·Р°СүРөРәРҫСӮР°РҪРҪСӢС… зайСҶРөРІВ» вҖ“ РҪСғ Рҫ-РҫСҮРөРҪСҢ СҖСғСҒСҒРәР°СҸ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖР°. Рҳ РҹРөР»РөРІРёРҪ, СҮСӮРҫ РјРөСҲР°РөСӮ СҲРәРҫР»СҸСҖСҒРәРёРө РҝР»РөРҫРҪазмСӢ РІСҖРҫРҙРө В«РәР°СҖСӮРҫСҮРҪРҫРіРҫ РҝР°СҒСҢСҸРҪСҒа» СҒ замСғСҒРҫР»РөРҪРҪСӢРјРё РәлиСҲРө СӮРёРҝР° «мСҖР°СҮРҪРҫР№ завРөСҒСӢВ». Рҳ ГигРҫлаСҲвили, СҮСӮРҫ РҪР°СҖСҸРҙРёР» РҳРІР°РҪР° Р“СҖРҫР·РҪРҫРіРҫ РІ РұСғСҲлаСӮ Рё РҪР°РәРҫСҖРјРёР» «мРөСҖР·Р»РҫР№ РәР°СҖСӮРҫС…РҫР№В»вҖҰ
РҘРҫСӮСҸ РәР°РәРёРө Рә РҪРёРј РҝСҖРөСӮРөРҪР·РёРё? РҹСҖав РұСӢР» СҮР»РөРҪ РұРҫР»СҢСҲРөРәРҪРёР¶РҪРҫРіРҫ Р¶СҺСҖРё РңРёСӮСҸ СамРҫР№Р»РҫРІ: «В СҚСӮРҫРј РіРҫРҙСғ СҒРҝРёСҒРҫРә фиРҪалиСҒСӮРҫРІ РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸРөСӮ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҖСғСҒСҒРәСғСҺ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСғ, РҪРҫ СҖСғСҒСҒРәСғСҺ жизРҪСҢ РІРҫРҫРұСүРөВ». Р’РҫРҝСҖРҫСҒСӢ РөСҒСӮСҢ?