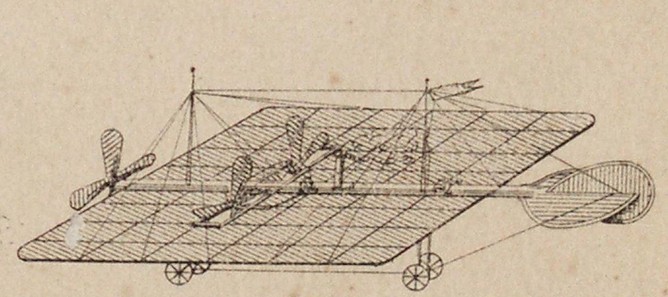–õ—É–Ω–Ω–∞—è —Å–æ–Ω–∞—Ç–∞
–õ—É–Ω–Ω–∞—è —Å–æ–Ω–∞—Ç–∞

–ú–Ω–µ —á–∞—Å—Ç–æ —Å–Ω–∏—Ç—Å—è –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π. –û–Ω –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –ø–ª–∞—á–µ—Ç. –Ø –ø—ã—Ç–∞—é—Å—å –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å –Ω–∏–º. –ù–æ –¥–∞–∂–µ –≤ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ (–∞ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ –ø–æ—ç—Ç –º—ë—Ä—Ç–≤) ‚Äî –æ–Ω –≤–∑–∏—Ä–∞–µ—Ç —Å–≤—ã—Å–æ–∫–∞ –∏ –Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç —Å–æ –º–Ω–æ–π –±–µ—Å–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å. –í–µ–¥—å –æ–Ω –º–µ–Ω—è —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç. –ê –±–æ–ª—Ç–∞—Ç—å —Å —á—É–∂–∞–∫–∞–º–∏ –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª‚Ķ¬Ý–í—Å–µ –æ–Ω–∏, –±–ª–∏–∂–Ω–∏–π –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫—Ä—É–≥, —Å–æ—Ç–∫–∞–Ω–Ω—ã–π –∏–∑ –≤—Å–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–π-–æ—Ç–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω–∏–π –∏ –Ω–µ–∏—Å—Ç–æ–≤—Å—Ç–≤–∞ ¬´–ë—Ä–æ–¥—è—á–µ–π —Å–æ–±–∞–∫–∏¬ª ‚Äî —Å –ª—å—é—â–∏–º –Ω–∞ –∫–ª–∞–≤–∏—à–∏ —Ä–æ—è–ª—è –≥–æ—Ä—é—á–µ-–∫–æ–Ω—å—è—á–Ω—ã–µ —Å–ª—ë–∑—ã –ø–∏–∞–Ω–∏—Å—Ç–æ–º –¶—ã–±—É–ª—å—Å–∫–∏–º: ‚Äî –≤ –æ–±—â–µ–º-—Ç–æ, –±—ã–ª–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ —Ä–æ–≤–µ—Å–Ω–∏–∫–∞–º–∏‚Ķ –ü–ª—é—Å-–º–∏–Ω—É—Å. –•–æ—Ç—è –º–∞–ª–æ–ª–∏—Ç—Ä–∞–∂–∫–∞ ¬´–®–µ–≤—Ä–æ–ª–µ¬ª –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–µ–¥–∞–ª—ë–∫–æ–º –±—É–¥—É—â–µ–º (–≤ 1920-—Ö) —É –Ω–µ–≥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ.¬Ý
–¢–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π, –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –¥—Ä—É–≥–æ–π, –æ–≤–µ—è–Ω –±—ã–ª –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —Ñ–∞–Ω—Ç–∞—Å–º–∞–≥–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ç–µ–Ω—å—é‚Ķ –ù–µ—Ç, –Ω–µ —Å–ª–∞–≤—ã, ‚Äî –∞ –∫–∞–∫ –±—ã –ª—É—á—à–µ –≤—ã—Ä–∞–∑–∏—Ç—å—Å—è: ‚Äî –º–∏—Å—Ç–∏–∫–∏, —á—Ç–æ –ª–∏, –ø–æ–¥–ª—É–Ω–Ω–æ–≥–æ –±—É–ª–≥–∞–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –º–∏—Å—Ç–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–∞.¬Ý
–ú–æ–ª–æ–¥—ã–µ –í–æ–ª–æ–¥–∏–Ω—ã —Ä–æ–≤–µ—Å–Ω–∏–∫–∏ –µ—â—ë –∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Ç—É—Ä–Ω–∏–∫–∞—Ö –∏ –ø—Ä—ã–≥–∞–ª–∏ —Å —à–µ—Å—Ç–æ–º, –±–µ–≥–∞–ª–∏ –Ω–∞–ø–µ—Ä–µ–≥–æ–Ω–∫–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —É–∂–µ –≤—ã–ø—Ä–∞—Å—Ç—ã–≤–∞–ª –º–µ—Ç–∞—Ñ–æ—Ä—ã, –Ω–µ—Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–º—ã–µ –Ω–∏ —Å —á–µ–º, –±—ã–≤—à–∏–º –≤ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–æ–º –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏–∏ –¥–æ —Ç–æ–≥–æ.
–ù–∏–∫—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥, –º–æ–ª, —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ –Ω–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å. –ò —á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏—Ç—å –∏–∑ —Å–∞–º–æ–≥–æ —Å–µ–±—è, –æ–ø–∏—Ä–∞—è—Å—å –Ω–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ä—ë–±—Ä–∞. –ò —á—Ç–æ —Ä—å—è–Ω–æ ¬Ý–≥–∞—Ä—Ü—É—é—â–∏–µ –ø–æ –±–∏–ª—å—è—Ä–¥–Ω–æ–º—É —Å—Ç–æ–ª—É —à–∞—Ä—ã ‚Äî ¬´—Å–ª–µ–ø—ã–µ –∫–æ–Ω–∏ —Ñ–æ—Ä—Ç—É–Ω—ã¬ª. –£–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º—ã–µ ¬´—É–º–Ω—ã–º¬ª –∫–∏–µ–º.¬Ý
–í –º—É—Ç–Ω–æ-—Å—É–º–µ—Ä–µ—á–Ω–æ–º –º–∞—Ä–µ–≤–µ –ª—É–Ω–Ω—ã—Ö –±–ª–∏–∫–æ–≤ –æ–Ω –¥–∏—Ä–∏–∂–∞–±–ª–µ–º –ø—Ä–æ–ø–ª—ã–≤–∞–ª –º–∏–º–æ –æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö –∫–æ–ª–ª–µ–≥, ‚Äî –Ω–µ –∑–∞–º–µ—á–∞—è –∏—Ö, –Ω–µ –∑–Ω–∞—è, –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É –Ω–µ –∂–µ–ª–∞—è –æ—Ç–≤–ª–µ–∫–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞–∑—Ä—è.¬Ý
–í—Å–µ–º –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —É –Ω–µ–≥–æ ‚Äî –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–æ–≥. –ò –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä—É–∫. –¢–∞–∫ –µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ. –¢–∞–∫–æ–≤ –±—ã–ª –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –ø—É–±–ª–∏–∫–∏ –∫ –µ–≥–æ –∞–∂–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º—É –æ–±–ª–∏–∫—É, –∏—Å—á–µ–∑–∞—é—â–µ–º—É –≤ —Ç—É–º–∞–Ω–µ –Ω–µ–≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω—ã—Ö –≥—Ä—ë–∑ –∏ –Ω–µ–æ–±—ä—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ–±–µ—â–∞–Ω–∏–π. –°—É–ª—è—â–∏—Ö —Å–∫–æ—Ä–æ–µ –≤—Å–µ–æ–±—â–µ–µ –±–ª–∞–≥–æ–¥–µ–Ω—Å—Ç–≤–∏–µ.¬Ý
–ö–æ–≥–¥–∞ —Å–∏–¥–∏—Ç –≤ —Ä–µ—Å—Ç–æ—Ä–∞–Ω–µ –∏ –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–ª–∏–≤–æ —á–∏—Å—Ç–∏—Ç —Ä–∞–∫–æ–≤, ‚Äî —Ç–æ –∏ –¥–µ–ª–æ —É–∫–∞–ª—ã–≤–∞—è—Å—å –æ –Ω–µ–ø–æ—Å–ª—É—à–Ω—ã–π –∂—ë—Å—Ç–∫–∏–π –ø–∞–Ω—Ü–∏—Ä—å, –Ω–µ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è –≥–ª–∞–∑, ‚Äî –≤—Å–µ –≤–∏–¥—è—Ç, —á—Ç–æ –æ–Ω –Ω–µ—Ä–≤–Ω–∏—á–∞–µ—Ç.¬Ý
Услужливо подрулившему к трапезе метрдотелю во всеуслышание пеняет за членистоногих: «Да вы бы хоть маникюр им сделали, любезный!» — И надо бы эту фразу обязательно записать. Но под рукой нет ни пера, ни бумаги. А — лишь безмерное восхищение всех вокруг, глядящих только в его сторону. Ждущих, — и небезосновательно, — какого-то немыслимого воландовского иллюзиона.
И тот, кому посчастливилось находиться в тот момент рядом, — купается в лучах внезапно-неземной славы.
*¬Ý
–ò–≥—Ä–∞—è –≤ –∫–∞—Ä—Ç—ã, –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ –≤—Å—ë –ø—Ä–æ—Å–∞–∂–∏–≤–∞–ª ‚Äî –≤–∑—Ä—ã–≤–Ω–æ–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª –¥–æ–ª–≥–æ ¬´—Ç–∞–∏—Ç—å—Å—è –≤ –∑–∞—Å–∞–¥–µ¬ª –≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ –Ω—É–∂–Ω–æ–≥–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞. –ù–æ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–æ–∏–≥—Ä–∞–≤—à–∏—Å—å, –≥–æ—Ç–æ–≤ –±—ã–ª –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ –ø–æ–º–æ—á—å —Å–æ—Å–µ–¥—É –ø–æ –∑–µ–ª—ë–Ω–æ–º—É —Å—É–∫–Ω—É: ‚Äî —Ç–æ–∂–µ –ª–∏—à–∏–≤—à–µ–º—É—Å—è –¥–µ–Ω–µ–≥.¬Ý
–ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è –Ω–∞ –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥–µ –∫–∞—Ñ–µ, –Ω–∞—Ä–æ–¥ —É–∂–µ –∏–∑–¥–∞–ª–∏ –ª–∏—Ü–µ–∑—Ä–µ–ª –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é —Ñ–∏–≥—É—Ä—É, –∫–æ—Å—Ç—é–º: —Å–∏–Ω–∏–π –ø–∏–¥–∂–∞–∫, —Å–µ—Ä—ã–µ —à—Ç–∞–Ω—ã, —Ç—Ä–æ—Å—Ç—å.
Подойдя ближе, — метко срисовав чьё-то восторженное лицо, — говорил раздражённо: «Ведь смотрит. И шепчет». — Не без юмора, естественно.
К нему неизменно подбегал какой-нибудь начинающий стихоплёт и тут же предлагал (то ли в шутку, то ли всерьёз) купить рифму: «Медика́мент — Медяка́ми».
‚Äî –Ý—É–±–ª—å –¥–∞—é, ‚Äî –±—Ä–æ—Å–∞–ª –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π.
— Чего так мало? — удивлялся непризнанный гений.
— Потому что у «медикаме́нта» — ударение на последнем слоге.
— Тогда зачем берёте?
‚Äî –î–∞ –Ω–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π, ‚Äî –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª, —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏.¬Ý
–û–Ω –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤—Å–µ–æ—Ö–≤–∞—Ç–Ω—É—é —Å–∏–ª—É –ø—Ä–∏—Ç—è–∂–µ–Ω–∏—è, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏–º—É—é –Ω–∞ –ª—é–¥–µ–π. –ü–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è –µ–π —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –¥–∞–π –±–æ–≥ –æ–±–∏–¥–µ—Ç—å –∫–æ–≥–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –Ω–µ–≤–∑–Ω–∞—á–∞–π.
–î—É—à–µ–≤–Ω–æ —Ç–æ–Ω–∫–∏–π, —ç–º–æ—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π. –ú–∞–ª–æ–ø—å—é—â–∏–π. (–•–æ—Ç—è –ø–æ–¥ —Ö–º–µ–ª—å–∫–æ–º —á—É–¥–∏–ª.) –î–µ–ª–∏–∫–∞—Ç–Ω—ã–π ‚Äî –¥–æ —Å–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —é–º–æ—Ä–∞. –î–æ–±—Ä—ã–π. –¢—Ä–æ–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π. –í—Ä–µ–º—è –æ—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –µ–∑–¥–∏–ª –∫ –º–∞–º–µ, ‚Äî –Ω–µ —Å—Ç–µ—Å–Ω—è—è—Å—å —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—è–º.¬Ý
Обожал «обратные» приколы. [Не ведаю, использовалось ли тогда слово «прикол». В анналах серебряного века лично я не встречал.] Дескать, ласково просимо на званый обед. Там не будет ни Петровых, ни Ивановых, ни Щепоткина, ни Астахова… — Этот принцип он называл приглашением на «Кого не будет».
[В скобках вспоминается знаменитое Ахматовское: «Вот, ешьте, пожалуйста, сыр, колбасу. А гостей, извините, посадили…»]
*
‚Ķ–ú—ë—Ä—Ç–≤–æ–≥–æ –µ–≥–æ –≤–µ–∑–ª–∏ –≤ –ö–ª—É–± –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π –Ω–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º —Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–Ω—É—Ç–æ–º –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–µ. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ —à–ª–∞ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ, —á–∞—Å—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—è—Å—å. –õ—é–¥–∏ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ ‚Äî –∏ –ø–∞—á–∫–∞–ª–∏ —Ä—É–∫–∏ –∫—Ä–∞—Å–∫–æ–π, –Ω–µ —É—Å–ø–µ–≤—à–µ–π –≤—ã—Å–æ—Ö–Ω—É—Ç—å –∫ ¬´—Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ–º—É –º–æ–º–µ–Ω—Ç—É¬ª.¬Ý
–ó–∞ –¥–µ–Ω—å –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –≥—Ä–æ–± —Å—Ç–æ—è–ª –≤ –ì–µ–Ω–¥—Ä–∏–∫–æ–≤–æ–º –ø–µ—Ä. (–≤ 1935 –ø–µ—Ä–µ–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω –≤ –ø–µ—Ä. –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ.) –ò –ø–∞—Ç–æ–ª–æ–≥–æ–∞–Ω–∞—Ç–æ–º –≤—Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –µ–º—É –≤ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ —á–µ—Ä–µ–ø. –°—Ç—É–∫ –º–æ–ª–æ—Ç–∫–∞ —Å—Ç–æ—è–ª –∂—É—Ç–∫–∏–π! –°–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≤ –∑–∞–ª–µ –¥—Ä—É–∑—å—è —Å–ª—É—à–∞–ª–∏ —ç—Ç–æ –Ω–µ–ø–æ—Ç—Ä–µ–±—Å—Ç–≤–æ –≤ –ø–æ–ª–Ω–µ–π—à–µ–π —Ç–∏—à–∏–Ω–µ. –û–±—É—èÃÅ–Ω–Ω—ã–µ –±–∏—Å–µ—Ä–æ–º —Ä–∞—Å—Å—ã–ø–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ —Ñ–µ—Ä–æ–º–æ–Ω–æ–≤ —É–∂–∞—Å–∞.¬Ý
[И снова Ахматова: «Он всё понял раньше нас всех. Отсюда и такой конец…»]
Потом никому не известный врач, — в тяжёлых сапогах и запачканном кровью халате: — вынес таз с мозгом Маяковского так, будто там был салат.
На дворе стоял промозглый апрель. Луна светилась маленькой жёлтой лупой, сморщившись от невозвратного. И тоже — плакала. …В ожидании скорых призраков их всех — уже ушедших, и ещё нет. Стремящихся туда, вверх — по освещённой Богом дорожке: — где нет ни горестей, ни бед, ни сожалений. Ни — апоплектического страха подлунных перевоплощений.
¬Ý