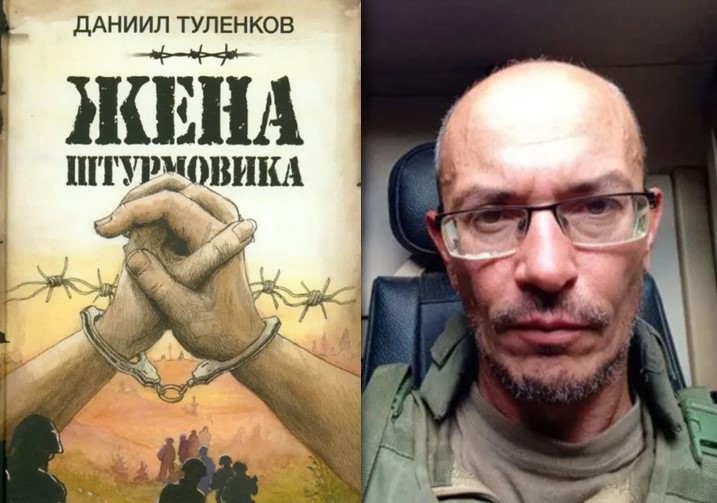О дебрях литературных тропов и опасностях, в них таящихся
О дебрях литературных тропов и опасностях, в них таящихся

Последнее время критики то и дело пытаются заявить, что литературный стиль, мол, не имеет значения. Главное — замысел! Хотя, сетуют они же, все украдено, то есть придумано до нас. Ну и что? — вопрошают литераторы. Пусть мы не оригинальны в плане замысла, однако получили индульгенцию от постмодернизма (а заодно и от неведомого «метамодернизма», определение которого по сей день терзают критики или вообразившие себя таковыми), можно и чужое использовать.
Да и отказаться от работы над текстом никогда не рано! Стиль с возу — автору легче.
Бюффон сказал: «Стиль — это человек». Я бы сказала, что стиль — это шедевр, или согласилась бы с Бальзаком: «Стиль — порождение идей, а не слов». Именно стилем можно передать то, что есть в сюжете, но чего нет в фабуле. Для полноценного сюжета нужны не только события, но еще и закономерности, увиденные автором в развитии событий. И они же нужны для формирования идеи произведения. Благодаря упомянутым закономерностям на базе одних и тех же событий можно написать трагедию, боевик, черную комедию, хоррор и детектив (как минимум). Возьмите хоть историю принца, притворившегося сумасшедшим, чтобы выжить при дворе узурпатора трона своего отца — начиная с Амледа из «Деяний данов» до Кей-Хосрова, сына царя Сиявуша, из «Шахнаме» — все они отличаются от горестной судьбы Гамлета.
Поиск писателем собственного стиля может занять годы, десятилетия. Вопрос даже не в том, какой длины фразы использовать и сколько умных слов на предложение ставить. Эксперименты с формой и стилевое разнообразие литературы, похоже, в прошлом. Нас зовут вернуться — правда, непонятно куда. В эпоху передачи сообщений с помощью изобразительного, а не вербального языка? К разговору картинками? К дигитальной литературе?
Зачастую литераторы подкрепляют предложение опроститься аргументами вроде «не говори красиво»; «краткость — сестра таланта». И никто не пытается (или не в силах) вспомнить тургеневскую или чеховскую цитату целиком (а заодно и кому было писано).
Напомню, первое — отнюдь не «совет классика», а всего-навсего насмешка разночинца Базарова, человека, образованного плохо, над более образованным Кирсановым (близкая тема и знакомая ситуация); второе же целиком звучит так: «Мой совет: в пьесе старайся быть оригинальным и по возможности умным, но не бойся показаться глупым; нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупостей. Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Краткость — сестра таланта».
Обычно такие высказывания классиков с течением времени не наполняются содержанием, а лишаются его в ходе превращения совета в индульгенцию. Как правило, необходимую тем, кто не может воспользоваться советом по назначению. Будучи адресован человеку намного более образованному и талантливому, этот совет может наставить современного литератора не на ум, а на стезю халтуры и невежества.
Сомнительно, что «глупости», которые мог написать брат А.П. Чехова Александр в своей пьесе, есть глупость без кавычек, на которую способен современный литератор. Человек бесталанный готов дать себе добро на написание глупостей на уровне школьной неграмотности. Захар Прилепин на «шибко грамотных» цыкает: «Новейшая литература, этот извечный речевой градусник, показывает и сегодня нормальную температуру… С языком (как и с литературой в целом) у нас все более чем в порядке… Заткнитесь, в общем, не заказывайте нам панихид раньше времени».
А когда придет время, панихиды заказывать или так, без отпевания в гроб сойдете? Температура-то по больнице стоит на отметке «Доктор сказал: в морг». От отчаяния и бесконечные попытки книгоиздата вернуть внимание публики к литературе, чья жизнедеятельность понижена, и это, похоже, отнюдь не анабиоз...
Так, например, в 2018 году «Большая книга» запустила новую премию «_Литблог». Концепция была следующая: «Сегодня, в эпоху активного развития технологий, книжный блогер оказывает всё более заметное влияние и на читателей, и на литературную жизнь в целом. Основная цель премии «_Литблог» — поощрить публичное обсуждение современной отечественной словесности в сети и сблизить литературный процесс с форматами новых медиа». Поощрение обсуждения литературы — это хорошо. Однако, признаться, изумило предложение «сблизить литературный процесс с форматами новых медиа». Не премиальный, заметьте, а литературный!
Куда дальше-то сближать? Гифок и смайликов в литературный текст добавить? Избавить критику от того, что роднило ее с научной и научно-популярной сферой? Сетевому «лытдыбру», ставшему эгобеллетристикой, требуется от «боллитры» такая же критика, дабы не предъявляла невыполнимых для лытдыбриста требований?
Соцсети не могут не протекать своим содержимым в литературу. Было бы странно, кабы пишущая братия в упор не замечала, чем живет множество людей. Но в результате, увы, не литература осмысливает вирт, а вирт заражает литературу своим недомыслием и косноязычием. Ниагарским водопадом изливаются в нее краткоживущие мемы и субкультуры, с реальной жизнью не связанные. Зато проблемы и радости живых людей обесцениваются, утрачивают жизнеподобие и силу.
Даже grief memory books, которые должны вызывать если не интерес, то сочувствие к автору (чей герой всего лишь персонификация, от которой создатель и не думает дистанцироваться), воспринимаются как сетевое нытье, а также, извините за выражение, лулзы и срач. Но как еще назвать бойкую монетизацию страданий и утрат?
Анна Старобинец в романе «Посмотри на него» пишет о невнимательных врачах и эгоистичных пациентах: «Вы что, женщина?! Как вы себе это представляете? У нас же здесь беременные! Глядя на вас, они будут волноваться! У них здесь беременные. Беременюшки. Они здесь занимаются беременюшками и их пузожителями, а не всякой патологической мерзостью». И что читатель видит в результате? В результате вместо книги мы получаем эмуляцию холивара на сайте «Овуляшки онлайн» или Babyblog, а заодно и апологию хорошей западной медицины в противовес плохой отечественной.
Именно сомнительное качество текста, а вовсе не тематику, возмутившую в свое время критика Аглаю Топорову, можно счесть главной литературной неудачей Старобинец.
Плох или хорош сетевой сленг и сетевой же менталитет в Сети? Там они в порядке вещей. А в литературе, становясь лексиконом не персонажей, но авторов, они проделывают с писателями нечто ужасающее. В первую очередь заставляют терять писательский навык, внимание к стилю, уважение к слову. А кому нужен литератор, равнодушный к слову и утративший способность распорядиться словом по назначению?
Равнодушие такого рода, как и все в этом мире, имеет две стороны — невежество и вычурность. Не умеющий найти слова автор пытается заменить одно верное множеством фальшивых. А читатель вынужден продираться через джунгли тропов, которые писатель нагородит.
Критики, в свою очередь, усердно пытаются соответствовать условиям найма и не контрастировать с подопечными умом и образованностью; то и дело выдают несуразности вроде: «…от неё (прозы — И. Ц.) несёт прекрасным духом литературного мастерства, не сводимого к “сюжету” или к “языку”». Нести может зловонием, телесными жидкостями, гарью, порохом, гнилью, кислятиной, разложением — но никак не благоуханием. Ну а кумирами эдаких экспертов запросто становятся не столько писатели, сколько медийные фигуры.
Такие как Дмитрий Быков, на глазах изумленных читателей превращающийся из-за своего равнодушия к русскому языку в… бобра.
«Кинозал, в котором вы вместе грызли кедрач
И ссыпали к тебе в карман скорлупу орехов.
О деталь, какой позавидовал бы и врач,
Садовод при пенсне, таганрогский выходец Чехов!» — пишет в своем стихотворении новоявленный грызун Быков.
Поясню: кедрач — это не орехи, а лес, состоящий из кедров. «За соснами и елями стлались белые луга, за ними — кедрачи, а за кедрачами простирались Васюганские болота». В. В. Липатов, «Деревенский детектив»; или дерево в таком лесу. «Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей, через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки, нальётся в них лаково-жёлтый орех». В. П. Астафьев, «Царь-рыба». Эту нехитрую информацию предоставил бы «мастеру деталей» и Викисловарь. Однако нынешним мастерам пера лень уточнять слова, которыми они оперируют «для красоты» и, будучи лишены зоркости и точности, выбирают какие попало, абы в рифму.
Неудивительно, что «восхвалитика» навязывает публике «иконы стиля» меркою по себе — такие, например, как Ольга Славникова. В чьих произведениях кроме тропов, тоннами словесной воды падающих с авторского Олимпа на головы публики, ничего, собственно, и нет. Пока вы доберетесь хоть до какой-то идеи, события, образного ряда, вам придется испытать, что такое метафоризм актуально-невежественного писателя из тех, кого именуют стилистами. «Не цырюльник, а паликмахтер!»
Неоправданно громоздко описываются персонажи, которые более никогда в повествовании не возникнут — никак, нигде. Для образа мало, для эпизодического «мимокрокодила» много:
«…в квартиру его сразу же вселилась приехавшая на сессию племянница-студентка, очень цепкая девица с люминесцентным маникюром и подвижными бедрышками, от которой Крылов едва увернулся»;
«одной из бывших своих приятельниц, профессиональной гадалки, носившей на обесцвеченной щетинке громадные, как генеральские папахи, вороные парики»;
«благообразный пожилой господин с сильно отвисшим, словно напудренным лицом и по-дамски остриженной сединой; эта стрижка, выглядевшая чудаковато и умилительно, позволяла, однако, предположить, что в более молодые годы старикан не чуждался экстремального дизайна и был, пожалуй, крут».
Стремление говорить красивей, «метафоричней» убивает текст вернее любого цензора. Яна Вагнер в «Кто не спрятался» живописует явление героини народу: «…следом за ним из неглубокого целомудренного вагонного жерла высунулась тонкая, объятая сизой джинсовой кольчугой длинная нога и воткнула в стерильное перронное покрытие хищный каблук и остроконечный мысок, сто шестнадцать сантиметров от бедра до щиколотки». К чему относятся эти «сто шестнадцать сантиметров» — к мыску или к каблуку?
«Нога, объятая кольчугой» (нет, я не буду уподобляться уставшим от стилистов критикам матчасти и рассуждать о том, что кольчужных штанов нигде и никогда не носили) отстоит от данного уточнения настолько далеко, что связать их между собой не получается. Вот вам и второй утраченный навык — умение строить предложение и/или абзац так, чтобы было понятно, кто на ком стоял.
Вдобавок в дебрях вычурных тропов могут стоять капканы на писателей, возлагающих чрезмерные надежды на некий «метафоризм мышления». Будучи по-булгаковски «человеком девственным», автор не ищет, не выбирает и не обдумывает сказанное им в произведении. Он надеется, что слово ему будут «дадено» извне, а не извлечено из его собственного словарного запаса, что литературные приемы придут из астрала, а не из персонального интеллектуального багажа — вот и не пытается писатель этот багаж пополнить и увеличить.
В попытках добавить красочности повествованию с помощью метафор авторы, как правило, демонстрируют незнание и того, что сравнивают, и того, с чем сравнивают.
Снова Я. Вагнер: «Чужая воля плавилась мгновенно, как сыр в супе» — а ничего, что процесс плавления сыра далеко не быстрый, в отличие от плавления масла? Затем опять метафора «с сыром»: «Как тонкая сырная корка на раскаленном бурлящем супе» — так плавится этот странный сыр в раскаленном, бурлящем и явно гибнущем от неумелой варки супе, или, наоборот, застывает коркой? Писателю все равно. Он равнодушен к словам, тропам и строению предложения, а заодно и к матчасти, и к законам физики, психики и природы. У него другие ценности.
Неудивительно, что читатель так и бредет по минному полю речевых, смысловых, фактологических и прочих ошибок, делающих «инженера душ» кем-то вроде двоечника, раздражающего учителя и невежеством, и попытками самоутверждения, и подростковым бунтом. Конечно, в отношении подростка эти чувства могут оказаться ошибочными — мало ли как изменится инфантильная личность, когда (если) повзрослеет и разовьется в полной мере? Но странно чувствовать то же в отношении автора, который давно уже не дитя… «Николай Коньков был ребенком (кто из нас не был ребенком?). Он был, собственно говоря, даже более чем ребенок, так как ему было уже тридцать пять лет».
И ведь не помогают автору в нелегком деле взросления ни образование, ни среда. Как напишет, скажем, писатель Андрей Геласимов что-нибудь вроде: «Пожар нечеловеческой боли в истерзанной рогоносным статусом хрипатой груди» или «она пломбировала его кричальное отверстие» — так и позабудешь, что перед тобою кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства в Литинституте.
Нам навязывают любителей говорить не столько красиво, сколько многословно и громоздко. Что, в общем-то, противоположно красоте слога. Сложно ощутить красоту в косноязычии и длиннотах. Вероятно, отсюда, из неуверенности автора в том, что его слог достаточно хорош, чтобы вызвать в читателе сильные эмоции, произрастает еще один прием «дожатия публики». А именно — страшилки.
Дмитрий Глуховский в новом своем произведении «Пост» описывает, похоже, мечту современного либерала-русофоба: после очередной войны (с применением секретного оружия-«вундервафли») от прежней России осталась лишь малая часть — Московская империя. Восточные границы ее лежат в бывшей Московской области, а самоназвание «империя» звучит не менее несуразно, чем тот самый «метафоризм», никак не дающийся бывшему фантасту-масслитовцу.
Кажется, неофиты в мире литературных тропов побаиваются писать просто. А писать сложно не выходит: «На нем рваная хламида черного цвета, разорванная на груди». То есть если бы хламида не была дополнительно рваной, разорванность на груди рваной бы ее не делала? Написать «черная хламида, разорванная на груди», не прибегая ни к плеоназму, ни к канцеляриту — недостаточно художественно?
«Пляшет тяжелый железный крест на цепи, отскакивает от ребер, замахивается и лупит по ним снова — шаг за шагом». Как может замахиваться предмет с нулевой внутренней энергией, пассивно висящий на цепи? И так обстоит едва ли не с каждой попыткой писателя сделать текст литературнее, художественнее. Красивости перемежаются страшилками, страшилки сленгом, сленг — обсценной лексикой… В результате произведение похоже на блюдо, составленное из шоколадного торта, вареного огурца и квашеной селедки — несочетаемое с несъедобным.
Есть и другие авторы того же типа с теми же приемами и проблемами — имя им легион.
Артемий Леонтьев своей дилогией «Варшава, Элохим!» — «Москва, Адонай!» восхитил даже ко всему привычных «своих»: «Исходившая от оккупантов незримая хмарь поражала своей цепкостью: черной тучей хомутала людские головы, эпидемией пеленала все живое, срывала с цивилизации ее покровы, зевала во всю пасть, обнажая первобытные, исконно-звериные клыки, прописанные в каждом члене потеющего, алчущего тела коды, языческие алгоритмы». Автор! Делая публике красиво, в первую очередь донеси до нее, кто на ком стоял и что на чем прописал.
Заодно проследи, чтобы приемы устрашения не вздумали кочевать туда-сюда, из Варшавы в Москву, от Элохима к Адонаю, от нацистов к ментам: «Иван вытащил нож, посмотрел на рукоять — с него стекала сперма пополам с кровью»; «изнасиловал и, раздвинув ноги, затолкал во влагалище рукоять ножа — в следующий раз пообещал вставить лезвие… Связанная веревкой, сидела на полу у батареи, по лицу стекала сперма».
«Свои клыки вонзая в члены
Он не упустит никого,
И семя, смешанное с кровью,
Точится из груди его», — смеялись коллеги-писатели над «суровым молодым человеком», усердно пугающим читателя исторической атмосферой, извлеченной из Википедии и сдобренной трэшем в стиле доброго старого кино «садиконациста».
Очень любит автор нового века пугать читателя — то ужасным прошлым, то еще более ужасным будущим. «Он пугает, а мне не страшно».
Зато страшат, страшат современные красоты слога. Особенно в перспективе развития русской речи под эгидой триады «невежество-косноязычие-безответная любовь к прекрасному». Не верится отчего-то, что впереди у нас век золотой и новый виток роста после культурного кризиса.
Художник: В. Швайба.