–í–į–ī–ł–ľ –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤: ¬ę–Ě–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ—É—ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–ļ, –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć, —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–Ķ¬Ľ
–í–į–ī–ł–ľ –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤: ¬ę–Ě–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ—É—ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–ļ, –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć, —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–Ķ¬Ľ
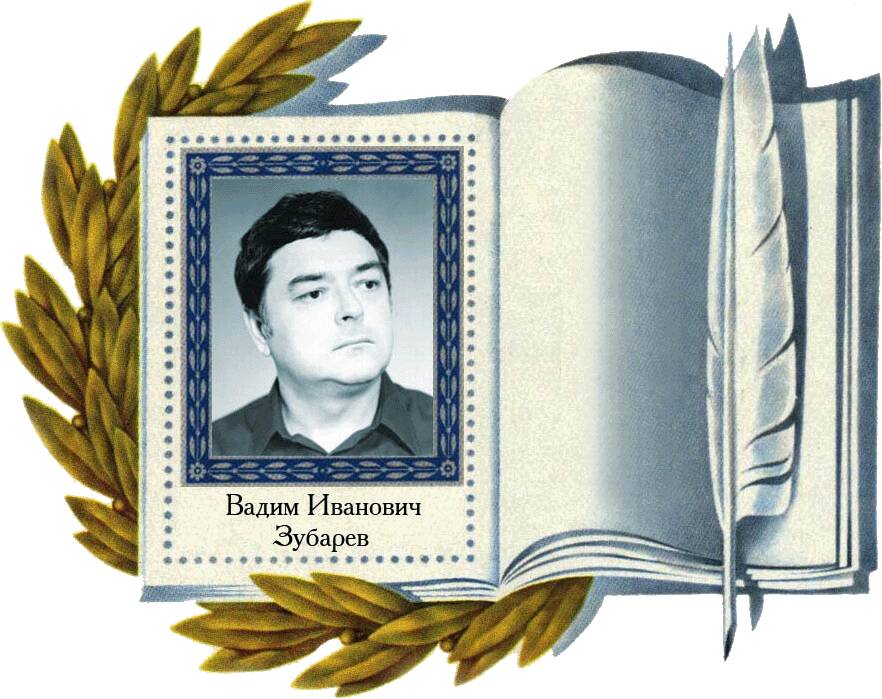
–ö 25-–Ľ–Ķ—ā–ł—é —Ā–ĺ –ī–Ĺ—Ź –≥–ł–Ī–Ķ–Ľ–ł —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–į –í–į–ī–ł–ľ–į –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤–į (1933-1996)
–Ď—č—Ā—ā—Ä–ĺ—ā–Ķ—á–Ŗ嬆 –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź, –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ķ—ą—Ć, –ļ–į–ļ –Ľ–Ķ—ā—Ź—ā –ī–Ĺ–ł, –∑–į–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ–≤—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ—č–ľ–ł –∑–į–Ī–ĺ—ā–į–ľ–ł, –ī–ĺ–ľ–į—ą–Ĺ–ł–ľ–ł —Ö–Ľ–ĺ–Ņ–ĺ—ā–į–ľ–ł. –ė –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ —á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź —á—É–ī–ĺ ‚Äď —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –Ņ–į—á–ļ–ł –Ņ–ł—Ā–Ķ–ľ –≤–ī—Ä—É–≥ –Ĺ–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ą—Ć –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ–ļ, –į–ļ–ļ—É—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤ –ĺ–ī–ł–Ĺ –Ņ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ—č–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ–≤–Ķ—Ä—ā, –ļ–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ —Ā–Ņ—Ä—Ź—ā–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ–ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ –ĺ—ā –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ, –Ĺ–Ķ –ī–į–Ļ –Ď–ĺ–≥, –Ņ–ĺ—Ä–≤—É—ā. –≠—ā–ĺ –≤–Ķ—Ā—ā–ĺ—á–ļ–ł –ĺ—ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–ĺ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–į –í–į–ī–ł–ľ–į –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤–į, –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į —Ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ –ĺ—Ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ–į, —Ā–ļ—Ä–į—Ā–ł–Ľ–į –≤—Ā—é –ľ–ĺ—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –ł –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤ –ľ–ĺ–Ķ–Ļ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł –Ĺ–į–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į.¬†
***
–í –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł—Ö —á–ł—Ā–Ľ–į—Ö –ī–Ķ–ļ–į–Ī—Ä—Ź 1987 –≥. –≤ –ź—ą—Ö–į–Ī–į–ī–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ —Ä–Ķ—Ā–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—č—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –ł –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–≤, –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ–ł –ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ź. –°–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –≤ –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–ľ —É—é—ā–Ĺ–ĺ–ľ –∑–ī–į–Ĺ–ł–ł —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–į ¬ę–ź—ą—Ö–į–Ī–į–ī¬Ľ.¬†
–Ď—č–Ľ —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ—č–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć, –ł –≤—Ā—Ď –≤–ĺ–ļ—Ä—É–≥ –ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ–ł—á–Ĺ—č–ľ –ł –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ĺ–Ī–Ķ—Č–į—é—Č–ł–ľ. –ö–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā–į, –≥–ī–Ķ —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–Ľ–ł –Ĺ–į—Ā, –Ņ–ł—ą—É—Č–ł—Ö –Ĺ–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ, –Ī—č–Ľ–į –∑–į–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–į –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī—č–ľ–ł –Ľ—é–ī—Ć–ľ–ł, –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–∂–ł–≤–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ, —ą—É–ľ–Ĺ–ĺ, –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –≥—Ä–ĺ–ľ–ļ–ĺ –Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ —Ā —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī—Ź–ľ–ł, –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł—ą—Ď–Ľ —Ā –≥–ł—ā–į—Ä–ĺ–Ļ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ī–ł—Ä–į—Ź —Ā—ā—Ä—É–Ĺ—č, —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ĺ–į–Ņ–Ķ–≤–į–Ľ, —Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ—Ā—Ź —Ā–ľ–Ķ—Ö.¬†
–°—Ä–Ķ–ī–ł —ć—ā–ĺ–Ļ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–Ļ —ā–ĺ–Ľ–Ņ—č –ľ–Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ—É—é—ā–Ĺ–ĺ, –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ–ļ–ĺ. ¬ę–ė –∑–į—á–Ķ–ľ —Ź –∑–ī–Ķ—Ā—Ć?¬Ľ ‚Äď –≥—Ä—É—Ā—ā–Ĺ–ĺ –ī—É–ľ–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ľ–Ĺ–Ķ.¬†
–Ě–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ–į —ā–ł—ą–ł–Ĺ–į. –í–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –≤—Ā–Ķ—Ö –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ–ĺ –ļ –≤–ĺ—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–ľ—É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ—É –≤ —á—Ď—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–ī–ĺ–Ľ–į–∑–ļ–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ ‚Äď –í–į–ī–ł–ľ –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤. –ě–∂–ł–ī–į–Ľ–ł, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –Ĺ–į—á–Ĺ—Ď—ā —Ā –ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć –≤—Ā—ā—É–Ņ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į –ĺ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā, –ī–į–∂–Ķ —Ā—Ä–į–∑—É –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—É–Ņ–ł—ā –ļ —á—ā–Ķ–Ĺ–ł—é –ł –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑—É –Ĺ–į—ą–ł—Ö —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤, –Ĺ–ĺ –ľ—č –ĺ—ą–ł–Ī–Ľ–ł—Ā—Ć. –Ē–Ľ—Ź –ĺ–∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł —Ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä–į –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ –ī–į—ā—Ć –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ—á—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–≤–ĺ–ł –ľ–į—ą–ł–Ĺ–ĺ–Ņ–ł—Ā–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā—č, —á—ā–ĺ, –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ā—Ź, –≤—č–∑–≤–į–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ.

–í–į–ī–ł–ľ –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤. 1980-–Ķ
–í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á, –ļ–į–ļ —Ź —Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ–į, —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –∑–į–ļ—Ä—č—ā—č–Ļ, –∑–į–ľ–ļ–Ĺ—É—ā—č–Ļ –ł —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ –ł–ī–Ķ—ā –Ĺ–į —Ā–Ī–Ľ–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –Ě–ĺ –Ĺ–į —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–ł–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć –ĺ–Ĺ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –∂–Ķ–Ľ–į–Ķ—ā –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ī–Ľ—Ź –Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī—č —Ā–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ.
–í –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć –ľ—č –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ö–į—Ä–Ľ–į –ú–į—Ä–ļ—Ā–į. –Į —ą–Ľ–į, –ļ–į–ļ –Ĺ–į —ć–ļ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ, –ł –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ī—č–Ľ–į –≤–∑–≤–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–į, —á—ā–ĺ –ļ—Ä–ĺ–≤—Ć –≥—É–Ľ–ļ–ĺ —Ā—ā—É—á–į–Ľ–į –≤ —É—ą–į—Ö, –ľ–Ķ—ą–į—Ź —Ā–ĺ—Ā—Ä–Ķ–ī–ĺ—ā–ĺ—á–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ł —Ä–į—Ā—Ā–Ľ—č—ą–į—ā—Ć —Ā–Ľ–ĺ–≤–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ī–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ –ł–∑–ī–į–Ľ–Ķ–ļ–į. –í—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ –ļ–į–ļ–į—Ź-—ā–ĺ –Ņ–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–į —Ā–ĺ—ą–Ľ–į —Ā –≥–Ľ–į–∑, –ł —Ź —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ–į –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ—ā–Ľ–ł–≤–ĺ–Ķ, —É–ľ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ľ–ł—Ü–ĺ –ł –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī –Ņ–ĺ—ć—ā–į –ł —É—Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ–į –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ź—ā–Ĺ—č–Ļ –ľ—Ź–≥–ļ–ł–Ļ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā: –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–į –Ľ–ł —Ź —Ā —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –ú–į—Ä–≥–į—Ä–ł—ā—č –ź–Ľ–ł–≥–Ķ—Ä? –ü—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ľ –Ķ–Ķ —Ā—ā–ł—Ö–ł, –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č—Ď–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –§–į–ī–Ķ–Ķ–≤—É. –ü–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą—Ď–Ľ –ļ –ľ–ĺ–ł–ľ —Ā—ā–ł—Ö–į–ľ. –ü—Ä–ł—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤–≥–Ľ—Ź–ī—č–≤–į—Ź—Ā—Ć –≤ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā, —á–ł—ā–į–Ľ —Ā –Ĺ–Ķ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, —Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–ĺ –ĺ—ā –Ī–Ľ–ł–∑–ļ–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į. –ě–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ķ–≥–į–Ľ –≥–Ľ–į–∑–į–ľ–ł, –≤–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤—á–ł—ā—č–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ļ–į–∂–ī–ĺ–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ, –≤—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ—Ā—Ź, —Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–Ĺ—É—ā—Ć –≤ —Ā–į–ľ—É—é —Ā—É—ā—Ć, –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, —á–Ķ–ľ –ĺ–Ĺ–ĺ –≤—č–∑–≤–į–Ĺ–ĺ.¬†
–ú–Ķ–Ĺ—Ź —É–ī–ł–≤–ł–Ľ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī –Ņ–ĺ—ć—ā–į (¬ę–Ĺ–Ķ–∑–į–ľ—É—ā–Ĺ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–ļ –≤–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–Ķ —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź¬Ľ ‚Äď –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ł –Ĺ–į –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ–ł), —Ā–ļ–į–∂–Ķ—ā —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ł –≤–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł—ā –∑–į —ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ä–Ķ–į–ļ—Ü–ł–Ķ–Ļ. –°–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, –Ņ—Ä–ĺ—Č—É–Ņ–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ —ā—č –∑–į —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ, —á—É–≤—Ā—ā–≤—É–Ķ—ą—Ć –Ľ–ł —ā—č —ā–ĺ –∂–Ķ, —á—ā–ĺ –ł –ĺ–Ĺ.¬†
–£–ī–ł–≤–Ľ—Ź–Ľ—Ā—Ź: ¬ę–ě—ā–ļ—É–ī–į –≤ –≤–į—Ā, –≤ —ā—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ļ–Ķ, —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ź–∑—č–ļ–į, –ī–į–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ, –į —á—É—ā—Ć–Ķ —Ź–∑—č–ļ–į. –í—č —á—É–≤—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā–Ķ —Ź–∑—č–ļ –Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī—Ā–ĺ–∑–Ĺ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —É—Ä–ĺ–≤–Ĺ–Ķ, —ā–į–ļ –ł –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ –ľ–ĺ–≥—É—ā¬Ľ.
–°–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ, –ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ–ī–į —Ź —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –í—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ľ —ć—ā–ĺ—ā –≥–ĺ–ī –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ł —á–Ķ–ľ –ĺ–Ĺ –Ķ–ľ—É –∑–į–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ—Ā—Ź. –°–ĺ–≤–Ķ—ā–ĺ–≤–į–Ľ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć –Ĺ–į–ī —Ä–ł—Ą–ľ–ĺ–Ļ, —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ä–ĺ–ľ, –Ĺ–į–ī —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ–ĺ–Ļ —Ā—ā–ł—Ö–į.¬†
–Į –∑–į–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ–į –Ķ–≥–ĺ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź: ¬ę–í—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į—é—ā—Ā—Ź –Ĺ–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≤–Ķ—Č–ł, –ļ–į–ļ —É –•–Ľ–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–į. –í—č —á–ł—ā–į–Ľ–ł –•–Ľ–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–į? (–•–Ľ–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–į —Ź —ā–ĺ–≥–ī–į –Ķ—Č—Ď –Ĺ–Ķ —á–ł—ā–į–Ľ–į, –Ķ–≥–ĺ –ļ–Ĺ–ł–≥—É ¬ę–Ę–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ —Ź –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Ä–Ķ–Ľ–į –Ľ–Ķ—ā–ĺ–ľ, –≤ –ł—é–Ľ–Ķ 1988 –≥–ĺ–ī–į ‚Äď –ď.–Ě.) –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –Ĺ–į–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ķ—ā –ó–į–Ī–ĺ–Ľ–ĺ—Ü–ļ–ĺ–≥–ĺ. –ď–į—Ä–ľ–ĺ–Ĺ–ł—Ź —á—É–≤—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā—Ā—Ź¬Ľ.¬†
–ē–ľ—É –Ņ–ĺ–Ĺ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ–ł: ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ–∑—Ď—ā –ľ—É—Ä–į—ą, –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é—Č–ł–Ļ –ł–≥—ė謼, ¬ę–ľ–ł–Ľ—č–Ķ –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–ł—ܗ謼 (–ĺ –ī–ĺ—á–Ķ—Ä—Ź—Ö), ¬ę–Ĺ–ĺ –≤–ĺ—ā —ā–Ķ–Ī–Ķ –ľ–ĺ—Ź —Ä—É–ļ–į, –ľ–ĺ—Ź –Ņ—Ä—Ź–ľ–į—Ź —Ä–Ķ—á—ƬĽ, ¬ę–≥—Ä—É—Ā—ā—Ź—ā –ĺ —á—Ď–ľ-—ā–ĺ –Ľ–ĺ–∑—č –≤–ł–Ĺ–ĺ–≥—Ä–į–ī–į, –Ĺ–į–ľ–ĺ—Ä—Č–ł–≤ —Ā–≤–ĺ—é –Ĺ–Ķ–∂–Ĺ—É—é –ļ–ĺ—ėɬĽ (—Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ ¬ę–Ĺ–Ķ–∂–ŗɗ鬼 –Ĺ–į–ī–ĺ –∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć ‚Äď –ď.–Ě.), ¬ę –ł —ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā–Ľ—É—ą–į—ā—Ć –ī—č—Ö–į–Ĺ—Ć–Ķ —Ā–Ņ—Ź—Č–ł—Ö –Ľ–ł—Ā—ā—Ć–Ķ–≤ –∑–į —ā—Ď–ľ–Ĺ—č–ľ –ĺ–ļ–Ĺ–ĺ–ľ¬Ľ, ¬ę–Ľ–ł–ļ—É–Ķ—ā –Ľ–Ķ—ā–Ĺ—Ź—Ź –Ľ–ł—Ā—ā–≤–į –≤ –Ņ—Ä–Ķ–ī–ĺ—Č—É—Č–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ –≥—Ä–ĺ–∑–ĺ–≤–ĺ–ľ, –ļ–į–ļ–ł–ľ–ł —É–∑–į–ľ–ł —Ä–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į —Ā—ā–ł—Ö–ł—Ź —Ā–≤—Ź–∑–į–Ĺ–į —Ā –Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ¬Ľ. –ó–į–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ä–į—Ā—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ —Ā–≤—Ź–∑–ł –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–ľ–ł—Ä–į —Ā –ľ–į–ļ—Ä–ĺ–ľ–ł—Ä–ĺ–ľ. –ě—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ –≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ ¬ę–ļ –≤–Ķ—Ä—ą–ł–Ĺ–į–ľ –Ĺ–Ķ—Ā—ā–į—Ä–Ķ—é—Č–ł—Ö –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ć–Ķ–≤¬Ľ, ¬ę—Ä—É—á–Ķ–Ļ ‚Äď –Ĺ–Ķ–≤–Ķ–∑—É—á–ł–Ļ ‚Äď —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ¬Ľ, —Ā–Ľ–ĺ–≤–į, —á—ā–ĺ ¬ę–ļ–ĺ–Ľ—č—ą—É—ā—Ā—Ź, –ļ–į–ļ —ā—Ä–į–≤—謼.¬†
–í—Ā—Ď —ć—ā–ĺ —Ź –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ –∑–į–Ĺ–Ķ—Ā—É –≤ –ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ł–ļ, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ: ¬ę–ē–ľ—É –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ —É–∑–Ĺ–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤ –ī—É—ą–Ķ. –•–ĺ—á–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī—č—ā—Ć –Ľ—É—á—ą–Ķ, –Ĺ–Ķ–∂–Ĺ–Ķ–Ļ –ł –Ĺ–Ķ –ĺ–Ī–ľ–į–Ĺ—É—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–ł—Ź!¬Ľ¬†
***
–ě—ā —ć—ā–ĺ–Ļ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–ł –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į –ī—É—ą–Ķ —Ā–≤–Ķ—ā–Ľ—č–Ļ —Ā–Ľ–Ķ–ī, –ĺ—Č—É—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ľ—ą–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–Ķ–≥–ĺ.
–ü–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ā—Ź, –≤—č–Ļ–ī—Ź –ł–∑ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–ł, —Ź –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–į –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, –≤ –ļ–į–ļ—É—é —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—É –ł–ī—ā–ł. –ö—Ä—É–∂–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į, –Ī—č–Ľ–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ —á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ, —Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ —Ź –≤ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ–∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ. –ü—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –ĺ—Ä–ł–Ķ–Ĺ—ā–į—Ü–ł—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —á–į—Ā—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–į, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –ī–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–ł, —á—ā–ĺ–Ī—č —Ź —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ä–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ–į—Ā—Ć, –ī–į –Ķ—Č—Ď –≤ –ź—ą—Ö–į–Ī–į–ī–Ķ, –≥–ī–Ķ –Ņ—Ź—ā—Ć –Ľ–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ—É—á–ł–Ľ–į—Ā—Ć.¬†
¬ę–≠—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ –∂–Ķ, –ļ–į–ļ –Ĺ–į —ā–Ķ–Ī—Ź –Ņ–ĺ–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–į –į—ā–ľ–ĺ—Ā—Ą–Ķ—Ä–į –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–Ķ–Ļ¬Ľ, ‚Äď –Ņ–ĺ—Ā–ľ–Ķ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć —Ź –Ĺ–į–ī —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ł —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ–į –ł–ī—ā–ł –Ĺ–į—É–≥–į–ī, –ł –≤—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā –≥–ĺ—Ā—ā–ł–Ĺ–ł—Ü–Ķ–Ļ ¬ę–ě–ļ—ā—Ź–Ī—ėƬĽ, –ļ—É–ī–į –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ł–Ľ–ł –≤ –ī–Ĺ–ł —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č —Ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä–į.¬†
***
–í—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į —Ā –í–į–ī–ł–ľ–ĺ–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–Ķ–ľ –≤–∑–Ī—É–ī–ĺ—Ä–į–∂–ł–Ľ–į, –≤–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ–ł–Ľ–į –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–∑–į—É—Ä—Ź–ī–Ĺ–į—Ź –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć. –° –≤–ł–ī—É —Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ—č–Ļ, –Ĺ–ĺ —á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—Ź—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ĺ–ł –Ĺ–į –ľ–ł–≥ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Č–į–Ķ—ā—Ā—Ź. –Ě–Ķ–Ņ–ĺ–ī–į–≤–Ľ—Ź–Ķ–ľ–į—Ź –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—Ź—Ź —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–į, —Ā–ł–Ľ–į –≤–ĺ–Ľ–ł –ĺ—ā—Ä–į–∂–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į —É–ľ–Ĺ–ĺ–ľ, –ł–Ĺ—ā–Ķ–Ľ–Ľ–ł–≥–Ķ–Ĺ—ā–Ĺ–ĺ–ľ –Ľ–ł—Ü–Ķ.
–ē–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā –Ī—č–Ľ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—č–ľ. –Ě–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł —Ā–į–ľ–ĺ–Ī—č—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –ī–į—Ä–į, –Ķ–≥–ĺ —Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ķ —É–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–ľ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —É–Ī–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ –ł –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ–į–ľ. –í—Ā—Ď –≤ –Ķ–≥–ĺ —É–ī–ł–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ ‚Äď —Ā–Ľ–ĺ–≤–į, –ľ—č—Ā–Ľ–ł, –ł —á—É–≤—Ā—ā–≤–į –Ī—č–Ľ–ł –ł—Ā–ļ–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł, —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–ľ–ł –ł –≤—č—Ä–į–∂–į–Ľ–ł —Ā–į–ľ—É —Ā—É—ā—Ć –≤–Ķ—Č–Ķ–Ļ. –ē—Ā–Ľ–ł –Ī—č –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —ā–ĺ–≥–ī–į —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł, –Ĺ–į –ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂, —Ź –Ĺ–Ķ –∑–į–ī—É–ľ—č–≤–į—Ź—Ā—Ć –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ–į –Ī—č ‚Äď –Ĺ–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą—É—é –≥–ĺ—Ä—É. –ě–Ĺ –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ķ–Ĺ –ł –≤–ĺ–∑–≤—č—ą–Ķ–Ĺ, –ļ–į–ļ –≥–ĺ—Ä–į. –•–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ—Ä–ł–Ņ–į—Ā—ā—Ć –ļ —ć—ā–ĺ–Ļ –≥–ĺ—Ä–Ķ, –ĺ—Č—É—ā–ł—ā—Ć –Ķ—Ď —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī—É, –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä, –Ĺ–į–Ņ–ł—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ķ—Ď —á–ł—Ā—ā—č–ľ –≤–ĺ–∑–ī—É—Ö–ĺ–ľ. –ě—ā –≥–ĺ—Ä—č –≤–Ķ—Ź–Ľ–ĺ —Ā–ł–Ľ–ĺ–Ļ, —É–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, –Ĺ–į–ī–Ķ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é. –ź –í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –ł –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ–ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ķ –Ī–Ľ–ł–∑–ĺ–ļ –ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ķ ‚Äď –≥–ĺ—Ä–į–ľ, —Ä–Ķ–ļ–į–ľ, –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ć—Ź–ľ, –Ņ—ā–ł—Ü–į–ľ, –ĺ–Ī–Ľ–į–ļ–į–ľ. –ě–ī–Ĺ–į–∂–ī—č —ā–į–ļ –ł –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ: ¬ę–ě–Ĺ –ĺ—ā—á–į—Ā—ā–ł –Ľ–Ķ—Ā –ł –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ —Ā–į–ľ¬Ľ.

–í–į–ī–ł–ľ –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤, 1974
–£ –Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–į –ł –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –≤–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć: —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ —ā–Ķ–Ľ–ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –ī—č—ą–į–Ľ–ĺ –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–ł–Ķ–Ļ, –ļ—Ä–į—Ā–ł–≤–ĺ–Ķ –≤–ĺ–Ľ–Ķ–≤–ĺ–Ķ –Ľ–ł—Ü–ĺ, –Ĺ–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –≤—č–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ķ —Ā–≤–Ķ—ā–Ľ—č–Ķ, –ī–ĺ–Ī—Ä—č–Ķ –ł –≤–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –≥–Ľ–į–∑–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –≤—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į—é—ā—Ā—Ź –≤ —ā–Ķ–Ī—Ź, –ļ–į–ļ –Ī—č –Ņ—č—ā–į—Ź—Ā—Ć –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, —á—ā–ĺ —ā—č –ł–∑ —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ą—Ć, –ļ–į–ļ –Ī—č –≤–ł–ī—Ź —ā–ĺ, —á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į—é—ā –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ.¬†
–Ě–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ—É—ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–ļ,
–Ē–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć, —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–Ķ
–ė –≤ —Ä–į—Ā—ā–ĺ—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ
–Ě–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–Ķ—Ā—ā–ł–ľ—č—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–ĺ–ł—Ö.
–ź –≤ —ā–ĺ –∂–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć
–ē—Ď
–° –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ł–ľ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ķ–ľ,
–° –Ņ–ĺ–≤—č—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ–ľ –ļ—Ä–ĺ–≤–ł,
–ú–Ķ–ī–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ, –ļ–į–ļ —Ä–Ķ—á—Ć –ľ–ĺ—Ź.
–Ě–Ķ–∑–į–ľ—É—ā–Ĺ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ĺ—ā –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī—č,
–Ě–Ķ—Ä–į—Ā—ā–Ķ–ļ–į–Ķ–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ –ī—Ä–Ķ–≤—É,
–°–ľ–ł—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ľ—č—Ā–Ľ–ł —Ä—É—Ā–Ľ–ĺ–≤–į—Ź;
–†–į–≤–Ĺ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ĺ—Ä–į–≤–į ‚Äď —ć—ā–ĺ –≤—Ā—Ď.
¬ę–í–ĺ–ī—č –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ—É—ā–ł—ā¬Ľ, ‚Äď —Ź —Ā–Ľ—č—ą–į–Ľ,
–ė —Ā–Ľ—č—ą—É, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ—É—á—É.
–ē–ī–≤–į –Ľ–ł —á–Ķ–ľ
–°–Ķ–Ī—Ź –∑–į–ľ—É—á—É.
–ź –≤ —ā–ĺ –∂–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā–ľ—É—ā–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ—Ź—ā‚Ķ
–ú–Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā—Ć –ł—Ā–Ņ–ĺ–ī–≤–ĺ–Ľ—Ć —Ā–ľ—É—Č–į—é—ā,
–Ē–ĺ –≤–ĺ–∑–ľ—É—Č–Ķ–Ĺ—Ć—Ź –ī–ĺ–≤–ĺ–ī—Ź.
–ė –≤ –∂–į—Ä –Ī—Ä–ĺ—Ā–į–Ķ—ā ‚Äď —Ā–ľ–Ķ—Ä—á —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ,
–ú—Ź—ā—Ď—ā—Ā—Ź –ī—É—Ö
–ú—É—ā–ł—ā—Ā—Ź —É–ľ,
–Ě–ł –ļ–į–Ņ–Ľ–ł —Ā–į–ľ–ĺ–ĺ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—Č–Ķ–Ĺ—Ć—Ź,
–ď–ĺ—Ä—Ź—á–ļ–į —Ā –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ—Ö—ą–ł–ľ —Ä—ā–ĺ–ľ‚Ķ
–Ę–į–ļ ‚Äď –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–≤—ą–ł–Ļ—Ā—Ź –≤ –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ–Ķ
–Ě–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤–ĺ–ī—É ‚Äď –ł–Ľ–ł —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā—Ć.
–Ē–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć, —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–Ķ
–Ě–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ—É—ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–Ķ–ļ.
***
–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä–į —Ź —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ–į –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –í–į–ī–ł–ľ—É –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á—É –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–ĺ. –Ě–Ķ –∑–Ĺ–į—é, –ļ–į–ļ —Ź, –Ņ—Ä–ĺ–≤–ł–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–ł—Ā—ā–ļ–į –ł–∑ –Ę–į—ą–į—É–∑–į, –Ņ–ĺ—Ā–ľ–Ķ–Ľ–į –Ņ—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ī–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –ļ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ, –ĺ—ā–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č–Ĺ—č–ľ, –Ĺ–į–ł–≤–Ĺ—č–ľ –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–ĺ–ľ, –ī–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ļ–ľ—É?!¬†
–ė –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤—Ć—ā–Ķ –ľ–ĺ—Ď —É–ī–ł–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, —ā–ĺ—á–Ĺ–Ķ–Ķ, –ľ–ĺ—é —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć, –ľ–ĺ–Ļ –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–≥, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–į –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ļ—É –ĺ—ā –Ĺ–Ķ–≥–ĺ! –ü–ĺ—á—ā–į, –ī–į –∑–ī—Ä–į–≤—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–ĺ—á—ā–į, –ī–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–≤—ą–į—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—É—é –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ļ—É, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ī—č–Ľ–ł –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—ą—Ć –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤, –Ĺ–ĺ –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ–ł –ĺ—Ā—á–į—Ā—ā–Ľ–ł–≤–ł–Ľ–ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ź!¬†
–£–Ľ—č–Ī–ļ–į –Ĺ–Ķ —Ā—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–į —Ā –ľ–ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ľ–ł—Ü–į. –ė –ľ–ĺ–ł –ī–Ķ–≤–ĺ—á–ļ–ł —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł: ¬ę–°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ–ł–ļ?¬Ľ¬†
***
–ú—č –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ĺ–Ī–ľ–Ķ–Ĺ–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į–ľ–ł, —ā–ĺ—á–Ĺ–Ķ–Ķ, –Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į —Ź, –į –í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –Ņ—Ä–ł—Ā—č–Ľ–į–Ľ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ļ–ł. –í –Ĺ–ł—Ö –ĺ–Ĺ –ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–ĺ –Ņ–ł—Ā–į–Ľ –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –Ī—É–ī–Ķ—ā ¬ę–≤ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł ‚Äď —Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –≤ –£–Ľ—Ć—Ź–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł (–ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–ĺ–≤–ļ–į), –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ ‚Äď –Ĺ–į —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ä—Ź–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ. –Ě–į–ī–ĺ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į—ā—Ć, –Ņ–ĺ—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—ƬĽ.¬†
¬ę–Ē–ĺ–Ľ–≥–ĺ, –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü–į –≥–ĺ—Ā—ā–ł–Ľ —Ź –≤ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł, –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ ‚Äď –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ä—Ź–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ä–ĺ–ī–ł–Ĺ–Ķ. –í–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –ī–ĺ–ľ–ĺ–Ļ –ł –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–Ľ –í–į—ą–ł –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į –ł–∑‚Ķ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–į. –ě—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ä–į–ī –∑–į –í–į—Ā: —ć—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ķ —É–ī–į—á–į. –Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –í—č –Ī—É–ī–Ķ—ā–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–∂–ļ–ĺ –Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–ļ–į, —ā–į–ļ –∂–Ķ –ļ–į–ļ —Ź –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–∂–ļ–ĺ –ľ–ĺ—Ā–ļ–≤–ł—á –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ—Ź—ā–ł –Ľ–Ķ—ā –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł—ā—É—ā–į. –Ė–Ķ–Ľ–į—é –í–į–ľ –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ć—Ź, —Ā—ā–ĺ–Ļ–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ —Ā—É—Ä–ĺ–≤—č–ľ –∑–ł–ľ–į–ľ –Ĺ–Ķ–≤—Ā–ļ–ł—Ö –Ī–Ķ—Ä–Ķ–≥–ĺ–≤. –ė –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ŗ嬼.¬†
–Ě–ł –Ĺ–į –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ļ–Ķ –Ĺ–Ķ—ā –ī–į—ā—č, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ī —ć—ā–ĺ–Ļ –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź -10.–•.88
¬ę–õ–Ķ–≥–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ –∂–ł–≤—Ď—ā—Ā—Ź –ł –Ĺ–Ķ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā—Ā—Ź, –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–į—Ź –ď–ĺ–∑–Ķ–Ľ—Ć. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, —ā–į–ļ –ł –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć. –ü–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į–Ķ–ľ –ī—Ä—É–≥ –ī—Ä—É–≥—É, —á—ā–ĺ–Ī—č —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–Ľ—Ď–≥–ļ–ĺ–Ķ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ –Ĺ–Ķ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ¬Ľ, ‚Äď –Ņ–ł—Ā–į–Ľ –ĺ–Ĺ –ľ–Ĺ–Ķ.¬†
–ē–≥–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į –≤–ĺ–ĺ–ī—É—ą–Ķ–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł, –Ņ—Ä–ł–ī–į–≤–į–Ľ–ł —Ā–ł–Ľ—č, –ĺ–ļ—Ä—č–Ľ—Ź–Ľ–ł.¬†
–í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä–ł–Ľ –∑–į –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į, –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź;¬†
¬ę–ź –ļ–į–ļ –∂–ł–≤—É—ā –Ĺ–į —Ā–≤–Ķ—ā–Ķ –ľ–ł–Ľ—č–Ķ –í–į—ą–ł –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–ł—Ü—č?¬Ľ¬†
–≠—ā–ĺ –ĺ –ī–ĺ—á–Ķ—Ä—Ź—Ö. –í –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –ł–∑ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —Ź –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ–į –ł—Ö –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–ł—Ü–į–ľ–ł, —á—ā–ĺ –Ķ–ľ—É –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ņ–ĺ–Ĺ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć.
–ě–ī–Ĺ–į–∂–ī—č —Ź –≤—č—Ä–į–∑–ł–Ľ–į –≤–ĺ—Ā—Ö–ł—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–Ķ–Ļ, –∂–ł–≤–ĺ–Ņ–ł—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ: ¬ę–í–∑–ī—Ä–ĺ–≥–Ĺ—É–Ľ –≤–ł–Ĺ–ĺ–≥—Ä–į–ī–Ĺ–ł–ļ –Ņ–ĺ–ī –ĺ–ļ–Ĺ–ĺ–ľ, –ü–ĺ—ā—Ź–Ĺ—É–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ—č–Ľ—Ć –∑–į —Ā–ļ–į–ļ—É–Ĺ–ĺ–ľ. –í–Ķ—Ā—Ć —ā—Ź–Ĺ–ł—Ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–į–ļ, –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ā—ā—Ć –ļ—É–ī–į. –Ě–ł –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–Ļ –≤–Ķ—Ā—ā–ł, –Ĺ–ł —Ā–Ľ–Ķ–ī–į. –ď—Ä–ĺ–∑–ī–ł, —ā—Ź–≥–ĺ—ā—Ź—Č–ł–Ķ –Ľ–ĺ–∑—É. –Ę—É—á–į, –ī–ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–ł –ī–ł—ā—Ź ‚Äď –≥—Ä–ĺ–∑—É. /–ü–ĺ–ī –ĺ–ļ–Ĺ–ĺ–ľ –≤–Ņ–ĺ–Ľ–≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–į –Ņ–ĺ—é—ā. –ü–Ķ—Ä–Ķ–≥—Ä–Ķ—ā—č–Ļ –≤–ĺ–∑–ī—É—Ö –ĺ—Ā—č –Ņ—Ć—é—ā‚Ķ¬Ľ
–Ě–į —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ:¬†
¬ę–°–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ, –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–į—Ź –ď–ĺ–∑–Ķ–Ľ—Ć, –∑–į –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–ĺ –ł —Ā—ā–ł—Ö–ł, –∑–į –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –ļ ‚Äú–Ď–Ķ—Ä–Ķ–≥–į–ľ‚ÄĚ –ł –ī–į–∂–Ķ –∑–į –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ—Ä–Ķ—É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –ľ–ĺ–Ļ —Ā—á–Ķ—ā. –ě—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ü–Ķ–Ĺ—é –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ–ī—É—ą–ł–Ķ, –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į—é—Č–Ķ–Ķ—Ā—Ź –≤—Ā—Ď —Ä–Ķ–∂–Ķ. –í–Ķ—Ä—é, —á—ā–ĺ –í—č –ĺ–Ī—Ä–Ķ—á–Ķ–Ĺ—č –∂–ł—ā—Ć —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ ‚Äď –į —ć—ā–ĺ, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ—É—Ā—ā–ĺ, –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ĺ —É–ľ. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –∂–ł—ā—Ć —Ā—ā–ĺ–ł—ā¬Ľ.¬†
–ö–ĺ–≥–ī–į —Ź –Ĺ–į–ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–ī–į–Ľ–į, –ĺ–Ĺ –Ī–Ķ—Ā–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–ł–Ľ—Ā—Ź –ĺ –ľ–ĺ–Ķ–ľ –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ć–Ķ –ł –Ņ—Ä–Ķ–ī—É–Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–į–Ľ: ¬ę–ö–į–ļ –í—č —á—É–≤—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā–Ķ —Ā–Ķ–Ī—Ź –≤ –∑–ł–ľ–Ĺ–Ķ–ľ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–Ķ, –Ĺ–į–ī–ĺ –Ī–Ķ—Ä–Ķ—á—Ć—Ā—Ź¬Ľ.¬†
–ė–Ľ–ł:¬†
¬ę–Ě–į–ī—č—ą–ł—ā–Ķ—Ā—Ć –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–ĺ–ľ –≤–ī–ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć ‚Äď –ł –Ņ—Ä–ĺ—Ü–≤–Ķ—ā–į–Ļ—ā–Ķ –Ĺ–į –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ –ĺ—ā –Ĺ–Ķ–≥–ĺ, –Ĺ–ĺ –Ī–Ľ–ł–∑–ļ–ĺ–Ļ –í–į–ľ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ. –ó–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ć—Ź, —É–ī–į—á –≤–ĺ –≤—Ā—Ď–ľ ‚Äď —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā—É, –ļ–į–ļ –≥–ĺ–≤–į—Ä–ł–≤–į–Ľ–ł –≤—Ā—ā–į—ėƬĽ. –ė –≤ –ī–į–Ľ—Ď–ļ–ĺ–ľ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–≥—Ä–į–ī–Ķ, —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –°–į–Ĺ–ļ—ā-–ü–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ī—É—Ä–≥–Ķ, –ľ–Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ —ā–Ķ–Ņ–Ľ–ĺ –ĺ—ā –Ķ–≥–ĺ –ī—É—ą–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź.¬†
¬ę–Ě–į–ī–ĺ –Ī–Ķ—Ä–Ķ—á—Ć—Ā—Ź‚Ķ¬Ľ.¬†
–ź —Ā–į–ľ –Ĺ–Ķ —É–Ī–Ķ—Ä—Ď–≥—Ā—Ź.
–ė–Ĺ–ĺ–≥–ī–į, –Ņ–ĺ–∑–ī—Ä–į–≤–Ľ—Ź—Ź —Ā –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ, –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ—Ź–Ľ:¬†
¬ę–ē—Ā–Ľ–ł –Ķ—Č—Ď –Ĺ–Ķ —Ä–į—Ā—Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į—ā—Ć –ľ–Ĺ–Ķ —á—ā–ĺ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć –ł–∑ –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö —Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ ‚Äď –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ł—ā–Ķ (–Ĺ–Ķ –ī–Ľ—Ź —Ā—ā—Ä–ĺ–≥–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–∑–Ī–ĺ—Ä–į, –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —ā–į–ļ, –Ņ–ĺ-—ā–ĺ–≤–į—Ä–ł—Č–Ķ—Ā–ļ–ł)¬Ľ.¬†
–ź –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź –Ņ–ĺ—Ā—č–Ľ–į–Ľ–į, –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ľ:¬†
¬ę–ú–Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–į –ł—Ö –Ľ–ł—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —Ā—ā–ł—Ö–ł—Ź, —ć—ā–ĺ –ĺ—ā –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—ā—č –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–Ļ (—É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ķ—Č—Ď —Ā–≤–Ķ–∂–ł –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź)¬Ľ.
–ź —Ź, —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź, —Ä–ĺ–Ī–Ķ–Ľ–į. –ú–ĺ–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł –ľ–Ĺ–Ķ –ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć —ā–į–ļ–ł–ľ–ł –Ĺ–į–ł–≤–Ĺ—č–ľ–ł, –Ĺ–Ķ—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł, –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ–ľ, –ī–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–Ļ –Ľ–Ķ–Ņ–Ķ—ā. –Ě–ĺ –ĺ–Ĺ, –ļ–į–ļ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ, –∑–Ĺ–į–Ľ, —á—ā–ĺ –≤ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –≤–į–∂–Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ļ–į, –į –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ —Ä–Ķ—ą–į–Ķ—ā —Ā—É–ī—Ć–Ī–į. –Ě–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤ –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł. –ě–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ, –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—É—á–į–Ľ, –į –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ī–Ķ–Ľ–ł–ļ–į—ā–Ĺ–ĺ —É–ľ–Ķ–Ľ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł—Ź —ā—Ä–Ķ–Ī—É–Ķ—ā –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į.¬†
–Ď—č–Ľ –ī–į–Ľ—Ď–ļ –ĺ—ā –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ņ–į—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –≤–ł—ā–ł–Ķ–≤–į—ā–ĺ—Ā—ā–ł, –Ņ–į—Ą–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł.¬†
¬ę‚Äú–ě—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ‚ÄĚ —Ā–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ –∑–į —Ā—ā–ł—Ö–ł. –í–ĺ—ā –ł —Ä–į–ī—É—é—Ā—Ć –ł–ľ, –Ĺ–ĺ –ł —Ā –≥—Ä—É—Ā—ā—Ć—é –ī—É–ľ–į—é –ĺ –ļ—Ä–Ķ–Ņ–ļ–ĺ–Ļ –≤ –ļ–į–∂–ī–ĺ–ľ –ł–∑ –Ĺ–į—Ā –Ņ—Ä–ł–≤—č—á–ļ–Ķ –ļ –≤–ł—ā–ł–Ķ–≤–į—ā–ĺ—Ā—ā—Ź–ľ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ā—ā–≤–į. ‚Äú–ú–ĺ—Ź —Ä–Ķ—á—Ć –ł—Ā–ļ–į–∂–Ķ–Ĺ–į –ľ–Ķ—ā–į—Ą–ĺ—Ä–ĺ–Ļ‚ÄĚ ‚Äď –≥–ī–Ķ-—ā–ĺ —É –ö–ĺ–∑–ł–Ĺ–į. –°–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–≤—č–ļ–Ĺ—É—ā—Ć –Ī—č –ĺ—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ā–Ķ—Ä–ī–Ķ—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į. –ü–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į–Ķ–ľ –ī—Ä—É–≥ –ī—Ä—É–≥—É ‚Äď –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–≤—č–ļ–Ĺ—É—ā—ƬĽ.¬†
–ė –≤ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ņ–ł—Ā–ļ–į:¬†
¬ę–ź –∂–ł–≤—É —Ź –Ņ–ĺ-–Ņ—Ä–Ķ–∂–Ĺ–Ķ–ľ—É, –Ņ–ł—ą—É –Ņ–ĺ—ā–ł—Ö–ĺ–Ĺ—Ć–ļ—É. –ö—Ā—ā–į—ā–ł, –Ĺ–į—ą –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā –°–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī—č ‚Äď —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā –ú–į—Ö—ā—É–ľ–ļ—É–Ľ–ł¬Ľ.¬†
–Ď—č–Ľ –ī–į–Ľ—Ď–ļ –ĺ—ā —Ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–į–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –ß—É–≤—Ā—ā–≤—É—Ź –ľ–ĺ—é –ł—Ā–ļ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—á—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –Ī—č–Ľ –ī–ĺ–Ī—Ä –ł –∑–į–Ī–ĺ—ā–Ľ–ł–≤.
***
–í 1990-—Ö –≥–ĺ–ī–į—Ö, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ–į –≤ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł –≥–į–∑–Ķ—ā—č ¬ę–Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ā–ļ—Ä–į¬Ľ (—Ā 1995 –≥–ĺ–ī–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–į –≤ ¬ę–Ě–Ķ–Ļ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā–į–ŬĽ), –í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ —Ā–≤–ĺ–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł.¬†
–ė –Ĺ–Ķ –ļ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä—É, –ļ–į–ļ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ, –į –≤ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č. –Ě–Ķ –∑–į—Ā–ł–∂–ł–≤–į–Ľ—Ā—Ź. –ě–ī–Ĺ–į–∂–ī—č –Ņ–ĺ–ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź, –Ņ–ł—ą—É –Ľ–ł —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —Ā—ā–ł—Ö–ł. –ė –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ķ—Ā—ā—Ć –Ķ—Č—Ď –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā –ļ —ć—ā–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ, –Ĺ–į–ī–ĺ —É—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć –ł–∑ –≥–į–∑–Ķ—ā—č, –ī–į, —ā–į–ļ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–ĺ, –ī–Ķ–Ľ–ł–ļ–į—ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā–ĺ–≤–į–Ľ. –ė –∑–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ņ–ł–Ľ—Ā—Ź.¬†
***
–ě–Ĺ –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ľ–į–Ľ—č–ľ, –∂–ł–Ľ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ, –Ī—č–Ľ –ī–į–Ľ—Ď–ļ –ĺ—ā —Ā—É–Ķ—ā—č –∑–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ. –Ě–ĺ —ć—ā–ĺ—ā —Ā—É–Ķ—ā–Ĺ—č–Ļ –ľ–ł—Ä –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ł–Ľ –Ķ–ľ—É, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –∂–ł–Ľ –≤ –ī—Ä—É–≥–ĺ–ľ, —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ī—Ä—É–≥–ĺ–ľ –ľ–ł—Ä–Ķ, –≥–ī–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–į –ė—Ā—ā–ł–Ĺ–į.¬†
–£—Ā—ā–ĺ–Ļ—á–ł–≤–ĺ —Ā—ā–ĺ—Ź
–≤ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ
–ĺ—ā —ą—É–ľ–ł—Ö
–ł —ą—É—ā–ł—Ö,
–Ĺ–Ķ —Ä–į–∑–ľ–Ķ–Ĺ–ł–≤–į—é—Ā—Ć,
–Ĺ–Ķ —Ā–ľ–Ķ–Ĺ—Ź—é—Ā—Ć.
***
–ö–į–ļ —É—Ö–ĺ–ī—Ź—ā –Ņ–ĺ—ć—ā—č –ł–∑ –∂–ł–∑–Ĺ–ł? ‚Äď –ö–į–ļ –Ņ–ĺ—ć—ā—č. –Ě–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Č–į—Ź—Ā—Ć.¬†
–Ę–į–ļ —É—ą—Ď–Ľ –ł –í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤. –ó–į —Ö–Ľ–Ķ–Ī–ĺ–ľ.¬†
¬ę–Ę–į–ļ –Ĺ–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ –Ī—č–Ľ —É—Ö–ĺ–ī, –≤ —Ä—É–ļ–Ķ ‚Äď —ā–Ķ–Ņ–Ľ–ĺ —Ä—É–ļ–ĺ–Ņ–ĺ–∂–į—ā—Ć—Ź, ‚Äď –Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į —Ź –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ ¬ę–ź —Ā—É–ī—Ć–Ī–ĺ—é –Ĺ–ł —Ā –ļ–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź—é—Ā—ƬĽ, –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤ –≥–į–∑–Ķ—ā–Ķ ¬ę–Ě–Ķ–Ļ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā–į–ŬĽ (22 –ī–Ķ–ļ–į–Ī—Ä—Ź 1996 –≥.), –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł.
‚Ķ–Ę–Ķ–Ņ–Ľ–ĺ –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–į –∂–ł–≤—Ď—ā –≤ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć–∑–ł–ł, –≤ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ł—Ö –ľ–Ĺ–Ķ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ļ–į—Ö, –≤ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł –≤—Ā–Ķ—Ö, –ļ—ā–ĺ –Ľ—é–Ī–ł–Ľ –Ķ–≥–ĺ –ł –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –∑–į–Ī—É–ī–Ķ—ā –Ķ–≥–ĺ, –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–ĺ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ć—ā–į, –∂–ł–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į —ā—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–≤–į–Ľ—Ā—Ź:¬†
¬ę–ź–∑–ł—Ź –Ī–Ľ–ł–∑–ļ–į –ľ–Ĺ–Ķ —ā–Ķ–Ņ–Ľ–ĺ–Ļ —Ā—É—ā—Ć—é –ĺ—á–į–≥–į¬Ľ.¬†
–ü–ĺ—ć–∑–ł—Ź –Ī—č–Ľ–į –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –ī–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –Ķ–≥–ĺ –∂–ł–∑–Ĺ–ł, –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ —Ā–į–ľ–ĺ–ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ–Ĺ –ł –Ī–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ–Ņ—Ä–ĺ–ľ–ł—Ā—Ā–Ķ–Ĺ, –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, –Ņ–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ —Ā–Ķ–Ī–Ķ. –ě–Ĺ, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂ –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–ł —Ā—ā–ł—Ö–ł. –Ę–į–ļ –∂–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ, –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤—Ź–∑—á–ł–≤, –ī–į–Ľ—Ď–ļ –ĺ—ā —Ā—É–Ķ—ā—č. –Ě–Ķ –≤–Ņ–ł—Ā—č–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā—č–Ķ —ā–ĺ–Ļ —ć–Ņ–ĺ—Ö–ĺ–Ļ —Ä–į–ľ–ļ–ł –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ—Ā–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł—Ź. –Ě–ĺ –ł –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–≤–į–Ľ —Ā–≤–ĺ—é –ł–Ĺ–į–ļ–ĺ–≤–ĺ—Ā—ā—Ć, —Ä–į–∑–ī—É–ľ—č–≤–į—Ź –ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ, –ĺ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ–Ķ –∂–ł–∑–Ĺ–ł, —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–į. –ě–Ĺ –Ī—č–Ľ —ā—Ä–į–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ–ļ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ, –ļ—Ā—ā–į—ā–ł, –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ, –ļ–į–ļ –ł –ļ–į–∂–ī—č–Ļ —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤—č–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ.¬†
–Į –Ĺ–Ķ —Ä–ĺ–∂–ī—Ď–Ĺ —Ā—ā–ĺ—Ź—ā—Ć –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ—Ź–ļ–ĺ–ľ,¬†
–∑–Ĺ–į—ā—Ć –ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ ‚Äď –ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–ł –ĺ –ļ–ĺ–ľ,
–Ĺ–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į—á–į
–ł–Ľ—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į—á–į.
–Ě–ĺ –ĺ—ā—á–Ķ–≥–ĺ-—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –ļ–į–ļ –≤—Ā–Ķ–ľ
—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź, –ī—č—ą–ł—ā—Ā—Ź, –∂–ł–≤—Ď—ā—Ā—Ź.
–ß—ā–ĺ –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ī—č —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ł–Ĺ–į—á–Ķ?
–Ē—č—ą–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—č, –∂–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—č –ľ–Ĺ–Ķ –ļ–į–ļ –≤—Ā–Ķ–ľ?
–ü–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–Ī—É–Ķ–ľ, –∑–į —á–Ķ–ľ –∂–Ķ –ī–Ķ–Ľ–ĺ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ!
–ź –∑–į –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ĺ–ľ –Ĺ–į –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā ‚Äď –∑–į—á–Ķ–ľ.

–ė–≤–į–Ĺ –ź–≥–į—Ą–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤ (–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ā–Ľ–Ķ–≤–į) –ł –í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –ó—É–Ī–į—Ä–Ķ–≤ (—ą–Ķ—Ā—ā–ĺ–Ļ —Ā–Ľ–Ķ–≤–į) —Ā —Ä–ĺ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł –Ņ–ĺ –Ľ–ł–Ĺ–ł—Ź–ľ –ü–Ķ–Ľ–ł–ļ–į–Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –ł –ü—Ä–Ķ–ī—ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö. –ē–Ľ–į—ā—Ć–ľ–į, 1963
–ö–į–∂–ī–ĺ–Ķ –Ķ–≥–ĺ —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ ‚Äď —ć—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ –Ľ—é–Ī–≤–ł –ļ –Ľ—é–ī—Ź–ľ, –ļ —Ä—Ź–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ, –≥–ī–Ķ –ĺ–Ĺ —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź, –ļ —Ā—ā–į–≤—ą–Ķ–Ļ —Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ā—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ, –ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ķ, –ļ–į–∂–ī–ĺ–Ķ —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –ļ–į–∂–ī–į—Ź –Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ł–Ļ –ĺ—ā–ļ–Ľ–ł–ļ –≤ –Ķ–≥–ĺ –ī—É—ą–Ķ.¬†
***
–Į –Ĺ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā–į—é –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –ł —É–ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—Ź—é—Ā—Ć –≤ –ł—Ā—ā–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ļ—Ä—č–Ľ–į—ā–ĺ–Ļ —Ą—Ä–į–∑—č, —Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł–≤–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–ľ –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ –ł —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą–ĺ–ľ –•–į–Ľ–ł–Ľ–Ķ–ľ –Ē–∂–Ķ–Ī—Ä–į–Ĺ–ĺ–ľ: ¬ę–í–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ ‚Äď —ć—ā–ĺ —Ä–ĺ–ī –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–ł¬Ľ.¬†
–Ę–į –Ĺ–Ķ–∑–į–Ī—č–≤–į–Ķ–ľ–į—Ź –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į –≤ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–Ķ –ī–Ľ–ł—ā—Ā—Ź –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ľ–Ķ—ā. –ė –≤ –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć –ĺ –Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–ĺ—Ď —Ā—ā–ł—Ö–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ:
–ú—č –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ƭ†
–í –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ—ā–Ķ–ļ–Ķ.
–¶–≤–Ķ–Ľ–ł —Ā–į–ī—č –°–į–Ĺ–ī—č –ö–į—á–ł.
–Ę—É–ľ–į–Ĺ–į–ľ–ł –Ņ–ĺ–ī–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā—č–Ķ –≤–Ķ–ļ–ł
–Ē–į—Ä–ł–Ľ–ł –ľ–Ĺ–Ķ –ĺ—ā —Ā—á–į—Ā—ā–ł—Ź –ļ–Ľ—é—á–ł.
–ė –Ī—č–Ľ –ł—é–Ľ—Ć.
–ė–Ľ–ł —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ć?
–ö–į–ļ–į—Ź —Ä–į–∑–Ĺ–ł—Ü–į.
–ď—Ä–ĺ–∑–į —Ā—ā–ł—Ö–į–Ľ–į.
–ě–Ĺ —Ā–ļ–į–∑–į–Ľ:
¬ę–Ņ–ĺ–≥–ĺ–ī–į –ī—Ä–į–∑–Ĺ–ł—ā—Ā—Ź¬Ľ.¬†
–ú—č –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–ł –ĺ —Ā—ā–ł—Ö–į—Ö.
–ď–Ľ–į–∑–į —Ā–ł—Ź–Ľ–ł.
–í –Ĺ–ł—Ö –ĺ—ā—Ä–į–∂—Ď–Ĺ–Ĺ–į—Ź —Ä–Ķ–ļ–į
–Ě–Ķ—Ā–Ľ–į —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ–Ķ—á–į–Ľ–ł.
–ė —Ä–Ķ–ļ—É –∑–≤–į–Ľ–ł —ā—É
–ě–ļ–į,
–ė —Ä–ł—Ą–ľ–ĺ–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ–į,
–ß—ā–ĺ –∑–į —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –≤–Ľ–Ķ–ļ–Ľ–į.
–Ď—č–Ľ–į –ī–į–Ĺ–į –Ķ–Ļ –Ī–Ķ–∑—É–Ņ—Ä–Ķ—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć.
–ė —Ā–ļ–≤–ĺ–∑—Ć –Ĺ–Ķ—Ď –Ņ—Ä–ĺ–≥–Ľ—Ź–ī—č–≤–į–Ľ–į –≤–Ķ—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć.
–°–≤–Ķ—ā–Ľ–į—Ź –í–į–ľ –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć, –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ–Ļ –í–į–ī–ł–ľ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á!
 
–§–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –ł–∑ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā—č—Ö –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤.



