–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є—Б—В–Є–Ї
–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є—Б—В–Є–Ї

–І–Х–Ы–Ю–Т–Х–Ъ –Т –°–Ю–°–Ґ–Ю–ѓ–Э–Ш–Ш –°–Ы–Ю–Т–Р¬†
–Ю –Ї–љ–Є–≥–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°—В–∞–љ—О—В—Л ¬Ђ–Ы–Є—Ж–Њ –Є –ї–Є–Ї. –Т –Љ–Є—А–µ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї (–Ь–љ., –Є–Ј–і-–≤–Њ –С–У–£).
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї –Т. –°–µ—А–і—О—З–µ–љ–Ї–Њ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞—О—Й–Є–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ –Ы—М–≤–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, —Б—В–Њ–є–Ї–Њ –њ–∞–і–∞–µ—В –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –µ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г: ¬Ђ–°—В—Г–і–µ–љ—В—Л –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Є–ї–Є —Б—В–µ—Б–љ—П—О—В—Б—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л: –љ–µ–љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞, –Є–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ–∞—П —Н—А–Њ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –Ї–Њ—И–∞—З—М–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤–Њ —А—В—Г. –Т —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—В —Г—З–Є—В–µ–ї—П, –Ї–љ–Є–≥–Њ–њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж—Л, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є вАУ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –∞–Ї—В–Є–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –њ—Г—Й–µ –њ—А–µ–Љ–Є–Є –С—Г–Ї–µ—А–∞¬ї. –Ф–∞ –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л, –њ–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–µ –µ—Й–µ –≤—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞–Љ–Є –Є–ї–Є —А–∞—Б—Б—Л–ї–∞–µ–Љ—Л–µ —Д–Њ–љ–і–Њ–Љ –°–Њ—А–Њ—Б–∞ (–љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Е —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –і–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞), –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В: —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ—П—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Є–ї–Є –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—Й–∞—П –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–≤—Г—О —Г—В—А–∞—В–Є–ї–∞ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П. –•–Њ—В—П —Н—В–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –ї–Є—И–µ–љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. ¬Ђ–Ь—Л –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞–µ–Љ –Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ–Љ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–µ –њ—А–Є –≤—Б–µ–є –Є—Е –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –љ–µ–±—А–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є —Д–∞–Ї—В—Л –±–ї–∞–≥–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Є, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є, –µ–µ –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–µ, –љ–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, вАУ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞—О—Й–Є–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є. –Х—Б–ї–Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ—П—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А–і—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г—Е–Љ—Л–ї–Ї–Њ–є –Є—Й–µ—В –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ —Б–Ї–Њ—В–Є–љ—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ, –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ, –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ (—В–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–∞–Ј), —В–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞ –Ј–∞–љ—П—В–∞ –Є–љ—Л–Љ: ¬Ђ–њ—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ –љ–∞–є—В–Є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї (–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є).¬†
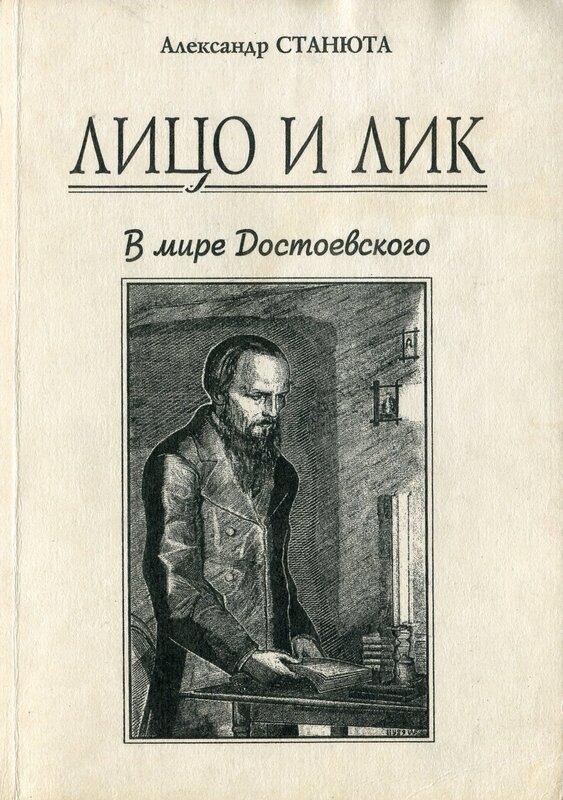
–Ч–∞–љ—П—В–Є–µ —Н—В–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ, –љ–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Б—В–Њ—П—Й–µ–µ —В–µ—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—А–∞—В—П—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —Г–Љ—Л. –£–Љ—Л –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є—Й—Г—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ—Г–і–Њ–±–љ–µ–µ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–µ—Ж–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї –§–µ–і–Њ—А –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј–ї–Њ–Љ –±—Л–ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ—Й—Г—В–Є–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±–µ–Ј–ї–Є—З–љ–∞—П —Б—В–Є—Е–Є—П –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ—Л¬ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б—Е–ї–µ—Б—В–љ—Г–ї–∞—Б—М —Б –≥–Њ—А–і—Л–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ—П¬ї. –°–≤–Њ–µ–≤–Њ–ї–Є–µ –Є –Ї—А–Њ—В–Њ—Б—В—М вАУ —Н—В–Є –њ–Њ–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є –і—Г—И–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ —А–µ–Ј–Њ–љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Г–ї–Њ–≤–Є—В—М –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–є –≥—Г–ї –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї ¬Ђ–ї–Є–±–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Е–Њ—В—П—В –і—А—Г–≥–Є–µ (—В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ), –ї–Є–±–Њ —Е–Њ—З–µ—В —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ (–Ї–Њ–љ—Д–Њ—А–Љ–Є–Ј–Љ)¬ї. –†–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—А–і—Л–Љ ¬Ђ—П¬ї –Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≥–Њ—А–і—Л–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–љ—Л–Љ ¬Ђ–Љ—Л¬ї —Б–≤–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ—Г. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤–Є–і–∞ –Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л–Љ–Є: –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—Б вАУ —Е–Њ—В—М –њ–Њ—В–Њ–њ. –§–Њ—А–Љ–Њ–є —Н—В–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –±—Г–љ—В, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –Є –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Г—А–Њ–≤–љ—П—Е вАУ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ.
–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В –љ–µ–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ вАУ –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –Љ–∞—Б—Б (¬Ђ–≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –≤–∞—А–≤–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї), вАУ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є —Б –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П ¬Ђ–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї –Є –Љ–Є—А –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М. –Ш —В—Г—В —Г–ґ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В—Б—П: –љ–Є –Є–і–µ—П–Љ, –љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞–Љ, –љ–Є –ї–Є—Д—В–∞–Љ, –љ–Є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–Љ –±—Г–і–Ї–∞–Љ.
–Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Є –Ь. –®—В–Є—А–љ–µ—А–∞, –Є –°. –Ъ—М–µ—А–Ї–µ–≥–Њ—А–∞, –Є –§. –Э–Є—Ж—И–µ, —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ—Л—Б–ї–Є. –Т –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ –≤—Б–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є, –≤—Б–µ –Љ–µ—З—В—Л вАУ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –ѓ–≤–ї—П—П—Б—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –±—Г–љ—В—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≤–Њ–ї–Є—П, –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–Љ —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–Љ, —В–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Є–Ј—Г—З–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ. ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ, вАУ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞. вАУ –Р–≤—В–Њ—А—Г вАЬ–С—А–∞—В—М–µ–≤ –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤—Л—ЕвАЭ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–∞–є—В–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –≤—Б–µ—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ¬ї.
–Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ–њ–Њ–ї—О—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–∞—Е –Ї–Њ–љ–≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –±—Л—В–Є—О, –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є—П–Љ, –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞–Љ ¬Ђ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ¬ї –≤ ¬Ђ–љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ–µ¬ї –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є –Є —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–µ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є вАУ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г —Б–Њ —Б—В–Є—Е–Є–µ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –Ы—О–±–Њ–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М, –Ї–∞–Ї –Є –Њ–±—Л—З–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –≤ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ —Б—Г–≥–≥–µ—Б—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ –∞–≤—В–Њ—А–∞. –С—Г–љ–Є–љ –±—Л–ї –њ—А–∞–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —З—В–Њ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б–Њ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Є–њ–љ–Њ–Ј–∞. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞, –≥–Є–њ–љ–Њ—В–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, ¬Ђ–Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В¬ї вАУ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ вАУ –Њ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ, —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і–∞–≤–∞—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –≤–Њ–ї–љ—Г—П –Є –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞—П, –∞–≤—В–Њ—А –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—Г—В–µ–є –Ї –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—О, —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –Т—Л–≥–Њ—В—Б–Ї–Є–є, —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ, ¬Ђ–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–∞—И–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞, –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –љ–∞—И–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Є—Й—Г—Й–µ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ. –Ш–љ–∞—З–µ –Љ—Л —А–Є—Б–Ї—Г–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В, –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–∞—В–∞—А—Б–Є—Б–∞ –љ–∞–љ–µ—Б–µ—В —А–∞–љ—Г¬ї.
–Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ ¬Ђ—А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ¬ї –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ —Г—Й–µ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ—П¬ї –Є–ї–Є –љ–µ–Ї–Є–є —Н—В–љ–Њ—Б, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Є—Е ¬Ђ—П¬ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –њ—А–Є–Ї—А–Њ–µ—В вАУ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г вАУ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г, –Є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–µ —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В—Л вАУ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–µ –ї–∞—Б—В–Њ—З–Ї–Є –Є–Ј —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П. –Р –µ—Б–ї–Є –µ—Й–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї—Г–±—Л —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–µ—В–∞?
–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ–Љ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Э–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В, –µ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞ вАУ —В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –ї—О–і–µ–є –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–і–∞–љ–∞ –Є –њ–Њ–і —Б–Њ—Г—Б–Њ–Љ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–є –Ї—А–∞–є–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞, –Є —Б—В–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –љ–Њ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–∞–µ–Љ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ. ¬Ђ–Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Є–љ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В–Њ—А–µ¬ї –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї: —Н—В–Њ —А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ –Є–Ј –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї–µ–є, —Н—В–∞–Ї–Є–є ¬Ђ–Ь–∞–є–љ –Ї–∞–Љ–њ—Д¬ї. –Я–Њ–Ї–∞ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л —Б —В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –≥–і–µ –≤–Њ–ї—О–љ—В–∞—А–Є–Ј–Љ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї —А–∞–Ј—Г–Љ. –Э–∞—Б –µ—Й–µ –ґ–і–µ—В —В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ, –≥–і–µ —А–∞–Ј—Г–Љ —Б–њ–ї–∞–≤–ї–µ–љ —Б –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–є –µ–Љ—Г –≤–Њ–ї–µ–є. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –ї–Є—И—М –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–µ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є –љ–Є—Й–µ—В—Л –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л–є, –љ–µ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Э–Њ, –њ–µ—А–µ—Д—А–∞–Ј–Є—А—Г—П –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Б—В—М —Е–Њ—В—М –Њ–і–љ–Њ —Г—Й–µ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ—П¬ї, –Љ–Є—А –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –≥–Є–±–µ–ї–Є. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, —П–≤–ї—П—П—Б—М –Љ–µ–і–Є—Г–Љ–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—Б, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –•—А–Є—Б—В–∞, –љ–Њ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В –≤–µ—А—Л –Є —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –љ–µ –Њ–±–µ—Й–∞—О—Й–µ–є –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –і–∞—О—Й–µ–є –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ¬ї.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –±—Л–ї –Љ–µ–љ–µ–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –±—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ы—О—В–µ—А–∞.
–Ґ–∞–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є, –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П –љ–∞ —Н—Б—Е–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –µ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤, —З—М–Є —Д–Є–≥—Г—А—Л, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –Љ–Њ—Й–Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ —Д–∞–љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–і–µ—П –±–Њ–≥–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–∞—П –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1905 –≥–Њ–і–∞. –£–≤—Л, ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Г—Б–≤–∞–Є–≤–∞—В—М —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї –≤–µ—А—Г¬ї, вАУ —Н—В–Њ—В –≤—Л–≤–Њ–і –Р. –У—А–∞–Љ—И–Є –±—Л–ї –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є вАУ —Б–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞—Б—В—М—О –Є –љ–µ—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О, –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–є —В–∞–Ї–Є–Љ –≤–Њ–є–љ–∞–Љ. ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–µ—А–∞, —З—В–Њ —А–∞–є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї, —В–Њ –ї—О–±–∞—П –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М –Ї–Њ–Ј–љ—П–Љ–Є –і—М—П–≤–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї¬ї (–Ф. –§—Г—А–Љ–∞–љ). –Ъ—А–Є–Ј–Є—Б —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ–Є –ґ–µ –њ–Њ–і—Б–њ—Г–і–љ—Л–Љ–Є —Н—Б—Е–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Љ–∞—Б—Б, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—М –ї–Є—И—М –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є: ¬Ђ–Я—Г—Б—В—М —А–∞–є –љ–∞–Љ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –±—Г—А–ґ—Г–Є!¬ї –Ш–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –і–µ—В–Њ–љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1991-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–µ–і—Г—Й—Г—О —А–Њ–ї—М. ¬Ђ–Т–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є—Б–Ї—Г—А—Б–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ–Њ—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–≥–Є–Є. –Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –±—Г—А–љ–Њ–µ —В–Є—А–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є—П –Є —В–Њ–њ–Њ—Б–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л XIX –≤–µ–Ї–∞. –Ю–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ, вАУ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В –ѓ–Љ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є, вАУ —Н—В–Њ—В –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –Є—Б—В–µ–±–ї–Є—И–Љ–µ–љ—В—Г –Є, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, –±—Л–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ –Є–Љ –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є —В–Є–њ–∞¬ї. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–µ–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ј–∞ 70 –ї–µ—В –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—В–µ–Є–Ј–Љ–∞ —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –±—Л–ї–∞ —Б–њ–ї–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є, –≤–Њ—О—О—Й–µ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Л, –љ–Њ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —Б —Б—Г—В—М—О вАУ —Н—В–Њ –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–Њ –±—Л –Є –µ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В. –†–µ–∞–Ї—Ж–Є–µ–є –љ–∞ –Є—Б—В–Њ–≤—Г—О –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–і–µ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —В–µ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є —П–≤–Є–ї—Б—П –њ–Њ—Б—В—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –±—Г–љ—В —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ј–∞, —Г–ґ–µ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ—О –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Л –і–Њ—И–µ–і—И–Є–є –і–Њ —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—А–∞–Ј–Љ–∞.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ–Ј—Л–±–ї–µ–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –†–Њ—Б—Б–Є—П –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Є –≤—В–Њ—А—Г—О –≤–Њ–ї–љ—Г ¬Ђ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Й–Є–љ—Л¬ї, —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є, –њ—Л—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –ї–Є—Е–Њ –њ–µ—А–µ–Ї—А–Њ–Є—В—М –µ–µ –љ–∞ –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ї–∞–і. –®–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–љ–Є–Ї–Є XIX –≤–µ–Ї–∞, –і–µ—В–Є –і—М—П—З–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–њ–Њ–≤, —А–∞–Ј–љ–Њ—З–Є–љ—Ж—Л, –≥—А—Л–Ј—И–Є–µ –љ–∞—Г–Ї—Г –љ–∞ –Љ–µ–і–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є, –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–Њ–є, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–ї–µ—Б–љ—Г–≤—И–µ–є –≤ 1905-–Љ –Є 1917-–Љ. –°—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—Б —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є—В—П–Ј–∞–љ–Є–є: ¬Ђ–ѓ –Ј–љ–∞—О, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О.¬ї –°–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ—Л–ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–ї—Г–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –†–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј—А—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—В, –љ–µ–і–Њ—Г—З–Ї–∞. –Т —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Є—Б–∞–ї —А–Њ–Љ–∞–љ—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј—Г–Љ–∞, –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ –Є–Ј –љ–Є–Ј—И–Є—Е —Б–ї–Њ–µ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–≥–ї–∞–і–Є—В—М –Є—Е –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є—О –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї ¬Ђ–±–Њ–ґ—М–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –і–ї—П –љ–Є—Е –љ–µ—В –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –Т—Б–µ –≥–µ—А–Њ–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –ї–Є—И–љ–Є–µ –ї—О–і–Є, —З–µ–Љ –≥–µ—А–Њ–Є –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤–∞. –Э–∞ –Ї–Њ–љ—Д—А–Њ–љ—В–∞—Ж–Є—О —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї, –µ–Љ—Г —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–ї–Њ –ї—О–±–Њ–є —П–≤–љ—Л–є –±—Г–љ—В. –Ю—В—З–∞—Б—В–Є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї ¬Ђ–∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Л¬ї, ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ—Л¬ї –Є, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, —В–∞–Ї –љ–µ—Г—П–Ј–≤–Є–Љ—Л –і–ї—П —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Л, —Е–Њ—В—П —Е–Њ–і–Є–ї –Њ–љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–∞–µ—И–Ї—Г. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ю–њ—В–Є–љ–∞ –њ—Г—Б—В—Л–љ—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є –љ–∞ –Р–ї–µ—И—Г –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤–∞, –Є –љ–∞ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Ч–Њ—Б–Є–Љ—Г. –Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П —Б —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ-–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ–Є: ¬Ђ–ѓ –і–Є—В—П –≤–µ–Ї–∞, –і–Є—В—П –љ–µ–≤–µ—А–Є—П –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ—М—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А, –Є –і–∞–ґ–µ (—П –Ј–љ–∞—О) –і–Њ –≥—А–Њ–±–Њ–≤–Њ–є –Ї—А—Л—И–Ї–Є¬ї. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Р. –°—В–∞–љ—О—В—Л, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Г –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –Є–і–µ—О –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї¬ї, –љ–µ –ї–Є—И–µ–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Е–Њ—В—П –Є –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П—Е. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В–Є—Е–Є–µ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Г–Љ–∞–ї—П–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞. –Т–µ–і—М —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П –Є –µ—Б—В—М —Д–Њ—А–Љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞. –С—Г–і—М —В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –Є–ї–Є –Я–∞–≤–Ї–∞ –Ъ–Њ—А—З–∞–≥–Є–љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В —Б –Ь. –С–∞—Е—В–Є–љ—Л–Љ, —Б –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–µ–є –њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, ¬Ђ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–є –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –Ї–∞–Ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –љ–µ—Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П¬ї. ¬Ђ–Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –ї—О–±–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–≤—Г—З–Є–Є, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –љ–∞–і –љ–Є–Љ, вАУ –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ —В–Њ–є –Њ–±—Й–µ–є —В–µ–Љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П –љ–µ—Б—Е–Њ–ґ–Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, –Љ–љ–µ–љ–Є–є, –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ¬ї, вАУ –љ–µ –±–µ–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞. –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–µ–Љ–Њ–µ –Є–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ы—Г–љ–∞—З–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–≤ —З–µ–Љ –Њ–љ–Њ (—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ. вАУ –Т. –Ы .) –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є —А–Њ–Љ–∞–љ—Л –њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ—Л –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ вАУ –њ–Њ–љ—П—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ¬ї. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ы—Г–љ–∞—З–∞—А—Б–Ї–Є–є –ї—Г–Ї–∞–≤–Є–ї, –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А—Г—П –С–∞—Е—В–Є–љ–∞ –љ–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і вАУ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –≤ –і—Г—Е–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –С–∞—Е—В–Є–љ –ґ–µ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї, –Ї–∞–Ї —В–≤–Њ—А–µ—Ж –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–≤—Г—З–Є—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, —Е–Њ—В—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є–Є¬ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М —Г –С–∞—Е—В–Є–љ–∞ –і–Њ –Є –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –С–∞—Е—В–Є–љ–∞ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ ¬Ђ—Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–Є—И–∞¬ї. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–∞–Ї –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –Є –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, –і–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –љ–Њ–≤—Л—Е —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Ї, –љ–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—П—П —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –і–∞–≤–љ—О—О –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И—Г—О. –Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є —Н—В–Њ–є –љ–Є—И–Є вАУ ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М¬ї вАУ —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–ї—П –і–≤—Г—Е –Љ–љ–µ–љ–Є–є –≤ ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ¬ї, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –і–ї—П –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї—О—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Б–љ–∞—А—П–і, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б.
–Ю–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ –Ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—О –≤ 70-—Л–µ –≥–Њ–і—Л –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —Н—В–Њ—В, –њ–Њ —В–≤–µ—А–і–Њ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О –≤–ї–∞—Б—В–Є вАУ –Є –љ–∞—И–µ–є, –Є –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є, вАУ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А, –Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–Њ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В. –Ю–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–Њ –Є –њ—А–Є–≤–Є–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Є–Љ–Љ—Г–љ–Є—В–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞: ¬Ђ–Т—Б—П–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Г —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–∞, –і–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Њ –і–Њ—А–Њ—Б–ї–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—МвА¶ –Т—Б—П —Н—В–∞ –Ї—А–Њ–≤—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—А–µ–і—П—В —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л, –≤–µ—Б—М —Н—В–Њ—В –≥–≤–∞–ї—В –Є –≤—Б—П –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–Є –Ї —З–µ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і—Г—В –Є –љ–∞ –Є—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Њ–±—А—Г—И–∞—В—Б—П¬ї.
–Э–Њ –≥–Є–±–љ—Г—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–Є–±–љ—Г—Й–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ–Љ вАУ —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞. –І—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –Њ–љ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ–≥–Њ–љ—М –љ–∞ —Б–µ–±—П, –µ—Б–ї–Є –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є –Љ–Є—А –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ. –Т—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Љ–µ—И–љ—Л –≤–Њ–њ–ї–Є: –Ј–∞ —З—В–Њ –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М!? –Ю–љ–Є –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П —Н—В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—Л–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—П–Љ–Є –Ї –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤—Г —В–Њ–≤–∞—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ–±–µ—Й–∞–ї. –Ы—О–і–Є —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ –Є–≥—А–∞–ї–Є —Б–Њ —Б—В–Є—Е–Є—П–Љ–Є, –∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Є–Ї–љ–Є–Ї–µ —Б —И–∞—И–ї—Л–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ –Њ–љ–Є —В—А–µ–±—Г—О—В –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ—Л—Е —И–∞—И–ї—Л–Ї–Њ–≤, –Ј–∞–±—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л, —З—В–Њ –њ—А–Є –Є–Ј–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Г–ї–Ї–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ–Є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л —Н—В–Є –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –≤ —Г—Б—В–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –Ї–∞—А—П–Ї–Є–љ—Л—Е, –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є—Е –љ–∞ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞—Б—В–≤–Њ—А, –љ–Њ —В–∞–Ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ—П–≤—И–Є—Е –љ–Є –≤ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ, –љ–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ф–µ–Љ–Њ–љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤—Л—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –і–ґ–Є–љ –Є–Ј –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є, –Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ–≤–∞–µ—В –і—Г—И–∞–Љ–Є –≤—Б–µ—Е, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б—Г–њ—А–Њ—В–Є–≤ —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Л –Є –њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –љ–Њ –Ј–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г. –Х—Й–µ –Ґ–∞—Ж–Є—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–°–≤–Њ–±–Њ–і–∞ вАУ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –і–Є–Ї–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–є–љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є¬ї. –Ш —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ—А–љ—Г—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –і–ґ–Є–љ–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П вАУ –∞ —В–∞–Ї—Г—О —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—О –Њ–љ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –µ—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, вАУ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞–±—Л–≤–∞–ї–Є –Њ ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ф–∞, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А вАУ –љ–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В—М –њ–µ—А–µ–њ—Г–≥–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є —Б—В—А–∞—Е. –Ф–∞, ¬Ђ—Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Є–Ї¬ї, –љ–µ–Є–Ј–±—Л–≤–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л–є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞—Б—В–Є –≤ –µ–≥–Њ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї–∞—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є—В–љ–Њ—Б—В—М —Г–Љ–∞, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї—П—А–Є–Ј—Г—О—Й–µ–≥–Њ –ї—О–±—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–≥–Њ –µ–µ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ, –њ–Њ–ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ вАУ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М: –Є–ї–Є –Њ—В–µ—Ж, –Є–ї–Є –Ь–Є—В—П, –Є–ї–Є –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –°–Љ–µ—А–і—П–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤ –њ—А–Є–і–∞—З—Г. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–∞ –і–Є–љ–∞–Љ–Є—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–ї–∞–і–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–Ї–Њ–≤-—И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤.
–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б—П–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї, –і–∞–µ—В –њ–Њ–≤–Њ–і –і–ї—П –ї—О–±—Л—Е —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Ї: –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ–±—Л —З–Є—В–∞–ї–Є. –Ґ–∞–Ї –Ї—В–Њ –ґ–µ –Њ–љ вАУ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ—А, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –±–µ—Б–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–љ–Њ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–Є–µ? –Ш–ї–Є —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є –Є —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є —И–Є—А–Њ—В—Л, —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є –≤—Б–µ–≥–Њ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–µ—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–µ–±—П? –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Њ–љ –љ–µ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і—М—П, –љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Љ–Є—А–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—О—Й–Є—Е —Б–Є–ї. –°–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—И—М—Б—П —Б–Њ –Р. –°—В–∞–љ—О—В–Њ–є, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–± –Р–ї–µ—И–µ –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А—Г: ¬Ђ–І—В–Њ-—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –љ–µ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –Є –≤–љ—Г—И–∞–ї–Њ (–і–∞ –Є –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—В–Њ–Љ), —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В –±—Л—В—М —Б—Г–і—М–µ–є –ї—О–і–µ–є, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—В –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–µ –Њ—Б—Г–і–Є—В, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –і–∞–ґ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Б–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї, –љ–Є–Љ–∞–ї–Њ –љ–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—П, —Е–Њ—В—П —З–∞—Б—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –≥—А—Г—Б—В—П¬ї. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–∞ –≥—А—Г—Б—В—М (—В–Њ –µ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, —Б–≤–Њ—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞) –Є –µ—Б—В—М —В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ—В –≤ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ –Љ–µ–ї–Њ–і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞—Б—В–Є –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л—Е –Љ–љ–µ–љ–Є–є, –≤–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Ї —А–∞–Ј—Г–Љ—Г, —Н—В–∞ –њ–µ—З–∞–ї—М –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ, вАУ —В–Њ –µ—Б—В—М —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ, вАУ –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–≤–∞ —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –Ї–∞–Љ–љ–Є, –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –Љ–Є—А –µ–≥–Њ –∞—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–Є–Ј–Є–є. –Ґ–Њ –ґ–µ —Г –Т–∞–≥–љ–µ—А–∞, –Э–Є—Ж—И–µ вАУ –≤–Њ–њ–ї—М —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –ї–µ–њ–µ—И–Ї—Г –Њ —В–≤–µ—А–і—Л–љ–Є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П.
–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –Ї–∞–Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В, –љ–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –•—А–Є—Б—В–∞, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Н—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –≥–ї–∞–≤–Њ–Ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –§–Њ–ї–Ї–љ–µ—А–∞ –Ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–±–ї—П—Б—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞. –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –§–Њ–ї–Ї–љ–µ—А–∞, —З—В–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–µ –Є–Ј–≤–љ–µ. –Ш –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В: ¬Ђ–Х–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–∞—П —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Н—В–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е —Б –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–∞¬ї. –•–Њ—В—П –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ –љ–∞—И—Г–Љ–µ–≤—И–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Ґ. –Ъ–∞—Б–∞—В–Ї–Є–љ–Њ–є ¬Ђ–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї, –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –∞–≤—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–С—А–∞—В—М–µ–≤ –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е¬ї ¬Ђ–Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ¬ї –Њ–љ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –њ–Њ—З–≤–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–µ —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–µ–љ –Њ–і–Є–љ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Є –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і: —Н—В–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Ш –Ї—А–Є–Ј–Є—Б —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л, –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞.
–†–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –≠. –§—А–Њ–Љ–Љ–∞, –љ–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–µ—А–Њ–є –≤ –±–Њ–≥–∞ –Є –∞—В–µ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –∞ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –Љ–µ–ґ–і—Г —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –Є–і–Њ–ї–Њ–њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ш–і–Њ–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М, –≤–ї–∞—Б—В—М, –і–µ–љ—М–≥–Є, —Г—Б–њ–µ—Е, –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–є –њ–µ–≤–µ—Ж, –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М вАУ –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Б –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –±—А–µ–Љ—П –љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л (—Б —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–µ—В—Б—П). ¬Ђ–Э–µ—В —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ, вАУ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, вАУ –Ї–∞–Ї –љ–∞–є—В–Є —В–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ—Г –±—Л –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ —В–Њ—В –і–∞—А —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Н—В–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П¬ї. –Э–Њ, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, ¬Ђ–±–µ–Ј –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Є—З—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї.
–Ф–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –∞–±—Б–Њ–ї—О—В—Г, –µ–є –љ–µ –љ—Г–ґ–љ—Л –љ–Є –Ј–∞–њ—Г–≥–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞–і–Њ–Љ, –љ–Є –њ–Њ–Њ—Й—А–µ–љ–Є–µ –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ–Љ. –Э–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—В –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Э–Њ —В—Г—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б вАУ –Њ—В —З–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞ —Н—В–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –≤ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ? –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї, —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–µ –±–µ–Ј –Њ–≥–ї—П–і–Ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П вАУ –≤–µ–і—М –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В —Б –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М—О. –Ш –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б—Г–Ј–Є—В—М¬ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П (–Њ—Е, –Ї–∞–Ї —И–Є—А–Њ–Ї –§–µ–і–Њ—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З), –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –љ–µ–±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ. –Т–µ–і—М –і–∞–ґ–µ –Ґ. –Ь–∞–љ–љ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –љ–Њ –≤ –Љ–µ—А—Г¬ї. (–•–Њ—В—П, –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –≤ –Љ–µ—А—Г. –≠—В–Њ –Ґ–Њ–Љ–∞—Б –Ь–∞–љ–љ.) –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Њ—В–≤–µ—В –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г–µ–Љ–Њ–Љ —З—В–µ–љ–Є–Є –і–ї—П –і–Њ—З–µ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–∞: ¬Ђ–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ—Л –≤—Б–µ. –У–Њ–≥–Њ–ї—П —В–Њ–ґ–µ. –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤, –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤, –µ—Б–ї–Є —Е–Њ—В–Є—В–µ. –Ь–Њ–Є —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –µ–є¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ–Ї–∞—П –Љ–µ—А–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Є—А–∞. ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–∞—П —В—П–ґ–µ—Б—В—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, / –Ъ–∞–Ї–∞—П –±–Њ–ї—М. –Э–Њ –∞–љ–≥–µ–ї —А–µ—З–Є...¬ї (–Ш–љ–≥–∞ –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞). –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –∞–љ–≥–µ–ї –Є —Б–ї–µ–і–Є—В, —З—В–Њ–±—Л –і—Г—И–∞ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±—П —В—Г —В—П–ґ–µ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М. ¬Ђ–Р–љ–≥–µ–ї¬ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б—В–∞–і–Є–Є –љ–µ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —А–µ—З–Є. –≠—В–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –∞–љ–≥–µ–ї –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї вАУ –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ–Њ–µ —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–µ–µ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї–∞–≤–Ї—Г. –•–Њ—В—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–∞ –±—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ–Ї–Є–є –Ї—А–µ–љ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Б—В–Є—Е–Є–є–љ–Њ—Б—В–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–∞–Ї –±—Л —Г–Љ–∞–ї–µ–љ–Є—П —А–Њ–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–≤—Б–µ—П–і–љ–Њ–є –њ—А–Њ–ґ–Њ—А–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є —П–Ј—Л–Ї–∞¬ї (–Ш. –С—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є).
–Ю—В–і–∞–≤–∞—П –і–∞–љ—М –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –њ–Њ—Н—В–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–µ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї—Г—О —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М, –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –С—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –±–µ–Ј –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –љ–∞ —В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤–Њ–ї–µ–≤—Г—О —Н–љ–µ—А–≥–Є—О –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —П–Ј—Л–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г ¬Ђ–≤ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Љ–∞–ї–Њ –С–Њ–≥–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤–Є–љ—Л, —Б–Љ–µ—А—В–Є, –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –°–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Б–µ–±—П¬ї. –Я–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞, —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, ¬Ђ–Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є, –∞ –љ–µ –≤ —Б–ї–Њ–≤–µ: –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—Б–ї–Є, –µ–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –Є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М вАУ ¬Ђ–њ—А–∞–≤–і–∞¬ї вАУ –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ –≤—Л–±–Њ—А —Б–ї–Њ–≤¬ї. ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї вАУ —Н—В–Њ –≤–µ–і—М –Є —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —А–µ—Д–Њ—А–Љ 1856вАУ1874-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Є –і–∞–ї–µ–µ, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –І–µ—Е–Њ–≤–∞ –Є –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ, –і–µ–Ї–∞–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є—В–Є–љ–≥–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–Є. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –У—Г–ї–∞–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В —Г–ґ–µ –°–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—Ж—Л–љ, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В –≤—Б–µ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ, –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –µ—Й–µ –њ—А–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ, ¬Ђ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї. –Ш —Г–ґ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–љ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –і–ї—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–∞–Љ–Є, —Б –Љ—Г—Б–Њ—А–љ–Њ–є –≤–∞–Ї—Е–∞–љ–∞–ї–Є–µ–є –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–∞. ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї вАУ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є: –љ–Є–≥–і–µ —В–∞–Ї –љ–µ –ї—О–±—П—В –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Є –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞—Е. –Ш –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±–Њ–ї—В–∞—В—М, –љ–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤—Л—П—Б–љ—П—В—М –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –±—Л—В–Є—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —А–µ—И–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –і–∞ –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ–µ. –Ч–∞—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–∞—Г–Ј—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л вАУ –Є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П. –Э–Њ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В ¬Ђ–њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –°—В–µ–њ—Г–љ–∞, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–∞ –њ—А–µ–і—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–∞—П—Б—П ¬Ђ–њ—А–∞–Ј–і–љ—Л–Љ¬ї –і–µ–ї–Њ–Љ вАУ –љ–∞—Б–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Е–Њ—В—П –Є –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є, –љ–Њ –Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б ¬Ђ—В–Њ–ї—Й—М—О¬ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л (—Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Є–і–µ—В –љ–∞—Б–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–Є–Ј–Ї–Њ–є¬ї, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —З—Г–ґ–і–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л) вАУ ¬Ђ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ ¬Ђ–±–∞–ї–Њ–≤—Б—В–≤–Њ¬ї, –љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –Ш–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П. –Э–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞—П—Б—М –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–Є–≥–ї—П–і–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ вАУ –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г—В–Є.
–Т —А–∞–±–Њ—В–µ –Р. –°—В–∞–љ—О—В—Л –љ–µ—В –Є –≥—А–∞–љ–∞ –Ј–∞–љ—Г–і–ї–Є–≤–Њ–є –Є —З–Њ–њ–Њ—А–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ–і–∞–µ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є вАУ 5вАУ8 —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж вАУ –≥–ї–∞–≤–Ї–∞–Љ–Є. –Т –љ–Є—Е –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В—Б—П —Б –ї–Є—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –∞—А—В–Є—Б—В–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. ¬Ђ–°–Є–љ–і—А–Њ–Љ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Г–њ–Њ–≤–∞—В–Њ-—Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–њ–∞—О—В –і–∞–ї–µ–µ –≤–Њ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ—П, –љ–µ –Ј–∞–і–µ–ї –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і–∞. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Б–∞–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є–Ј –Ь–Є–љ—Б–Ї–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й—Г—О —Б—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—В—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Є –љ–µ –≤—П–Ј–љ—Г—В—М –≤ –±–Њ–ї–Њ—В–µ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –≤ —Б–ї–Њ–≤–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –≤ –∞–±–Ј–∞—Ж–µ вАУ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ (—Н—В–∞–Ї–Є–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ–Ї–∞–і–∞–љ—Б). –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–Є—П –і–Њ –∞–±—Б—Г—А–і–∞ вАУ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–∞—П –Љ–µ—Б—В—М –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т —А–∞–±–Њ—В–µ –Р. –°—В–∞–љ—О—В—Л —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є—П –љ–∞–і –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–µ ¬Ђ—В—П–≥–Њ—В–µ–µ—В –њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В–∞—В—М –≤ –њ—А—П–Љ—Г—О —А–µ—З—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М вАЬ–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–ЉвАЭ, –љ–Њ –Є –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї (–°. –С–Њ—З–∞—А–Њ–≤). –Т —Н—В–Њ–Љ, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–µ—В–Ї–∞—П –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞: –љ–µ –љ–∞–≤—А–µ–і–Є. –Я—А–Њ—Е–Њ–і—П –њ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г —Д–∞—А–≤–∞—В–µ—А—Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П, ¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Э–Є–∞–≥–∞—А–∞¬ї, –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В –≤—Б–µ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –љ–Њ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М —Д–Є–≥—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–µ –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ, –∞ —Б—В–Њ—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –њ–ї–Њ—В—Г, —Г–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Н–љ–µ—А–≥–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞, –Ј–∞—А–∞–ґ–∞—О—Й–∞—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А—Г—О—Й–∞—П —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —В–µ–Љ—Л –љ–µ–љ–∞–≤—П–Ј—З–Є–≤–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є –љ–∞—И–µ–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ¬ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ –§–µ–і–Њ—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З. –Ф–∞, ¬Ђ—В–∞–Ї–∞—П –і–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М¬ї, —Е–Њ—В—М —Б—В–Њ–ї–µ—В—М–µ —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ, –љ–µ –≤—З–µ—А–∞. –Ш —А–∞—Б—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –ї–Є —Б –љ–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є—П –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. ¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї¬ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П –Є ¬Ђ—А—Л–љ–Њ—З–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ¬ї: –Є–љ–∞—З–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤—Б—Г—З–Є—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О –Є –њ–µ—А–≤—Л–є –Є–і–µ–∞–ї.¬†
–Т –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≥–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–∞–љ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ –Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –њ–µ—А–≤—Л–є. –Ц–∞–љ—А —Н—В–Њ—В —П –±—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є—Б—В–Є–Ї¬ї. –Т –љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤ ¬Ђ–С—А–∞—В—М—П—Е –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е¬ї, –µ—Б—В—М –≤—Б—С: –Љ–µ–ї–Њ–і—А–∞–Љ–∞ –Є –і–µ—В–µ–Ї—В–Є–≤, –ґ–Є—В–Є–µ –Є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, –Њ—З–µ—А–Ї –Є –њ—М–µ—Б–∞, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є—П, –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ–∞ –Є —О—А–Є—Б–њ—А—Г–і–µ–љ—Ж–Є—П. –Ю–љ –і–ї—П –і–µ–≤–Є—Ж –Є –і–ї—П –і–∞–Љ, –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е, –і–ї—П –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤, –і–ї—П –≤–µ—А—Г—О—Й–Є—Е –Є –∞—В–µ–Є—Б—В–Њ–≤, –і–ї—П –±–µ–і–љ—Л—Е –Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е (—В–Њ–ґ–µ –њ–ї–∞—З—Г—В), –і–ї—П –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤, –і–ї—П –≥–ї—Г–њ—Л—Е –Є —Г–Љ–љ—Л—Е. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ –±—Г–Ї–µ—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –љ—О—Е–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є —Ж–≤–µ—В–Њ—З–µ–Ї. –•–Њ—В—П –Ї—В–Њ-—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –Є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—П —Н—В–Њ—В –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Љ–µ–љ—М—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–µ—Г—Б–њ–µ–≤–∞—О—Й–Є–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Є—В—З–µ–≤—Л—Е –±–µ—Б—В—Б–µ–ї–ї–µ—А–Њ–≤. –Т–µ–і—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –С—Г–љ–Є–љ—Л–Љ: –Ј–ї–Њ–±–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А, —Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –±—Г–ї—М–≤–∞—А–љ—Л–µ —А–Њ–Љ–∞–љ—Л. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, ¬Ђ—А–∞—Б—И–Є—А—П—П –љ–∞—И–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є –љ–µ–њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є—А–Њ–≤¬ї, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞–µ—В –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –С—Г–љ–Є–љ–∞ –Є –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –Ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Ь–љ–µ –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ –љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –°–Љ–µ—А–і—П–Ї–Њ–≤—Г –Ш–≤–∞–љ–∞ –Є –Ь–Є—В–Є. –С—Г–љ–Є–љ-–Ь–Є—В—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–Ю–Ї–∞—П–љ–љ—Л—Е –і–љ—П—Е¬ї, –љ–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤, —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—А–∞–љ–Є—В. –Т –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ—М, –С—Г–љ–Є–љ –Є –≤ –љ–Є—Й–µ—В–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–і—Л–Љ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–Љ, –±—А–µ–Ј–≥–ї–Є–≤–Њ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—П—О—Й–Є–Љ—Б—П –Њ—В —Б—В–Є—Е–Є–Є –љ–µ—Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А—Г—О—Й–µ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш —Г–ґ —Б —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ–µ—А–Є–µ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤, –љ–∞—И–µ–і—И–Є–є —Б–≤–Њ–є –Є–і–µ–∞–ї –≤ –Я—А—Г—Б—В–µ. –£—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ь—Л—И–Ї–Є–љ–∞, —Г–ґ–µ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –Є—Б—В–∞—Б–Ї–∞–љ–љ—Л–µ –Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ вАУ ¬Ђ–Љ–Є—А —Б–њ–∞—Б–µ—В –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞¬ї, вАУ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—А—Б—В–∞—В—М –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї —Н—Б—В–µ—В–Є–Ј–Љ—Г –Э–Є—Ж—И–µ, –≥–і–µ —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П, –њ–Њ –Ъ–∞–љ—В—Г, –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ —В—П–≥–Њ—В–µ–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –Є –ї—О–±–≤–µ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—О–Ј—Г —Б –і–Њ–±—А–Њ–Љ, –љ–Њ –Є –Ї –Љ–∞–Ј–Њ—Е–Є—Б—В—Б–Ї–Є-—Б–ї–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г (¬Ђ–Я—Г—Б—В—М –њ—М–µ—В, –њ—Г—Б—В—М –±—М–µ—В, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Г–і–µ—В –Ї–∞–Ї –Р–ї–µ–љ –Ф–µ–ї–Њ–љ!¬ї) –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—О–Ј—Г —Б–Њ –Ј–ї–Њ–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П ¬Ђ—Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–є –≤–µ—Й—М—О¬ї. –Ы—О–±–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є—П вАУ —З–Є—Б—В–Њ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Ш –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ґ–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б –і–∞–µ—В –љ–∞–Љ –ї–Є—И—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є, –Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ¬ї. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–∞–і–Њ–Љ–∞–Ј–Њ—Е–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ –≤ –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–љ—В–Є–Љ–љ—Л—Е –Є —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є —Б—Д–µ—А–∞—Е. –Ю—В —Б–∞–і–Є–Ј–Љ–∞ –≤–ї–∞—Б—В–Є —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –Љ–∞–Ј–Њ—Е–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –С–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—М –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—М—О –Љ—Г—З–µ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞.
–Т–ї–∞—Б—В—М –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Ї—Г—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є —Н—В–Є—Е –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л—Е, –љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–є. –£–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ –≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ-—А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–∞–і–Њ–Љ–∞–Ј–Њ—Е–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Г—В—М –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ, –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є, –∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —П–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –Љ–Є—А—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤ –Є–Ј –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є. –Ю —З–µ–Љ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –§–µ–і–Њ—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Є –љ–µ –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П. –Ы–µ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Е–Њ—А–Њ—И–µ–є¬ї –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Э–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—П, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ ¬Ђ—Е–Њ—А–Њ—И–∞—П¬ї –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ –і–∞–µ—В —В–Њ–є –∞–Љ–њ–ї–Є—В—Г–і—Л —З—Г–≤—Б—В–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В ¬Ђ–њ–ї–Њ—Е–∞—П¬ї. –Ю—В—Б—О–і–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –њ—А–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Ї –ї—Г—З—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї —В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В вАУ –Є –њ–Њ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ—Г вАУ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є, —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є, —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М¬ї, —В–∞–Ї–∞—П ¬Ђ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є¬ї вАУ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –њ–Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г вАУ –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–Є, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В –µ–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л–µ, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л. –Я–Њ–Љ–Њ–≥–∞—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –і–Њ—Б—В–Є—З—М –≤–µ—А—И–Є–љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Њ–њ—Л—В —Н—В–Њ—В –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В, –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і–µ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В–Є, –і–∞–ґ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є. –Т–µ—А—И–Є–љ —Б–∞–і–Є–Ј–Љ–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ ¬Ђ–∞—А—В–Є—Б—В—Л¬ї. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Э–µ—А–Њ–љ–∞ вАУ –Њ–љ —Г–ґ–µ —Г–Љ–µ–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–µ–±–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ. –Р –≤–Њ–є–љ—Л ¬Ђ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е¬ї –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ–і–Є–Ї–∞—А–µ–є¬ї вАУ –≥–∞–Ј–Њ–≤—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ—А—Л, –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ–∞, –Т—М–µ—В–љ–∞–Љ, –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П,вАУ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–∞–і–∞—О—В –≤—Б–µ –Ј–∞–њ—А–µ—В—Л, –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Ф–∞, —И–Ї–Њ–ї–∞ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—П –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В –љ–∞—И–Є —И–∞–љ—Б—Л –љ–∞ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–Њ –ї–Є—И–∞–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—В—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Б—З–∞—Б—В—М–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –і–ї—П –љ–∞—Б –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –∞–Ї–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Ж–µ–ї—М—О. –Р –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞–Љ –Њ —Б–µ–±–µ –ї–Є—И—М –і—А–∞–Ј–љ—П—Й–µ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ вАУ ¬Ђ–љ–µ–≤—А–Њ–Ј —Б—З–∞—Б—В—М—П¬ї. –Ю–љ-—В–Њ –Є –Њ–±—А–µ–Ї–∞–µ—В –љ–∞—Б –љ–∞ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Г—О –Є –Є–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞—О—Й—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–љ—О –Ј–∞ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ї–∞–Ї –і–µ–і—Г—И–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Љ–∞, –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—З–µ—А–њ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М—Б—П –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Г –Є–Ј ¬Ђ–љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤ ¬Ђ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–µ¬ї. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ—В –±–∞—А—М–µ—А –Є –љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –≤–µ–і–µ—В –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–µ—Б—В–Є. –Т–µ–і—М –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, ¬Ђ–љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–∞–Љ–Є –ґ–Є—В–Є—П¬ї, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і—А–∞–Ј–љ—П—Й–Є–Љ–Є –Є —А–∞–љ—П—Й–Є–Љ–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Т—Л—Е–Њ–і –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ вАУ –∞–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –±—Г–љ—В –Є–ї–Є –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А–µ–Ј—Л. –Ш–ї–Є —В–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ вАУ –Є —Г –љ–∞—Б, –Є –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–≥—А–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —Б–њ–Њ–љ—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Ї–∞—В–∞–ї–Њ–≥, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–є—Б—П, –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–≤ –Ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, вАУ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—П —Н—В–Є—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–Ї. ¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л—З–ї–µ–љ—П–µ—В –Р. –°—В–∞–љ—О—В–∞, –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г–µ—В –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—О—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ. –І—В–Њ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –µ—Й–µ —А–∞–Ј –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В –µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ–±—Г—З–∞—О—Й—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –њ—А–µ–ї–Њ–Љ–ї—П—О—Й—Г—О –Є –≤–±–Є—А–∞—О—Й—Г—О –≤ —Б–µ–±—П –ї—О–±—Л–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й—Г—О—Б—П.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ–∞—П –Є–≥—А–∞ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є¬ї, —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—О—Й–∞—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–і–µ—О ¬Ђ–Є–≥—А—Л –≤ –±–Є—Б–µ—А¬ї –У. –У–µ—Б—Б–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ј–∞–љ—П—В—М —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–µ –Ј—А—П –≤–µ–і—М –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є вАУ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –≤ —Б—А–µ–і–µ —Г—З–µ–љ—Л—Е. –Ю–і–љ–Є–Љ ¬Ђ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ¬ї —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М. –Ґ–µ–Њ—А–Є—О –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≠–є–љ—И—В–µ–є–љ–∞ –Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –С–Њ—А–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –Њ—В—А—Л–≤–µ –Њ—В ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ вАУ –њ–Њ–ї—О—Б–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ—Г–ї—М—Б–Є—А—Г–µ—В –њ–ї–∞–Ј–Љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–ї–Њ–≤ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–њ–∞—Е–Є–≤–∞—В—М —Б–µ—А–Њ–є. –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞, —Б—В–∞–≤—И–∞—П –Є–і–Њ–ї–Њ–Љ, —А—Г—И–Є—В—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞—В–Є—Б–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є. –Ґ–∞–Ї —Г—В–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –њ–Њ–ї–Є—Д–Њ–љ–Є—З–љ–Њ–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Е–љ—Г–ї–Њ –њ–Њ–і –љ–∞—В–Є—Б–Ї–Њ–Љ —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є –љ–µ–Њ—П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤–∞, –µ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–Њ–Ї-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Є–і–Њ–ї–∞–Љ–Є —В–µ–ї–µ—Н–Ї—А–∞–љ–∞ –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–∞, —Б–љ–Њ–≤–∞ –і–µ–ї–∞—О—Й–Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ ¬Ђ—А–∞–±–Њ–Љ –≤–Њ —В—М–Љ–µ —Б—В–Є—Е–Є–є¬ї (–У—С—В–µ).
–Ф–∞, –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і—Г–Љ–∞—В—М, –Њ–±—А–µ–Ї–∞—П –љ–∞ –Љ—Г–Ї–Є –Љ—Л—Б–ї–Є, вАУ –њ—А–Є–Љ–µ—А –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞, вАУ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–µ —Б –Љ—Г–Ї–∞–Љ–Є —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–≥–Њ. –Э–Њ –±–µ–Ј –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ. –Ш –µ—Б–ї–Є –і–Њ–±—А–Њ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–µ—В –Ј–ї–Њ, —В–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞–і –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –љ–∞–і —Б—В–∞—А—Л–Љ. –Т —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–ї–Њ вАУ —Н—В–Њ –≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–µ –і–Њ–±—А–Њ, –Є–Ј—Г—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–є —Б —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О.
–Ю–і–Є–љ –Љ–Њ–є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М, –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –њ–Њ –љ–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –С–µ—А–ї–Є–љ—Г, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–≥—А–∞, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–≤–∞–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Њ–Ї. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–≤ –Є—Б–њ—Г–≥–∞—В—М—Б—П, –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї —Б–µ–±—П –≤ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –±–Њ—А–і–µ–ї–µ. –£–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ—В —Г—Б–ї—Г–≥, –Њ–љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П —Б –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–є ¬Ђ–і–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є¬ї. –°—В—Г–і–µ–љ—В–Ї–∞, –њ–Њ–і—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В, 5 –Љ–∞—А–Њ–Ї –≤ —З–∞—Б, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –µ—Б—В—М ¬Ђ—А–∞–±–Њ—В–∞¬ї –Є–ї–Є –љ–µ—В. –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П, –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ —А—Г–Ї—Г –љ–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ. ¬Ђ–І—В–Њ —З–Є—В–∞–µ—В–µ?¬ї вАУ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. "–Я—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µвАЭ¬ї.¬†5 –Љ–∞—А–Њ–Ї –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є—В—М вАУ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Њ—А–і–љ—Г–љ–≥ вАУ –Ј–∞ –±–µ—Б–µ–і—Г. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Г—Б–ї—Г–≥–∞ –µ—Б—В—М –≤ –њ—А–µ–є—Б–Ї—Г—А–∞–љ—В–µ. –Я–Њ–Ј–≤–Њ–ї—О –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—Г—В–Ї–Є, —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј –≥—А—Г–њ–њ—Л —А–Є—Б–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ вАУ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞. –Ш –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ вАУ –Љ—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–ї–Њ–≤–∞. –ѓ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ, –љ–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г.



