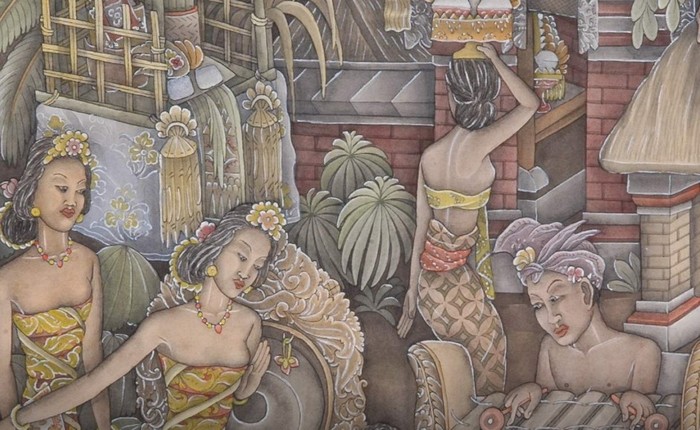–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞ –Ш–≥–Њ—А—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞
–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞ –Ш–≥–Њ—А—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞

¬Ђ–Э—Г, –і–Њ —З–µ–≥–Њ –ґ–µ —Г —В–µ–±—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і—Г—И–∞, –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤! –Т–Њ—В –Ї–∞–ґ–і—Г—О –µ—С –Ј–∞–≥–Њ–≥—Г–ї–Є–љ–Ї—Г —Г–Љ–µ–µ—И—М —В—Л –љ–∞ —Б–≤–µ—В –С–Њ–ґ–Є–є –і–Њ—Б—В–∞—В—М! –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ —В–µ–±–µ, —А–Њ–і–љ–Њ–є!¬ї вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–µ—В –ґ–Є–≤–Њ–є, –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П—Е –Ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ—Г –∞–ї—М–±–Њ–Љ—Г 43-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ ¬Ђ–Ъ—А—Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—В¬ї (2023).
–Э–∞—З–љ–µ–Љ —Б –њ–µ—Б–љ–Є —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–є–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Т–∞—Е—В–∞¬ї (—Н—Е, —В–∞–Ї –±—Л –Є –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –∞–ї—М–±–Њ–Љ!), –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ—Г—О –њ–Њ—А–Њ–є ¬Ђ–Я–µ—Б–љ—П –≤–∞—Е—В–Њ–≤–Є–Ї–∞¬ї.¬†
¬Ђ–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л—Б–Њ—В–љ—Л–є –і–Њ–Љ вАФ –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –і–µ—А–µ–≤–љ—П–Љ!¬ї вАФ –њ–Њ—С—В –ї—О–±—П—Й–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –і–µ—А–µ–≤–љ—О –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є—В–µ–ї—М –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ ¬Ђ—В–µ—А–Ј–∞—О—В –≥—А–∞–љ–Є –Љ–µ–ґ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є —Б–µ–ї–Њ–Љ¬ї (–Э. –†—Г–±—Ж–Њ–≤), –Є –Љ—Л —Б–ї—Л—И–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М —Н—Е–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ—Н—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Я–Њ—Б—В–∞–≤—М—В–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µвА¶¬ї.
¬Ђ–Ф–Њ–Љ–Є–Ї, —А–µ–Ї–∞, –ї—Г–ґ–Њ–Ї, / –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї –≥—Г—Б–µ–є –њ–∞—Б—С—В, вАФ –Ь–Є–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–Њ–Ї, / –≠—В–Њ –љ–∞—Б –љ–µ —Б–њ–∞—Б—С—В. / –С—Г–і—Г—В –і–Њ–Љ–∞ –њ—Г—Б—В—Л. –Ш –ї–Є—И—М –њ–Њ–і–Њ–є–і—Г—В –≥–Њ–і–∞ вАФ / –Ґ–∞–Ї –ґ–µ —Г–є–і—С—И—М –Є —В—Л / –Т –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. / –Р –њ–Њ –і–≤–Њ—А–∞–Љ –Њ–њ—П—В—М / –Т–µ—В–µ—А –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ—Б–Є—В, / –Т–∞—Е—В–Њ–є –њ–Њ–є–і—С—В –≥—Г–ї—П—В—М / –Я–Њ –ї–µ–і—П–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є¬ї.¬†
–° –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ –Њ–љ–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—Й–∞ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Г, –≤—Л–і–∞—С—В –∞–≤—В–Њ—А —В—А–µ–Ї ¬Ђ–Ы–µ—Б¬ї вАФ —Б –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і—Б–≤–µ—В–Ї–Њ–є, —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є –∞–ї–ї–µ–≥–Њ—А–Є–µ–є: ¬Ђ–Э—Г –∞ –і—А—Г–Ј—М—П –њ–Њ–µ–і—П—В, / –С—А–Њ—Б—П—В –Љ–µ–љ—П, —Г–ї–µ—В—П—В. –Ш –љ–∞–Ј–Њ–≤—Г—В –ї—О—В—Л–Љ –Ј–ї–Њ–Љ / –Ь–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Е–ї–µ–± –Є —В–µ–њ–ї–Њ¬ї. –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В—М—П –љ–∞–Ј–∞–і –њ—А–µ–і—А–µ–Ї–∞–ї –≤ ¬Ђ–Ф–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П¬ї, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ–і—Г—В —Б–µ–±—П –≤—Б–µ —Н—В–Є ¬Ђ–љ–µ–±—А–∞—В—М—П¬ї, –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–ї–∞–±–љ—Г—В —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї—А–µ–њ—Л. ¬Ђ–І—С—А–љ—Л–є –ї–µ—Б¬ї вАФ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Н—В–Є –њ–Њ–ї—Г–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤.
–Т–Њ—В –Є –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–≤—Г—Е—А—П–і–Њ—З–Ї–∞ —А–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Б–Ї–∞—П ¬†–≤ –і–љ–Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ —В—А—Г–і–љ—Л–µ!
–•–Њ—В—П –љ–∞ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–Ї–∞–љ–∞–ї–∞—Е –µ–≥–Њ –љ–µ —Г–≤–Є–і–Є—И—М вАФ —В–∞–Љ –љ–∞–≥–ї—Г—Е–Њ –Њ–Ї–Њ–њ–∞–ї–Є—Б—М —В–µ, –Ї—В–Њ –Є —Б–Є–і–µ–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ –і—Г—Б—В–Њ–Љ –Є—Е –љ–µ –≤—Л—В—А–∞–≤–Є—В—М. –Ш —Г –љ–Є—Е, ¬Ђ–Љ–∞—В–∞–і–Њ—А–Њ–≤¬ї —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ—В –љ–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Є –і–∞—А–∞, –љ–Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –і–Њ —Н—Д–Є—А–∞ ¬Ђ–≤—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—В–µ—А—Ж–∞¬ї –Ш–≥–Њ—А—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В –Ј–∞–ї—Л, –њ–Њ–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В—Л—Б—П—З–љ—Л–Љ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П–Љ –Є —А–≤—С—В –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ–є –Є –љ–Њ–≤—Л–Љ –∞–ї—М–±–Њ–Љ–Њ–Љ.¬†
–Т –∞–ї—М–±–Њ–Љ–µ –µ—Б—В—М –Є —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –≥—А—Г—Б—В–љ–∞—П –њ–µ—Б–љ—П ¬Ђ–°–љ–µ–≥¬ї, –Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П ¬Ђ–°–љ–µ–≥–Њ–≤–Є–Ї¬ї, –≥–і–µ –∞—Д–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–љ—Л –њ–µ—А–≤—Л–µ –ґ–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є ¬Ђ–°—В–Њ–Є—В, –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–љ–Є–Ї, / –°—А–µ–і—М –Љ–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—В–µ—А—М–Љ—Л / –Ч–∞—З—Г—Е–∞–љ–љ—Л–є —Б–љ–µ–≥–Њ–≤–Є–Ї, / –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Б–Њ–ї–і–∞—В –Ј–Є–Љ—Л¬ї.
–£ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –ґ–Є–≤–Њ–є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –≤–њ–Є—В–∞–≤—И–Є–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї—Г –Є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Є –Њ—В –Ш—Б–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ –§–∞—В—М—П–љ–Њ–≤–∞:
¬Ђ–°–≤–µ—В –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ, –Љ–∞—Б–Ї–Є —Б–±—А–Њ—И–µ–љ—Л, / –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –≤—А–∞—З —Г—И–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є. / –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–є, –Љ–Њ—П —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П, / –Ъ–∞–Ї —П –±—Л–ї –≤—З–µ—А–∞ –ґ–Є–≤–Њ–євА¶ / –Р –≤ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є —Н—В–Њ–є –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В–Є / –Т—Б–µ–Љ –Њ—В–Љ–µ—А–µ–љ—Л —Б—А–Њ–Ї–∞! / –Ъ–Њ–Љ—Г –і–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є, / –Р –Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞¬ї (¬Ђ–Я–∞–Љ—П—В–Є –і—А—Г–≥–∞¬ї).
–°–ї—Г—И–∞—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞, –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ ¬Ђ—Б—А–Њ–Ї–∞ћБ¬ї, —П –≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Т—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ ¬Ђ–≤—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Є–Љ¬ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ—З—М–µ–Љ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –љ–∞—Б –љ–∞ —Б–ї—Г—Е, –Є –љ–∞ –Ј–≤—Г–Ї–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П. –І–Є—В–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ. –Ф–∞ –Є –Ј–∞—З–µ–Љ. –Т –Є–Ј—Г—Б—В–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—М —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А—Г –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –Њ–≥—А–µ—Е–Є —Б—В–Є—Е–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П.
–Ф–≤–∞ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П (–Є–Ј 11-—В–Є) –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞ –∞–≤—В–Њ—А –љ–µ –њ–Њ—С—В, –∞ —З–Є—В–∞–µ—В. –Я–µ—А–≤—Л–є —В—А–µ–Ї, ¬Ђ–Ф—П–і—М–Ї–∞¬ї, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д, вАФ –Ј–∞–і–∞—С—В –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л–є —В–Њ–љ. –Я–Њ—Н—В –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —А–Њ–і–Є—З—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–Љ:¬†
¬Ђ–Ш –і–µ–Љ–Њ–љ—Л —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л –°—В—А–∞—И–∞—В—Б—П —В–≤–Њ–Є—Е вАЬ–Ї–Њ–≥—В–µ–євАЭ!..
–Ш –≤—Б–µ–є —В–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В
–С—Л–ї –≤ –ї—О—Б—В—А–µ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є:
–Т —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Є–і—П –љ–∞ —В–Њ—В —Б–≤–µ—В,¬†
–Ґ—Г—В –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М вАФ —Б–≤–Њ–є¬ї.
–Ш –≤—В–Њ—А–Њ–µ вАФ ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–є–љ–Њ–є –љ–∞ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–µ. –° –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Њ–є —Б—Г–і—М–±–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є —А–Є—Д–Љ—Л вАФ ¬Ђ—Б—В—А–∞–љ–∞вАФ—Б—В–Њ–љ–∞—В—М¬ї. –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ —З–Є—В–∞–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ –њ–Њ-–∞–Ї—В—С—А—Б–Ї–Є, –∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Н—В, –±–µ–Ј –∞—Д—Д–µ–Ї—В–∞—Ж–Є–є. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ. –Х–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –њ–µ—А–µ—Б—Л–ї–∞—В—М –і—А—Г–Ј—М—П–Љ, –Ј–∞—Г—З–Є–≤–∞—В—М –Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –і–µ–Ї–ї–∞–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Э–µ—З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Б –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —И–µ–і–µ–≤—А–∞–Љ–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ц–і–Є –Љ–µ–љ—П¬ї –Ъ. –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞.¬†
–С–Њ–є—Ж–∞–Љ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤—А–∞—З–µ–є
–Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ—М–µ –±—Л–ї –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ.
–Э–µ —В–Њ —З—В–Њ–± —В–∞–Љ –љ–µ —Е–ї–Њ–њ–∞–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ вАФ
–Ґ–∞–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —Е–ї–Њ–њ–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ—З–µ–Љ.¬†
–Р —П –Є–Љ –њ–µ–ї, –Є–≥—А–∞–ї –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–є –ї–∞–і.
–Ю–љ–Є —Б –њ–∞–ї–∞—В —В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є
–Ш –Ї–Њ–µ-–≥–і–µ –њ—А–Є—В–Њ–њ—В—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –ї–∞–і вАФ
–Ґ–µ, —Г –Ї–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞–ї–Є—З—М–µ –љ–Њ–≥–Є –±—Л–ї–Є.
вА¶
–°–Є–і–µ–ї–Є –Є —Б—В–µ—Б–љ—П–ї–Є—Б—М –≤—Б–ї—Г—Е —Б—В–Њ–љ–∞—В—М,
–Ю—В –±–Њ–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—А—Й–∞—Б—М —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ.
–†–Њ–і–љ–∞—П –Њ–±–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞
–У–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є—Е –≤ –Љ–Њ—О –≥–∞—А–Љ–Њ–љ—М –≥–ї—П–і–µ–ї–∞.
–Ш —П —Е–Њ—В–µ–ї –Є—Е –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М,
–Я—А–Є–Њ–±–Њ–і—А–Є—В—М, —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –њ—А–Є—В—А–µ—В—Б—П.
–І—В–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ–њ—П—В—М —Г –љ–Є—Е
–Э–∞–ї–∞–і–Є—В—Б—П, –Ј–∞—В—П–љ–µ—В—Б—П, —Б—А–∞—Б—В–µ—В—Б—П.
–°–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–∞—Б—В–∞–љ–µ—В –Љ–Є—А вАФ
–Э–µ –≤–µ–Ї –ґ–µ –≤—Б–µ–Љ —Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞–Љ –њ–Њ–і –њ—А–Є—Ж–µ–ї–Њ–Љ.
–ѓ —Б—В–∞—А—И–µ –±—Л–ї –Є—Е. –Ш –µ—Й–µ —П –±—Л–ї
–Ф–ї—П —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –љ–Є–Љ–Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–ї—Л–Љ.
вА¶
–Ш —П –Є–≥—А–∞–ї, –∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ —В–µ–Ї–ї–Њ.
–ѓ –њ–µ–ї –Є–Љ –Њ –і–Њ–±—А–µ, –ї—О–±–≤–Є –Є —Б–Є–ї–µ.
–Ш –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≤—А–∞—З —Б—В–Њ—П–ї, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ –Њ–Ї–љ–Њ,
–Ъ–∞–Ї –Ї –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ—М—О –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є.
–Я–Њ—Н—В-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ы—М–≤–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є:¬†
¬ЂвА¶–≤ –І–µ–ї—П–±–Є–љ—Б–Ї–µ, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –≤ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ –љ–µ–Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –±—Л–≤—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —И–µ–ї –≤–µ—З–µ—А –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–∞ –Р–Ї—Б—С–љ–Њ–≤–∞ вАФ –Њ–љ —З–Є—В–∞–ї –Х—Б–µ–љ–Є–љ–∞ вАФ –≤ –Ј–∞–ї–µ –±—Л–ї–∞ —В–Є—И–Є–љ–∞. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Т –њ–Њ–ї—Г—В—М–Љ–µ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П —А–∞–љ–µ–љ—Л–є –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ–Њ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАЬ–Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –Љ—Л —Е–ї–Њ–њ–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ: —Г –љ–∞—Б –љ–µ—В —А—Г–ЇвАЭ¬ї.¬†
–Ш –µ—Й—С –Њ —В–Є—И–Є–љ–µ. –Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—Б–љ—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ вАФ ¬Ђ–Ґ–Є—И–Є–љ–∞¬ї (2021), –љ–∞–±—А–∞–≤—И–∞—П –≤ —Б–µ—В—П—Е –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤.
–Э–µ –љ—Г–ґ–љ—Л —Н—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –љ–Њ—В—Л,
–ѓ –љ–µ –±—Г–і—Г –≤ –љ–µ–є –њ–µ—В—М –њ—А–Њ –∞–є—Д–Њ–љ —Б –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є,
–Ґ–∞–Љ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–Є —П—Е—В, –љ–Є –Љ–∞–ґ–Њ—А–∞ –љ–∞ –±—Н—Е–µ,
–Э–Є –і–µ–≤–Є—Ж, —З—В–Њ –њ–Є—Й–∞—В –Њ —Е–∞–ї—П–≤–љ–Њ–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–µ,
–Э–µ –њ—А–Њ–ї–µ–Ј–µ—В –≤ –љ–µ–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ—М–µ –Ї–Є–њ—Г—З–µ–µ,
–° –µ–≥–Њ –Ї–∞—А—В–Њ—З–љ—Л–Љ –і–Њ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П.
–Р –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —З—В–Њ–± –і—Г–Љ–∞—В—М –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П,
–•–≤–∞—В–Є—В –њ–µ—Б–љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —В–Є—И–Є–љ—Л –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П.
–≠—В–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Є—И–Є–љ–µ (–њ–∞—Г–Ј–µ) –Ї–∞–Ї –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –Ј–≤—Г–Ї–∞ –Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –Њ—В—Б—Л–ї–∞–µ—В –љ–∞—Б, –µ—Б–ї–Є —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, –Ї –Є–Ї–Њ–љ–µ ¬Ђ–Р–љ–≥–µ–ї –С–ї–∞–≥–Њ–µ –Ь–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ¬ї.
–Р –µ—Й—С —П –±—Л —Д–Є–ї—М–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –Ї–Є–љ–Њ–Ј–∞–ї–µ
–Ю –≤–Њ–є–љ–µ вАФ –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М —В–µ—Е, –њ—А–Њ –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є.
вА¶
–Ґ–∞–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В.
–Я—А–Њ—Б—В–Њ –њ—Г—Б—В—М –≤ —В–Є—И–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –±–Њ–є—Ж—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –±–Є—В–≤—Л,
–С—Г–і—Г—В –њ–ї—Л—В—М –Є—Е –Є–Љ–µ–љ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ —В–Є—В—А—Л.
–Ш вАФ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–Њ–Љ, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–±–µ–≥–Њ–Љ –Є —А–∞—Б–Ї–∞—В–Њ–Љ, ¬Ђ–Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Б—В—А–µ–ґ–µ–љ—М¬ї вАФ –≤—Л—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Є–њ–µ–≤–µ, —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М ¬Ђ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А —В–Є—И–Є–љ—Л¬ї, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б—В—Г—И–Ї–∞, —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ —А–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Б–Ї–∞—П, –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ–∞—П, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П:
–Р –њ–Њ –Э–µ–≤–µ –±–∞—А–ґ–∞ћБ –њ–ї—Л–≤—С—В вАФ –≤–Њ–ї–љ—Л –Ї–∞—В—П—В—Б—П.
–Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ –Љ–Њ—Б—В –љ–µ –њ–µ—А–µ–є–і—С—В вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ —Е–≤–∞—В–Є—В—Б—ПвА¶
–Ш вАФ –і—Г—Е –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В. –Ш вАФ —Б–ї—С–Ј—Л –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —Й–µ–Ї–∞–Љ. –•–Њ—В—М –Є –њ–Њ–є —В–∞–Ї: ¬Ђ–њ–Њ –Э–µ–≤–µ –±–∞—А–ґ–∞ћБ –њ–ї—Л–≤—С—В, —Б–ї—С–Ј—Л –Ї–∞—В—П—В—Б—ПвА¶¬ї.
–Ш –≤–і—А—Г–≥-–љ–µ–≤–і—А—Г–≥ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ, –њ–Є—В–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—П –§—С–і–Њ—А–∞ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ:¬†
¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ —Б–Ї–∞–ґ—Г—В –Њ–љ–Є –ґ–µ, –≤–Њ—В —Н—В–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Т–ї–∞ћБ—Б—Л, –Ї–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Є –љ–µ –Ї–∞—О—Й–Є–µ—Б—П, –Њ–љ–Є —Б–Ї–∞–ґ—Г—В –Є —Г–Ї–∞–ґ—Г—В –љ–∞–Љ –љ–Њ–≤—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г –Є–Ј –≤—Б–µ—Е, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞—И–Є—Е. –Э–Њ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Г–і—М–±—Г —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О¬ї.
вА¶–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —В–µ–Љ—Г —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ,
–Э–∞—А–Є—Б—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Њ –С–Њ–≥–µ –Є –Т–µ—А–µ,
вА¶
–ѓ —В–∞–ї–∞–љ—В—Л —Б–≤–Њ–Є –≤ —В–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ —Г—А–µ–ґ—Г,
–ѓ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –±–µ–ї—Л–є –ї–Є—Б—В –≤ –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ –њ–Њ–≤–µ—И—Г,
–І—В–Њ–± –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —Н—В–∞
–°—В–∞–ї–∞ —З–Є—Б—В–Њ–є –≤–Њ–і—Л –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–µ—В–∞.
 
–Ґ–∞–Ї –Ј–≤—Г—З–Є—В –≥–Њ–ї–Њ—Б —Н–њ–Њ—Е–Є. –Я—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є–≤—И–Є–є –љ—Л–љ–µ—И–љ—О—О ¬Ђ–Ј–ї–Њ–±—Г –і–љ—П¬ї, –љ–∞—Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–Є–є –Ї –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ –љ–∞—Б —Б–∞–Љ–Є—Е, –Њ –љ–∞—И–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Њ –С–Њ–≥–µ. –° –і–≤—Г—Е—А—П–і–Ї–Њ–є, –љ–∞ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ¬ї.¬†
***
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї, ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞¬ї, –±—Л–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–є –∞–ї—М–±–Њ–Љ –Ш–≥–Њ—А—П –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–Є—З–∞ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞, –≤—Л—И–µ–і—И–Є–є –≤ 2011 –≥.
–Т–Ј—А—Л–≤–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –≤ —Б–µ—В–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 2010 –≥. —Б –њ–µ—Б–љ–µ–є —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П –Ш–≥–Њ—А—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–±–∞–є–љ–µ—А—Л¬ї (–љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –≤ 2008 –≥.), –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –ї–Є—И—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —Б–µ—В–µ–≤—Л—Е —В–Њ–њ-–±–ї–Њ–≥–µ—А–Њ–≤ вАФ —З–Є—Б–ї–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –µ–≥–Њ –ї—Г—З—И–Є—Е —Е–Є—В–Њ–≤ вАФ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞¬ї, ¬Ђ–†–Њ–Љ–∞—И–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–Ъ–∞–Ј–∞—З—М—П –њ–µ—Б–љ—П¬ї, ¬Ђ–У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П –ї–µ–љ—В–Њ—З–Ї–∞¬ї, вАФ —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ј–∞—И–Ї–∞–ї–Є–ї–Њ.¬†
–°–∞–Љ—Л–Љ —Ж–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–µ–±—О—В–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є—Б–Ї–∞ –Љ–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ–µ—Б–љ—П ¬Ђ–†–Њ–Љ–∞—И–Ї–Є¬ї.
–Т–µ—Б—М –і–µ–љ—М –њ–Њ –љ–µ–±—Г –ї–µ—В–∞—О—В¬†
–Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л,
–Њ–љ–Є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –≤ –Я–∞—В—В–∞–є—О,¬†
–љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –≤–Њ–Ј—П—В –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ.
–£–ґ–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є вАФ –Ї–∞–Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ, —В–∞–Ї –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ, вАФ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–і–∞—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–ї–Њ–њ—Ж–∞ –Є–Ј –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–≥–Њ –Т–Њ–ї–≥–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—Г—В–Њ—А–∞ –У–ї–Є–љ–Є—Й–µ –Є–ї–Є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –†–∞–Ї–Њ–≤–Ї–Є. –Ь–µ—Б—В–Њ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ¬ї, –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞–Љ (–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАФ ¬Ђ–≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М –ї–µ—В–∞—О—В —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л¬ї), –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є–µ, –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ вАФ –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ вАФ —Б —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–µ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–∞–ї—М—И–µ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –±–Њ–ї—П—Й–µ–є –і—Г—И–Є.¬†
–Э–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –њ—А–Њ—Б—В –Є –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–љ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Я–∞—В—В–∞–є–Є –Љ–µ–ї–Њ–і–Є–Ї–Њ-—А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞—З–Є–љ, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–µ–Љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞ –і–≤—Г—Е—А—П–і–љ–Њ–є –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є. –Ф–∞–ї—М—И–µ –Є–і–µ—В —Б—О–ґ–µ—В –≤—А–Њ–і–µ –±—Л —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є; —Н—В–∞ –њ–µ—Б–љ—П вАФ –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Б–њ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ –і—А—Г–Ј—М—П–Љ.¬†
–Р —П –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –≤ —З–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ¬†
–Є–і—Г-–±—А–µ–і—Г –њ–Њ –±—Г—А—М—П–љ—Г
–Ї –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ –Њ—В –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—П¬†
–і—А—Г–Ј—М—П–Љ –Т–∞—Б—М–Ї—Г –Є –†–Њ–Љ–∞–љ—Г.
–Я—А–Є–њ–µ–≤ –і–∞–µ—В—Б—П –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–µ–ї–Њ–і–Є–µ–є (–Є–љ–Њ–≥–і–∞ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –≤ –њ–µ—Б–љ–µ –Є —В—А–Є –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Е–Њ–і–∞):
–£ –Љ–µ–љ—П –ї–µ–ґ–Є—В –љ–µ –Њ–і–Є–љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й¬†
–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —В–µ—Е –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й,
–≥–і–µ —В—С–њ–ї—Л–є –≤–µ—В–µ—А–Њ–Ї –љ–∞ –Њ–≤–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—В–Ї–µ
–њ–µ—Б–µ–љ–Ї—Г –њ–Њ—С—В –Њ –њ–∞–ї—С–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Ї–µ.
–≠—В–Њ —З–Є—Б—В–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є: —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є, –і–∞–ґ–µ —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ –њ–Њ –†–∞–Ї–Њ–≤–Ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Г–±–Є–ї –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—М. –Э–µ–Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–∞ —А–Є—Д–Љ–∞ ¬Ђ—Д–Њ—В–Ї–µвАФ–≤–Њ–і–Ї–µ¬ї, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–≤—Г—Е —Б—В—А–Њ–Ї —Н—В–Њ–є —Б—В—А–Њ—Д—Л.¬†
–°–µ–±–µ —В–∞–Ї—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г¬†
—А–µ–±—П—В–∞ –≤—Л–±—А–∞–ї–Є —Б–∞–Љ–Є
–Э–Њ –≤—Б—С –ґ–µ –Ї—В–Њ-—В–Њ, –µ–є-–С–Њ–≥—Г,¬†
–Є—Е –њ–Њ–і—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –Є –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї, вАФ
—З—В–Њ–± –љ–Є —А–∞–±–Њ—В—Л, –љ–Є –і–Њ–Љ–∞,¬†
—З—В–Њ–± –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Є –і–∞ —А—О–Љ–∞—И–Ї–Є,
—З—В–Њ–± –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Т–∞—Б–Є –Є –†–Њ–Љ—Л вАФ
–ї–Є—И—М –≤–∞—Б–Є–ї—М–Ї–Є –і–∞ —А–Њ–Љ–∞—И–Ї–Є.
–≠—В–Њ—В –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л–є —Е–Њ–і вАФ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Т–∞—Б–Є –Є –†–Њ–Љ—Л —Б –≤–∞—Б–Є–ї—М–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–Њ–Љ–∞—И–Ї–∞–Љ–Є вАФ –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –љ–µ –љ–Њ–≤, –љ–Њ –њ—А–Њ–љ–Ј–Є—В–µ–ї–µ–љ, –Є —В–Њ–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞. –†–Є—Д–Љ–∞ ¬Ђ—Б–∞–Љ–ЄвАФ–њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї¬ї —Б–ї–∞–±–Њ–≤–∞—В–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Њ –і–ї—П –њ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–∞–љ—А–∞ —В–µ—А–њ–Є–Љ–∞. –Ч–∞—В–Њ ¬Ђ—А—О–Љ–∞—И–Ї–ЄвАФ—А–Њ–Љ–∞—И–Ї–Є¬ї вАФ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П –Є —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—П –≤–Ј—А—Л–≤–љ–∞—П –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞.¬†
–Э–Њ –≤—Б–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л,
–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М,¬†
–њ—А–Є–і—С—В—Б—П –≤ –±–∞–љ–Ї–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є¬†
–±—Г–Ї–µ—В —А–Њ–Љ–∞—И–µ–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М.
–Я—Г—Б–Ї–∞–є —Б—В–Њ–Є—В —Б–µ–±–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ,¬†
–њ—Г—Б—В—М –±—Г–і–µ—В —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ¬†
–љ–∞ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–µ¬†
—Б—В—А–∞–љ—Л —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—М–µ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є—П.
–Ь–Њ—Й–љ–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –і–≤—Г—Е —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–є –њ–Њ–≥–Њ—Б—В –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є (–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–µ–љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–†–∞–Ї–Њ–≤–Ї–∞¬ї) —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Б–µ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ.
–Ґ—Г—В —Г–ґ–µ —Г —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –≥–Њ—А–ї–Њ, –Є —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –≤ —Б—З–µ—В вАФ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —В—Л –ґ–Є—В–µ–ї—М –Є–ї–Є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–є. –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –і–∞–ї –≤–µ—А–љ—Л–є –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О:¬†
¬Ђ–° –Ї–µ–Љ –±—Л –Љ–љ–µ –љ–Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П "–Њ—Д–Є—Б–љ—Л–є –њ–ї–∞–љ–Ї—В–Њ–љ", –≤—Б–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: "–Ч–љ–∞–µ—И—М, —П —В–Њ–ґ–µ –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–ї. –£ –Љ–µ–љ—П –±–∞—В—П –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ, –і–µ–і вАФ –Ї–Њ–Љ–±–∞–є–љ–µ—А!". –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –љ–µ —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ, –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г –љ–∞—Б –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О вАФ —А–∞–±–Њ—З–µ-–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г. –Ъ–Њ–њ–љ–Є –ї—О–±—Г—О –≥–ї–∞–Љ—Г—А–љ—Г—О –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г, –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Г –љ–µ–µ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ вАФ –і–Њ—П—А–Ї–∞ –Є–ї–Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ —В—А—Г–і–∞!..¬ї¬†
–†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –љ–µ —Б –Ы—Г–љ—Л —Г–њ–∞–ї, –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї –Є–і—Г—Й–Є–є –≤–і–Њ–ї—М –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Љ–ЊћБ–ї–Њ–і–µ—Ж, –∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —З–µ–≥–Њ –Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М, –µ—Б–ї–Є —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–µ –µ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ —А–µ–і–Ї–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–µ –і–љ–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —З–Є—В–∞—В—М –њ—А–Њ–Ј—Г –Т. –Р—Б—В–∞—Д—М–µ–≤–∞ –њ–Њ –њ—П—В—М-—И–µ—Б—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–і—А—П–і, —З—В–Њ –ї—О–±–Є—В —В–∞–Ї–ґ–µ –®—Г–Ї—И–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —А–∞–љ–љ–µ–є —О–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ю–і–Є–љ –Є–Ј –µ–≥–Њ —Е–Є—В–Њ–≤, —В–Њ–ґ–µ, –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–і—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—И–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ—М—О –ї—О–±–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞, вАФ ¬Ђ–У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П –ї–µ–љ—В–Њ—З–Ї–∞¬ї. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –ї–µ–љ—В–µ, –≤–њ–ї–µ—В–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Ї–Њ—Б–Є—З–Ї—Г –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є, –µ–і—Г—Й–µ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–µ –Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є —Г –∞–≤—В–Њ—А–∞, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–∞–Њ–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –ї–µ—Б–∞ —Г ¬Ђ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Р–њ—А–∞–Ї—Б–Є–љ¬ї, —В—А–µ–Ј–≤—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є, –Њ–±—Й–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В —Б–ї—Л—И–Є–Љ—Л—Е –Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, –њ–∞–≤—И–Є—Е –Ј–і–µ—Б—М –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О.
–†–∞—Б—З—Г–і–µ—Б–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї вАФ –љ–µ –ї–µ—Б–∞, –∞ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞!
–Э–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –±—Г–≥–Њ—А–Њ–Ї, –≥–ї—П–і—М, вАФ –∞ —Н—В–Њ –Ї–∞—Б–Ї–∞.
–І—Г—В—М –Ї–Њ–њ–љ—Г–ї, –Є –≤–Њ—В —В–µ–±–µ –Ї–Њ—В–µ–ї–Њ–Ї –і–∞ –ї–Њ–ґ–Ї–∞,
–Є –љ–∞–і —Н—В–Є–Љ –љ–∞–і–Њ –≤—Б–µ–Љ вАФ —П–≥–Њ–і–∞ –Љ–Њ—А–Њ—И–Ї–∞.
–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ—А–Њ—И–Ї–Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –љ–∞ –Њ–і—А–µ –њ–µ—А–µ–і —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ—Л–є –Я—Г—И–Ї–Є–љ. –Ь–Њ—А–Њ—И–Ї–∞ –Є –≤ —А–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П ¬Ђ–љ–∞–і–Њ –≤—Б–µ–Љ¬ї.
–Ю–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –љ–∞ –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ—З–Є—В–∞—В–Є–≤–∞ вАФ ¬Ђ–≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ—М—П¬ї, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є, —З—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Г—О —Б–Ї–Њ—А–±—М, –љ–µ –Є–Ј–±—Л—В—Г—О –Є —Б–њ—Г—Б—В—П –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–Њ–±–µ–і—Л, –љ–Њ –Є –≥–Њ—А–µ—З—М, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Г—О, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –і–≤—Г–Љ—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є: –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ, –љ–µ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ, –∞ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ, –Є –≤—Л—Б—В–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–ї-–Х–≤—А–Њ–њ—Л —В–µ–ї–∞–Љ–Є –љ–∞—И–Є—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї. –Р –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —В—Л—Б—П—З –њ–∞–≤—И–Є—Е –љ–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ—Л –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А.
–≠—В–Њ—В –∞–≤—В–Њ—А –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—Б-–Ї—Г—А–Њ—А—В–∞ –Я–∞—В—В–∞–є—П. –Т –њ–µ—Б–љ–µ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–±–∞–є–љ–µ—А—Л¬ї (–Ї–∞–Ї –Є —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –≤ ¬Ђ–Ґ–Є—И–Є–љ–µ¬ї) –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –і–∞–µ—В, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –∞—В—А–Є–±—Г—В–Њ–≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ—Г–њ–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є¬ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—П —Б–Њ–ї—П—А–Є–Є, —Б—Г—И–Є-–±–∞—А—Л, –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Б–µ—В–µ–≤—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В-—А–µ—Б—Г—А—Б—Л –Є —В.–і.
–Т –∞–≤—В–Њ—А–µ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ—В–µ—Б—В, –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–µ –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞ –Ї —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є—О, –∞ –≤ –≤–Є–і–µ —П—А–Ї–Њ–≥–Њ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–Љ—Г –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е ¬Ђ—Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, –≤—А–Њ–і–µ, –Ї–∞–Ї –±—Л –Є –љ–µ—В¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є—Е –љ–µ—В –≤ —Н—Д–Є—А–µ. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –°–Ь–Ш –љ–∞–≤—П–Ј–∞–ї–Є –Ј–∞ –і–≤–∞-—В—А–Є –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е, –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤—А–Њ–і–µ –Є –љ–µ—В.
–Ф–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤,¬†
—В–∞–Љ, –≥–і–µ –љ–µ—В –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е –±—Г—В–Є–Ї–Њ–≤,¬†
—В–∞–Љ –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–і–Є –ґ–Є–≤—Г—В,¬†
–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ—О—В...
–£ –љ–Є—Е –љ–µ—В –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –≥–∞—А–љ–Є—В—Г—А—Л,¬†
–љ–∞–њ–ї–µ–≤–∞—В—М –Є–Љ –љ–∞ —Н–Љ–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г,
–љ–µ —Б–Є–і—П—В ¬Ђ–≤–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞—Е¬ї, –≤ –Њ–љ–ї–∞–є–љ–∞—Е, вАФ
–Њ–љ–Є –≤–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–±–∞–є–љ–∞—Е!!!!!
–°—В—А–Њ–Ї—Г —Б –Ї–Њ–Љ–±–∞–є–љ–∞–Љ–Є –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –њ–Њ–µ—В —Б –њ–∞—Д–Њ—Б–Њ–Љ, —Б –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–Њ–є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–∞–ї—М—И–µ –Є–і–µ—В —А–∞–Ј—Г—Е–∞–±–Є—Б—В—Л–є –њ—А–Є–њ–µ–≤, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ—Л–є –≤ —В–µ–Љ–њ–µ –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–∞—З–Ї–Є –Є–ї–Є –њ—А—Л–≥–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ –Ї–Њ—З–Ї–∞–Љ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–Њ–≤–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є —В–µ–Ї—Б—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –њ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –≤–µ—Й–Є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–Є–≤—Л—Е –Є —В—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—А–Њ—Б—П—В:
–Т—Л–њ–Є–ї –¶—Н-–Ф–≤–∞-–Р—И-–Я—П—В—М-–Ю-–Р—И
—Б–µ–ї –љ–∞ ¬Ђ–Э–Є–≤—Г –†–Њ—Б—В—Б–µ–ї—М–Љ–∞—И¬ї,¬†
–љ–∞ –Ф–Ґ, –Ф–Њ–љ-500, –Ґ-150,¬†
–њ–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є–≤ –њ–µ—А–µ–і —Н—В–Є–Љ –њ–Њ—А–Њ—Б—П—ВвА¶
–Т–Њ—В —Н—В–Є –њ–Њ—А–Њ—Б—П—В–∞ —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞ћБ–ї–Є –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –і–∞–ґ–µ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–ї—П–љ–Њ–Ї, –≥–і–µ –љ–∞ —В–∞–љ—Ж–∞—Е, –њ–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞, –µ–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –љ–∞—А–Њ–і –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –Ї—А—П–і—Г, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П —Б –≥–Є—В–∞—А—Л –љ–∞ –≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї —Б–∞–Љ–Њ—Г—З–Ї–Њ–є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —А–Њ–і–Є—З–µ–є. –Ч–∞ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Њ–є —Б–њ–Є—А—В–∞ C2H5(OH), –Ј–∞ –Љ–∞—А–Ї–∞–Љ–Є —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј—В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –≤—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤—И–Є–µ —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж ¬Ђ—В—Л—Й–Є —В—А–Є¬ї, –Є –љ–µ –Њ—В–Љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ—В –∞—А–Љ–Є–Є –≤ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–±–∞–є–љ–µ—А—Л, —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Є—Б—В—Л, –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Є –∞—А–±—Г–Ј–љ—Л—Е —Д—Г—А, / –≠—В–Є –њ–∞—А–љ–Є –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–µ—З—В–Њ–є –≥–ї–∞–Љ—Г—А–љ—Л—Е –і—Г—АвА¶¬ї. –Я–µ—Б–љ—П —А–∞–Ј–≥–Њ–љ—П–ї–∞—Б—М, –љ–∞–±–Є—А–∞—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–∞—Д–Њ—Б, —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ —Б –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –Ъ–Њ–љ–і–Њ–ї–Є–Ј—Г –†–∞–є—Б —Б—Г—З–Ї–Њ–є (¬Ђ–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –Њ—В—А–µ–±—М–µ –љ–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –љ–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В–µ –љ–∞—Б!¬ї), —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Є–Љ–љ–Њ–Љ (–љ–µ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –і—А—Г–≥-–Ї–Њ–Љ–±–∞–є–љ–µ—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ –І–µ –У–µ–≤–∞—А–Њ–є), –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј—Г—П—Б—М –≤ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Г—О –љ–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М. –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О, —З—В–Њ –∞–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ–љ –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–≤ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В. –Э–Њ –њ–µ—Б–љ—П —Б–∞–Љ–∞ —Б–Њ–±–Њ–є вАФ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–Љ.
вА¶–Є –њ–Њ—И–µ–ї –Ј—П–±—М –њ–∞—Е–∞—В—М, –Љ–Њ–ї–Њ—В–Є—В—М —П—З–Љ–µ–љ—М,¬†
–±—Г–і–µ—В –і–Њ–ї–≥–Є–Љ-–і–Њ–ї–≥–Є–Љ-–і–Њ–ї–≥–Є–Љ —В–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є –і–µ–љ—М.
–≠—В–∞ –њ–µ—Б–љ—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –њ–∞—Ж–∞–љ–∞–Љ вАФ¬†
–≤–Њ–ї–≥–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–±–∞–є–љ–µ—А–∞–Љ, —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Є—Б—В–∞–Љ, –њ–∞—Б—В—Г—Е–∞–Љ!¬†
–°–ї–∞–≤–∞ –≤–∞–Љ!
–Ч–∞–њ–ї–∞—З–µ—И—М —В—Г—В! –Ф–∞–≤–љ–µ–љ—М–Ї–Њ –Љ—Л –љ–µ —Б–ї—Л—Е–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ! –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ вАФ –Ї–∞–Ї —В—А–∞–Љ–њ–ї–Є–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –њ–Њ–і–њ—А—Л–≥–љ—Г–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–µ—Б–љ–µ–є, –Љ—Л –Ј–∞–≤–Є—Б–∞–µ–Љ –љ–∞–і –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М—О –Є, –≥–ї—П–і—П –≤ –±–µ–Ј–і–љ—Г, –Є–Ј—Г–Љ–ї—П–µ–Љ—Б—П: –Ї–∞–Ї –ґ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б –љ–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г—И–µ–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В—А—Г–і–∞, —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—О—Й–Є–є –≤—Б–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Ї–Њ—А–Љ—П—Й–Є–є –љ–∞—Б –≤—Б–µ—Е, –∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–Њ–љ–Є–ї–Є —Н—Д–Є—А —В–µ, –Ї–Њ–≥–Њ –њ—А—П–Љ–Њ –Є –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –±–µ—Б–љ—Г—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П.
–Ю–± –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–Њ–≤–∞—П –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М (–µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є вАФ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є, –∞ –і—П–і—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ь–Њ—Е–Њ–≤, –Є–Ј —В–Њ–є –ґ–µ –†–∞–Ї–Њ–≤–Ї–Є, вАФ –∞–≤—В–Њ—А –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Б–µ–љ, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ—Л—Е –Ш. –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Л–Љ –њ–Њ–і –≥–Є—В–∞—А—Г), —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П: –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –і–Њ 2015 –≥. –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞ ¬Ђ–С—Г—Д—Д¬ї (–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –ї–∞—Г—А–µ–∞—В –Т—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ —Н—Б—В—А–∞–і—Л 2006 –≥., —Б–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Є–љ–Њ). –Ш —З—В–Њ –Ј–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –њ–∞—А–µ–љ—М –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –Я–Є—В–µ—А–µ (–≤ –†–∞–Ї–Њ–≤–Ї–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є –Є –Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ), –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ –Њ–і–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –µ–Ј–і–Є—В –љ–∞ –Є–љ–Њ–Љ–∞—А–Ї–µ. ¬Ђ–С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–µ–ї—М–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –Є –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ –Ї—А–∞—Б–µ –љ–Њ–≥—В–µ–є¬ї, вАФ —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ. –£ –Т—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ (—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —З—В–Є–Љ–Њ–≥–Њ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Л–Љ), —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –±—Л–ї –Ї—А—Г—В–Њ–є –і–ї—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ ¬Ђ–Ј–∞—Б—В–Њ—П¬ї ¬Ђ–Љ–µ—А—Б¬ї, –љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ —Б—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–µ—Б–љ–Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л –і–ї—П —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є?¬†
–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ, —Н—В–Њ –≤–µ–і—М –Ш–≥–Њ—А—М –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤, –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є–є —Б—А–µ–і–Є –і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–µ—В –Є –Њ–± –Є—Е –ґ–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є вАФ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є –Є—Е –і—Г—И, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Є—Е —А–µ—З—М—О, –Є—Е –±–Њ–ї—М—О. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Є –љ–∞—И–µ–є –Њ–±—Й–µ–є, —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є.¬†
–Т–Ј–ї–Њ—Е–Љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М —Б –і–≤—Г—Е—А—П–і–Ї–Њ–є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В –љ–µ—З—В–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–∞—Б, –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–∞ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–≤. –Ш —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ—Й–µ —И–Є—А–µ: –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А, –љ–∞ ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г¬ї. –Э–∞–≤—П–Ј—И–Є–µ —Г –≤—Б–µ—Е –≤ –Ј—Г–±–∞—Е –њ–Њ–њ—Б—Г –Є –≥–ї–∞–Љ—Г—А –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ-—В–∞–Ї–Є –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–µ—В вАФ —Б–≤–Њ–µ–є –±—Л–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤—А–∞–≥—Г, —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Ї–Њ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–µ—В –≤ –ї–Є—Е–Њ–є, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –Є —В–Њ—З–љ–Њ–є ¬Ђ–Ъ–∞–Ј–∞—З—М–µ–є –њ–µ—Б–љ–µ¬ї.
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Н—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–±–Њ—П—В—М—Б—П, —А–Є—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –Њ ¬Ђ–і—А—Г–ґ–±–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤¬ї, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–∞–±—Л—В—М –Њ —В–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—В —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И–Є —О–ґ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л, –љ–Њ, —Г–≤—Л, –Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –і–∞–ґ–µ. ¬Ђ–У–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б–љ–Є–Љ–∞—О –ї–µ–≥–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —И–ї—П–њ—Г —Б –њ–Њ–і—Б–Њ–ї–љ—Г—Е–∞...¬ї вАФ –њ–µ–ї –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –µ—Й–µ –і–Њ 2010 –≥. –Њ —А—Г–±–Ї–µ —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ. –Ф–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –∞–≤—В–Њ—А–∞, ¬Ђ–Ъ–∞–Ј–∞—З—М—П –њ–µ—Б–љ—П¬ї вАФ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ –і–љ–µ–Љ.¬†
¬Ђ–Я–µ—Б–љ—П –Њ —А–∞–љ–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ XVвАФXVII –≤–µ–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М —Б –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є. –Ь—Л –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Ї–Њ—Б—В—А–Є—Й–µ –Њ—В–≥—А–µ–±–ї–Є. –Ш –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Б–љ–Є–ї—Б—П —Б–Њ–љ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–є –Ї –њ–µ—Б–љ–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–њ–∞–ї–Є –Љ—Л –≤ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Б–µ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤—Л –њ–Њ—И–ї–Є –Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є. –°–∞–Љ —П —Б —И–∞—И–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П —Г–Љ–µ—О, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ¬ї.¬†
–Ю—В—З–µ–≥–Њ –ґ–µ –Љ—Л —Б–≥–ї–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ —Б–ї–µ–Ј—Л, —Б–ї—Г—И–∞—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞? –Ь–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Н—В–Њ –Є –Њ —Б–µ–±–µ, –љ–Њ –≤–Њ—В —З–Є—В–∞—О —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤ –±–ї–Њ–≥–µ –Ц–Ц —Г —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –У–Ґ–†–Ъ ¬Ђ–Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї¬ї, –њ–Њ—Н—В–∞ –Х–ї–µ–љ—Л –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Њ–є, –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –љ–µ–µ. –Ш –≤–Є–ґ—Г –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—И–Є–µ—Б—П, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –ї–Є—Ж–∞ –њ–∞—А–љ–µ–є –Є –і–µ–≤—З–Њ–љ–Њ–Ї –≤ —В–µ–ї–µ—Б—В—Г–і–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є –њ—А–Њ—А–∞—Б—В–∞–µ—В –†–Њ–і–Є–љ–∞. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤ –љ–Є—Е, –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є—В–µ–ї—П—Е, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є—Е –љ–∞ —Б—К–µ–Љ–Ї—Г –≤ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—Г–і–Є–є–љ–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, —Н—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ, —Н—В–∞ –≤–і—А—Г–≥ –њ—А–Њ—А–µ–Ј–∞–≤—И–∞—П—Б—П –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї–µ, –Ї —А–∞–Ј—Г–і–∞–ї–Њ–є, –љ–Њ –Є –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є, —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л ¬Ђ–і–Њ –Њ–њ—Л—В–∞¬ї.
–≠—В–Њ –≤–∞–Љ –љ–µ ¬Ђ–±–∞—А–і–Њ–≤ –Ї–∞—А—В–Њ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П¬ї. –Ю—В–і–∞–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ –ї—Г—З—И–Є–Љ –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –±–∞—А–і–Њ–≤, —П —Е–Њ—З—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Г –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ вАФ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–љ–∞—П –њ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П —Н–љ–µ—А–≥–Є—П, —Н—Б—В–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є, –љ–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–љ–∞—П –≤ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ (–Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ–Љ –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О —А–Є—В–Љ–Є–Ї—Г, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —А–Њ–Ї-—Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є–Ї—Г). –Р —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ вАФ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–∞—П, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї—М—Ж–µ–≤ —Б—В—А–∞–љ—Л, —В—А—Г–і—П–≥ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–£–ґ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—В—М —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞, –Њ—З–µ—А—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ–Ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Г –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ вАФ —Б–≤–Њ—П –Њ—Б–Њ–±–Є–љ–Ї–∞, –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т –љ–µ–Љ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Г–і–∞–ї—М, –љ–Њ —Г–і–∞–ї—М –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —Г–Љ–љ–∞—П –Є —В–Њ–љ–Ї–∞—П, —З—В–Њ –ї–Є, вАФ –±–µ–Ј —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–і—А—Л–≤–∞ –С–∞—И–ї–∞—З—С–≤–∞, –±–µ–Ј –љ–µ–њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ—Л—Е —В–Њ—Б–Ї–Є –Є –Ї—А–Є–Ї–∞ –®–µ–≤—З—Г–Ї–∞, –±–µ–Ј –њ–Њ—Д–Є–≥–Є–Ј–Љ–∞ –І–Є—Б—В—П–Ї–Њ–≤–∞. –У—А—Г—Б—В–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ –љ–µ—Б—Г—В –≤ —Б–µ–±–µ –Є –≤–µ–Ї–Њ–≤—Г—О –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–Є, –Є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–µ. –Т—Л–є—В–Є –Ї –ї—О–і—П–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –≤ —В–µ—Е–љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —Б –≥–∞—А–Љ–Њ–љ—М—О, вАФ —Н—В–Њ –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–µ—А–Ј–Њ—Б—В—М, –Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є. –≠—В–Њ—В –∞–≤—В–Њ—А —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–≤–Њ–µ–є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ, –њ–Њ–і—Б–њ—Г–і–љ—Л–µ —В–Њ–Ї–Є.¬†
–†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ вАФ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л—Е —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–є –Є —Н–љ–µ—А–≥–Є–є. –Т –љ–µ–Љ —Б–њ–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ: –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є—Е —А–Є—В–Љ–Њ–≤ (–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–≥–Њ–ї–µ—В –≤—А–µ–Љ—П, –Є –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –і–µ—В—М—Б—П, –Њ —В–Њ–Љ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –У. –°–≤–Є—А–Є–і–Њ–≤ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ —Г–і–Є–≤–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї—Г –Т. –Р—Б—В–∞—Д—М–µ–≤—Г), –Њ–љ –љ–∞–і–µ–ї—П–µ—В —А–µ—З—М—О, –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ–Љ–Њ—В—Г –і–Њ–ї–≥–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Е–Њ—В—М –Є –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–Њ –њ–Њ–і—З–∞—Б –≤—Б–µ –ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В; –Є —Н—В–Њ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є).
–Я–µ—Б–љ—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞¬ї —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—В—З–µ–≤–Њ-—Б–Ї–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Њ–є –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–µ–≤.
–Я–Њ –њ–ї–∞—З—Г—Й–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –љ–µ —З—Г—П —Б–∞–њ–Њ–≥–Њ–≤,
–љ–∞—И –Њ–±–µ—Б–Ї—А–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В—А—П–і —Г—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –≤—А–∞–≥–Њ–≤.
вА¶
–Р –љ–∞—И–Є —П–Ї–Њ–±—Л –і—А—Г–Ј—М—П –Ј–∞—Б–µ–ї–Є –Ј–∞ –±—Г–≥—А–Њ–Љ,¬†
–Є —Б–Љ–Њ—В—А—П—В, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б –±—М—О—В, –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—П –≥–ї–∞–Ј,¬†
–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞ –љ–∞—Б.
¬†вАФ –Т—Л—В—А–Є —Б–ї—С–Ј—Л, –Њ—В–і–Њ—Е–љ–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ!
–ѓ вАФ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞вА¶
–І—Г–і–µ—Б–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ —Н—В–Њ–є –њ–µ—Б–љ–µ –љ–∞—Б —Б–њ–∞—Б–∞—О—В —В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є, —В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А–Њ–Ј—Л, —В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—Б–∞.
¬Ђ–Я—А–Є—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ вАФ –љ–∞–Љ –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–љ–∞—П –Љ–∞—В—М, / –љ–Њ –µ—Б—В—М –≤—А–µ–Љ—П —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М—Б—П, –∞ –µ—Б—В—М –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—МвА¶¬ї вАФ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤, –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ –і–≤—Г—Б—В–Є—И—М—П –і–∞—А—Г—П –љ–∞–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ, –∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –∞—Г–Ї–∞—П—Б—М —Б –≤–µ—В—Е–Њ–Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–Љ –≠–Ї–Ї–ї–µ–Ј–Є–∞—Б—В–Њ–Љ.
–Т —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ –Љ—Л –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ –Ј–∞ —З–Є—Б—В—Г—О –Љ–Њ–љ–µ—В—Г –Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–µ —З—Г—П —Б–∞–њ–Њ–≥–Њ–≤¬ї (–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАФ ¬Ђ—Б–∞–њ–Њ–≥¬ї), –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–µ—А–Є—Д—А–∞–Ј –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ ¬Ђ–љ–µ —З—Г—П –љ–Њ–≥¬ї.¬†
¬Ђ–ѓ –Ї —Б–µ–±–µ —Б —О–Љ–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И—Г—Б—М, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ —А–∞—Б—Д—Г—Д—Л—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ, —Б–Љ–µ—И–љ–Њ, вАФ —Г–Љ—Г–і—А–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤, вАФ –Э–∞ –≤—Б–µ –≤–Њ–ї—П –С–Њ–ґ—М—П!¬ї
–Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ—Л–є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—С–Љ:
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ, —Н—В–Њ –Љ—Л –≤–њ–µ—А—С–і –Є–і—С–Љ...¬†
вА¶
–Я—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–Љ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–∞ –Њ—В –С–Њ–≥–∞
—А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞, —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞.
–°–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А—Г—О –Х. –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Г:¬†
¬Ђ–Т "–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ" вАФ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–∞—П —И–Є—А–Њ—В–∞ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –≠—В–Њ –ґ–µ "–Ь–µ—А—В–≤—Л–µ –і—Г—И–Є", —В–Њ–Љ –і–≤–∞! –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–і—С—В –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –±–Є—В–≤—Л, –љ–µ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є, –љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е. –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї –≥–Њ–ї–Њ—Б —Б–∞–Љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–ЄвА¶ –Ч–і–µ—Б—М –Љ–∞–µ—В–∞ –Є –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В—М –і—Г—И–µ–≤–љ–∞—П, –љ–∞—Б—В–µ–ґ—М –Є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–∞—П. –Ш —Н—В–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–µ –Њ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–∞–ї–∞–љ—В–µ —А–µ—З—М, –∞ –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, –Њ–± –∞—Г—В–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ¬ї.
–Ш–≥–Њ—А—М –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤, —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—О—Й–Є–є –љ–µ–Ї–Є–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ—Л–є –њ—Г–љ–Ї—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, вАФ —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–∞—А–Љ–Њ—И–µ—З–љ—Л–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–Є–≥—А—Л—И–Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–љ–Ї–µ. –≠—В–Њ вАФ –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ–µ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ–Њ–є –≥–∞—А–Љ–Њ—И–Ї–Њ–є.¬†
¬Ђ–Т–Њ—В –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П —А–µ—З—М¬ї, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л –љ–∞—И —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї, –њ–Њ—Н—В –Ѓ—А–Є–є –Ъ–∞–±–∞–љ–Ї–Њ–≤. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ш–≥–Њ—А—П –†–∞—Б—В–µ—А—П–µ–≤–∞ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б —А–µ—З—М—О –µ—Й—С –Є –Љ–µ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –¶–Є—В–Є—А—Г–µ–Љ –µ–≥–Њ ¬Ђ–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ¬ї, –Є–Ј –∞—Г–і–Є–Њ–∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞ 2023 –≥.
–Т —А–Њ–і–љ–Њ–є, –Ј–∞–±—Л—В—Л–є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ вАФ
–Т —Б–∞–і—Г, —Г –њ—А—ГћБ–і–∞ вАФ
–Т—З–µ—А–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–Њ–Ї,
–Я—А–Є—И—С–ї –Њ—В—В—Г–і–∞,
–У–і–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М¬†
–Т –ї–Є—Ж–Њ —Н–њ–Њ—Е–µ,
–Ш —З—Г–і–Њ–Љ –љ–µ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П —В–∞–Љ
–Т —З–µ—А—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ—Е–µ.
вА¶
–Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –Ї–∞–Ї –Є—Е —Б–Љ–µ–ї–ЊћБ¬†
–Ю–і–љ–Є–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ,
–Ъ–∞–Ї —И–ї–Є –≤ –Њ–≥–Њ–љ—М —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤–Є–Ї–Є
–Я–Њ–і –°–Њ–ї–µ–і–∞—А–Њ–Љ,
вА¶
–Ъ–∞–Ї –Є—Е –Ј–∞—И–ї–Њ —Б—В–Њ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В,¬†
–Р –≤—Л—И–ї–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М.
вА¶
–С–Њ–ї—В–∞–ї–Є –≤ —В–µ–ї–µ–Ї–µ –Њ–њ—П—В—М,¬†
–° –ї—Г–Ї–∞–≤—Л–Љ —Б–Љ–µ—Е–Њ–Љ.
–Ш, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Ј–і–µ—Б—М,
–Р –Њ–љ вАФ —Г–µ—Е–∞–ї.
–Ф—А—Г–≥ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В –°–Т–Ю –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М —А—Г–±–µ–ґ–Є –Ф–µ—А–ґ–∞–≤—Л –Њ—В –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞, –Є –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–њ–µ—З–∞—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П —В–Њ—З–љ–∞—П, –Ј—А–Є–Љ–∞—П –і–µ—В–∞–ї—М —Н–њ–Њ—Е–Є, —Г—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Љ–µ—В–Ї–Њ–Љ –Ј–≤—Г—З–љ–Њ–Љ —З–∞—Б—В—Г—И–µ—З–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–њ–µ–≤–∞–љ–Є–Є: ¬Ђ–°–љ–Њ–≤–∞ –Њ–≥—Г—А—Ж—Л-–њ–µ—А—Ж—Л; / –Э–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж–µ —Б—В–Њ—П—В –±–µ—А—Ж—Л¬ї.
–Р –≤–Њ—В –Є –≥–ї–∞—Б –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –Є –≤–љ—П—В–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є –њ–Њ–і —А–Њ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П:
¬Ђ–Ш–≥–Њ—А—М, –Т–∞—И–Є –њ–µ—Б–љ–Є вАФ –ї—Г—З—И–∞—П –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Є—Й–∞ –і–ї—П –і—Г—И–Є. –Т—А–∞–≥–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–Њ–љ–Є–ї–Є —П—Й–Є–Ї —З–µ—А—В—П–Љ–Є —А–∞–Ј–Љ–∞–ї–µ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ—О—Й–Є–Љ–Є –њ—Г—Б—В—Л–µ –і–µ—И–µ–≤—Л–µ –њ–µ—Б–µ–љ–Ї–Є, –∞ –Т–∞—Б —В–∞–Љ –љ–µ—В. –Т—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–љ–∞–ї–∞—Е. –° –≤–∞—И–Є–Љ–Є —З–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є, –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є, –±—М—О—Й–Є–Љ–Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є —Б–∞–Љ—Г—О –і—Г—И—Г –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є. –° –Т–∞—И–µ–є –≤–Њ–ї—И–µ–±–љ–Њ–є –≥–∞—А–Љ–Њ–љ—М—О, –Њ—В –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —А–µ–≤–µ—В—М —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–Њ—В. –°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Т–∞–Љ. –•—А–∞–љ–Є –Т–∞—Б –С–Њ–≥!¬ї
 вАЛ
вАЛ