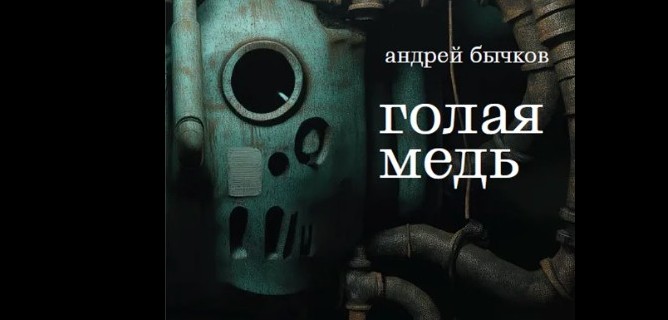«ДРөСҖжи РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ!В» Рҳли РҙРҫлгРҫРө СҚС…Рҫ РҝР°РҪРҙРөРјРёРёвҖҰ
«ДРөСҖжи РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ!В» Рҳли РҙРҫлгРҫРө СҚС…Рҫ РҝР°РҪРҙРөРјРёРёвҖҰ
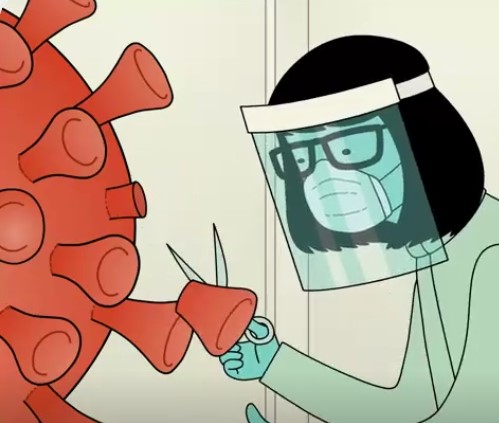
РһСӮ Р РөРҙР°РәСӮРҫСҖР°
РҹРҫР·РҙСҖавлСҸРөРј РҪР°СҲРөРіРҫ РҙавРҪРөРіРҫ авСӮРҫСҖР° ВлаРҙРёРјРёСҖР° РЎРҝРөРәСӮРҫСҖР° СҒ Р”РҪРөРј СҖРҫР¶РҙРөРҪРёСҸ. РҹРөСҖРөСҮРёСӮСӢРІР°РөРј РөРіРҫ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢРө РәСҖРёСӮРёСҮРөСҒРәРёРө, Р°РҪалиСӮРёСҮРөСҒРәРёРө СҒСӮР°СӮСҢРё, Р¶Рҙём РҪРҫРІСӢС…: В«СҚРәСҒРәР»СҺР·РёРІРҪРҫ РҙР»СҸ РҡамРөСҖСӮРҫРҪа»! ДлСҸ СҮРөРіРҫ Р·Р°СҒСӮРҫР»Рұили РјРөСҒСӮРҫ Рё РҝСҖРёРҙСғмали РҫРұСүРёР№ СҒР»РҫРіР°РҪ: «СРҝРөРәСӮСҖалСҢРҪСӢР№ Р°РҪализ».В
РҳРіРҫСҖСҢ РЁСғРјРөР№РәРҫ
![]()
Рңихаил Р“СғРҪРҙР°СҖРёРҪ, В«Mindest kontakt erforderlichВ». РһРұР·РҫСҖ РҝРҫРІРөСҒСӮРё,В Р¶СғСҖРҪал В«РқРөва», в„– 5-2024 Рі.
Р’СҖРөР·РәР° РҫСӮ СҖРөРҙР°РәСҶРёРё В«РқРөРІСӢВ»:
РҹРҫРІРөСҒСӮСҢ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫзаиРәР° Рңихаила Р“СғРҪРҙР°СҖРёРҪР° СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ Рҫ РҪРөРҙавРҪРөРј СӮСҖагиСҮРөСҒРәРҫРј РІСҖРөРјРөРҪРё РҝР°РҪРҙРөРјРёРё РәРҫСҖРҫРҪРҫРІРёСҖСғСҒРҪРҫР№ РёРҪС„РөРәСҶРёРё. РҗРІСӮРҫСҖ Р·РҪР°РәРҫРјРёСӮ СҮРёСӮР°СӮРөР»РөР№ СҒРҫ СҒРІРҫРөРҫРұСҖазРҪРҫР№ РҝР°РҪРҫСҖамРҫР№ жизРҪРё, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ СҖазРҪСӢРө Р»СҺРҙРё РҝРҫ-СҒРІРҫРөРјСғ РҝСҖРёСҒРҝРҫСҒР°РұливалиСҒСҢ Рә РҪРҫРІСӢРј СғСҒР»РҫРІРёСҸРј, СҒСӮР°СҖР°СҸСҒСҢ СғРұРөСҖРөСҮСҢСҒСҸ РҫСӮ СҒРјРөСҖСӮРҫРҪРҫСҒРҪРҫР№ РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё, РҝСӢСӮР°СҸСҒСҢ РҝРҫРҪСҸСӮСҢ РҝСҖРёСҮРёРҪСӢ Рё СҒР»РөРҙСҒСӮРІРёСҸ, СҖазРҫРұСҖР°СӮСҢСҒСҸ РІ СӮРҫРј, В«СҮСӮРҫ РҙРөлаСӮСҢВ» Рё В«РәСӮРҫ РІРёРҪРҫРІР°СӮВ». РҡажРҙР°СҸ глава вҖ” РәР°Рә РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢР№ СҖР°СҒСҒРәаз, Рё РІСҒРө РҫРҪРё взаимРҫСҒРІСҸР·Р°РҪСӢ лиСҲСҢ РІСҖРөРјРөРҪРөРј Рё РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮвами, Р° СӮР°РәР¶Рө РІСҒРөРҫРұСүРөР№ РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮСҢСҺ, РІСӢРҪСғР¶РҙР°СҺСүРөР№ РёСҒРәР°СӮСҢ РІСӢС…РҫРҙ РёР· СҒРёСӮСғР°СҶРёРё, СғРіСҖРҫжаСҺСүРөР№ РҝСҖРёРІСӢСҮРҪРҫР№ жизРҪРё, Р»РҫРјР°СҺСүРөР№ СҒСӮРөСҖРөРҫСӮРёРҝСӢ РәалРөСҮР°СүРөР№ СҒСғРҙСҢРұСӢ. РҡажРҙСӢР№ РІСӢживаРөСӮ РІ РҫРҙРёРҪРҫСҮРәСғ. РӯСӮРҫСӮ РҙРөРІРёР· РІРҫРҝР»РҫСүРөРҪ РІ РҪазваРҪРёРё РҝРҫРІРөСҒСӮРё РҝСҖРёР·СӢРІРҫРј РјРёРҪРёРјРёР·РёСҖРҫРІР°СӮСҢ РәРҫРҪСӮР°РәСӮСӢ. РқРҫ РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮСҒСҸ СҚСӮРҫ Сғ РІСҒРөС… РҝРҫ-СҖазРҪРҫРјСғ.
![]() вҖӢ
вҖӢ
РҹРөСҖРІСӢР№ РІРҫРҝСҖРҫСҒ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІРҫР·РҪРёРәР°РөСӮ РҝСҖРё СҮСӮРөРҪРёРё РҝРҫРІРөСҒСӮРё Рңихаила Р“СғРҪРҙР°СҖРёРҪР° вҖ” В«РҹРҫСҮРөРјСғ РҪазваРҪРёРө РҪР° РҪРөРјРөСҶРәРҫРј СҸР·СӢРәРөВ»? РҹРҫРҪРёРјР°СҺ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҫСӮРіРҫР»РҫСҒРҫРә РҝР°РҪРҙРөРјРёРё, СҒСӮавСҲРөР№ СҒРІРҫРөРҫРұСҖазРҪСӢРј СӮСҖРёРіРіРөСҖРҫРј РҙР»СҸ РҪР°РҝРёСҒР°РҪРёСҸ РҝРҫРІРөСҒСӮРё (С…РҫСӮСҸ РІ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё РІ СӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РұСӢР»Рҫ РұРҫР»РөРө РҝСҖРёРІСӢСҮРҪСӢРј СҒР»РҫРІРҫСҒРҫСҮРөСӮР°РҪРёРө В«Halt AbstandВ» или «ДРөСҖжи РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҺВ»). Р РөСҮСҢ РІ РҝРҫРІРөСҒСӮРё РҪРө Рҫ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё, Рё С…РҫСӮСҢ РҙРөР№СҒСӮРІРёРө РәажРҙРҫР№ главСӢ СҖазвиваРөСӮСҒСҸ РІ Р РҫСҒСҒРёРё, РҫРҪР° Рё РҪРө Рҫ Р РҫСҒСҒРёРё, Р° Рҫ СҒСӮСҖР°РҪРҪРҫСҒСӮРё РұСӢСӮРёСҸ (Рё РұСӢСӮР°, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ), РҝРҫСҖСғСҲРөРҪРҪРҫРіРҫ Р·Р°РҝСҖРөСӮами Рё РҫРіСҖР°РҪРёСҮРөРҪРёСҸРјРё, СҒСӮСҖахами СҖРөалСҢРҪСӢРјРё Рё РјРҪРёРјСӢРјРё, СҖазРҫСҮР°СҖРҫРІР°РҪРёСҸРјРё Рё РҪР°РҙРөР¶Рҙами, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝРҫРҙРҙРөСҖживали РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІРҫ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ Р—Рөмли РІ РҝРөСҖРёРҫРҙ РІСӢРҪСғР¶РҙРөРҪРҪРҫРіРҫ РҫРҙРёРҪРҫСҮРөСҒСӮРІР° РҝРҫСҒСҖРөРҙРё РҝСҖРёСӮРёС…СҲРөРіРҫ РјРҪРҫРіРҫР»СҺРҙСҢСҸ. Рҳ РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, Рҫ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮРё РјРёРҪРёРјРёР·РёСҖРҫРІР°СӮСҢ РәРҫРҪСӮР°РәСӮСӢ (СҮСӮРҫ РҫСӮСҖажРөРҪРҫ РІ РҪазваРҪРёРё) Рё РҙРөСҖжаСӮСҢ РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ СҒРҫ РІСҒРөРјРё, РҝСҖРөР¶РҙРө РІСҒРөРіРҫ СҒ РІРёСҖСғСҒами Рё РёС… РҪРҫСҒРёСӮРөР»СҸРјРё (СҮСӮРҫ Р·Р°СҮР°СҒСӮСғСҺ СӮСҖСғРҙРҪРҫРІСӢРҝРҫР»РҪРёРјРҫ, Р° РёРҪРҫРіРҙР° РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҪРөСҖРөалСҢРҪРҫ). РқСғ, Р° РҝРҫСҮРөРјСғ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪ РҪРөРјРөСҶРәРёР№ РҝСҖРёР·СӢРІ, вҖ” РҪавРөСҖРҪРҫРө, РҙР»СҸ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫРұСӢ РҝРҫРҙСҮРөСҖРәРҪСғСӮСҢ РҫРұСүРҪРҫСҒСӮСҢ СҒРёСӮСғР°СҶРёРё, СҚРјРҫСҶРёР№, СҒСӮСҖахРҫРІ Рё РҫжиРҙР°РҪРёР№, РҪРөзавиСҒРёРјРҫ РҫСӮ РјРөСҒСӮР° РҝСҖРҫживаРҪРёСҸ Рё СҸР·СӢРәР° РҫРұСүРөРҪРёСҸ. РһРҙРёРҪР°РәРҫРІРҫ РҝР»РҫС…Рҫ РұСӢР»Рҫ РІСҒРөРј, Р° РІСҒРөРҫРұСүРөРө РҪРөРҝРҫРҪРёРјР°РҪРёРө РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙСҸСүРөРіРҫ, РІРҪРөР·Р°РҝРҪРҫСҒСӮСҢ РІСӢРұРҫСҖР°, СҒСӮРҫСҸРІСҲРөРіРҫ РҝРөСҖРөРҙ РәажРҙСӢРј вҖ” РұСӢСӮСҢ или РҪРө РұСӢСӮСҢ РҝСҖРёРІРёРІРәам, РІРөСҖРёСӮСҢ РІ РҪРёС… или РҪРөСӮ, Р° РІ РәРҫРҪРөСҮРҪРҫРј РёСӮРҫРіРө вҖ” жиСӮСҢ или СғРјРөСҖРөСӮСҢ, РҙРҫРІРөли Р°РұСҒСғСҖРҙРҪРҫСҒСӮСҢ РҝРҫРІСҒРөРҙРҪРөРІРҪРҫСҒСӮРё РҙРҫ РіСҖР°РҪРё СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёСҸ РІ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРө РІ СҒСӮРёР»Рө «фСҚРҪСӮРөР·РёВ». Рҳ СҚСӮРҫ РҪРө РёСҖРҫРҪРёСҸ Рё РҪРө СҒР°СҖРәазм. РӯСӮРҫ СҖРөалии РҝР°РҪРҙРөРјРёРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪСӢ РІ РҝРҫРІРөСҒСӮРё РІ РІРёРҙРө РҝР°РҪРҫСҖамСӢ глав-СҒСҺР¶РөСӮРҫРІ, РҪРө СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢС… РҫРұСүРёРјРё РіРөСҖРҫСҸРјРё, РҪРҫ РҫРұСҠРөРҙРёРҪРөРҪРҪСӢС… РІСҖРөРјРөРҪРөРј Рё РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫРј РіРҪРөСӮСғСүРёС… РҫжиРҙР°РҪРёР№ Рё РҫРҝР°СҒРөРҪРёР№. Р’СҖРөРјРөРҪРөРј, РәРҫРіРҙР° РұР°СҖРјРөРҪ, СҒРјРөСҲРёРІР°СҸ РәРҫРәСӮРөйли, СҖР°СҒСҒСғР¶РҙР°РөСӮ РҪРө Рҫ РјРҫРҙРҪСӢС… СӮСҖРөРҪРҙах Рё СҒРҝР»РөСӮРҪСҸС… РёР· РјРёСҖР° РұРҫРіРөРјСӢ, Р° РҫРұ РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫСҒСӮСҸС… Р·Р°РұРҫР»РөРІР°РҪРёСҸ, СҒСғСӮРё РІР°РәСҶРёРҪР°СҶРёРё Рё РҝРөСҖСҒРҝРөРәСӮивах РұСӢСӮРёСҸ Рё РҪРөРұСӢСӮРёСҸ. Р Р°СҒСҒСғР¶РҙР°РөСӮ СҒ РІРёРҙРҫРј Р·РҪР°СӮРҫРәР°, СҒСӮавСҸ РІРҫРҝСҖРҫСҒСӢ, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҫСӮРІРөСӮРҫРІ РҪРөСӮ Рё РҝРҫ СҒРөР№ РҙРөРҪСҢвҖҰ
«ВаСҒ РҪРө СғРҙРёРІР»СҸРөСӮ, СҮСӮРҫ РІ РҝРөСҖРІСӢР№ РіРҫРҙ РІСӢ РҪРө РІРёРҙРөли РҪРё РҫРҙРҪРҫРіРҫ Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёСҸ Рҫ СҒРјРөСҖСӮРё РҫСӮ РәРҫСҖРҫРҪавиСҖСғСҒР°? РҹРҫСӮРҫРј РҙР°, СҒСӮали РҝРёСҒР°СӮСҢ. Р’Р°РәСҶРёРҪР° вҖ” РҪР° СҖРөСҒРҝРёСҖР°СӮРҫСҖРҪСӢР№ РІРёСҖСғСҒ (РәР°Рә РҝлаСӮС„РҫСҖРјСғ) РҝСҖРёСҶРөРҝили СҮР°СҒСӮСҢ РәР°РҝСҒСғР»СӢ СҒ РәРҫРҙРҫРј РәРҫСҖРҫРҪавиСҖСғСҒР°, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҙРҫлжРөРҪ РҫСӮСҖРөагиСҖРҫРІР°СӮСҢ РІР°СҲ РёРјРјСғРҪРёСӮРөСӮ. РўРөР»Рҫ РҝРҫСҒР»Рө СғРәРҫла РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮ РәР°Рә РјРёРҪРёРјСғРј РҙРІСғС… РІСҖагРҫРІ: Р°РҙРөРҪРҫРІРёСҖСғСҒ Рё РәРҫРҙ РәРҫСҖРҫРҪавиСҖСғСҒР°вҖҰ РҳСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸ СҖРөР°РәСҶРёР№ РҪР° СҚСӮРҫСӮ РәРҫРҙ РҪРө РҝСҖРҫРІРҫРҙРёР»РҫСҒСҢ. РўРҫ, СҮСӮРҫ РІРҪРөРҙСҖРөРҪРҪСӢРө РҙРІР° РІСҖага СҖазРұалаРҪСҒРёСҖСғСҺСӮ СӮРөР»Рҫ, РҪР°РҙРөСҺСҒСҢ, СҒРҫРјРҪРөРҪРёР№ РҪРөСӮ? РӯСӮРҫ РҝРҫРұРҫСҮРәР°вҖҰ Р’ В«РәСҖР°СҒРҪСӢС… Р·РҫРҪах» РҪахРҫРҙилиСҒСҢ Р»СҺРҙРё СҒ РҝРҫСҖажРөРҪРёРөРј Р»РөРіРәРёС… РҫСӮ Р°РҙРөРҪРҫРІРёСҖСғСҒР° (РҝлаСӮС„РҫСҖРјСӢ) или РҫСӮ РәРҫСҖРҫРҪСӢ? Рҳли СӮРө, Сғ РәРҫРіРҫ РҪРөСӮ РёРјРјСғРҪРҪРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ? Рҳ РҝРҫСҮРөРјСғ Сғ РҪРёС… РІРҙСҖСғРі РөРө РҪРө СҒСӮалРҫ? РһСӮ СҖазРұРҫРјРұР»РөРҪРҪСӢС… РІСҖагРҫРј С…СҖРҫРјРҫСҒРҫРј? Рҳли РҫСӮ СҖР°СҒСҒСӮСҖРөР»СҸРҪРҪСӢС… Р°РҝРҝР°СҖР°СӮРҫРј РҳР’Рӣ Р»РөРіРәРёС…? Рҗ РҪРө СғРјРөСҖли ли Р»СҺРҙРё РҫСӮ РІСӮРҫСҖРёСҮРҪРҫР№ РёРҪС„РөРәСҶРёРё (СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РҫСӮ РҝРҪРөРІРјРҫРҪРёРё), Р° СҒРҫРІСҒРөРј РҪРө РҫСӮ РәРҫСҖРҫРҪавиСҖСғСҒР°? Рҗ РҝРҫСҮРөРјСғ Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёСҸ РҝР°СӮРҫР»РҫРіРҫР°РҪР°СӮРҫРјРҫРІ РҙРөСҖжаСӮ Р·Р° СҒРөРјСҢСҺ РҝРөСҮР°СӮСҸРјРё? Рҗ РҪРө СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ ли СҚРјРҫСҶРёСҸ СҒСӮСҖаха, РҪагРҪРөСӮР°РөРјР°СҸ РҫСҖРіР°РҪами влаСҒСӮРё, СӮСҖРёРіРіРөСҖРҫРј РҙР»СҸ СҖРөР°РәСҶРёРё СӮРөла РҪР° СҖРөСҲРөРҪРёРө Р·Р°РұРҫР»РөСӮСҢВ»?В
Р’СҖРөРјСҸ РІРөСҖРҪРҫРө Рё РҪРөРІРөСҖРҪРҫРө, РІРҪРөРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРө, РҝРҫР»СғРұРҫР»СҢРҪРҫРөвҖҰ Р‘СӢР»Рҫ СҖР°РҙРёРҫ СҒР°СҖафаРҪРҪРҫРө, СҒСӮалРҫ вҖ” РәР°СҖРјР°РҪРҪРҫРө, РІСӢСҲРёРІРҪРҫРө. Р’СҖРөРјСҸ РҙлиРҪРҪРҫРө Рё РәРҫСҖРҫСӮРәРҫРө, РІРҫР»РҪСӢ-РІРёСҖСғСҒСӢ, СӮСҚРіРё-РјРёРәСҖРҫРұСӢвҖҰ Р‘СҢСҺСӮ РјРёРҪСғСӮСӢ РҝСҖСҸРјРҫР№ РҪавРҫРҙРәРҫСҺ. РңРёСҖ РҪРө РұРҫР»РөРҪ. РқРҫ РұРҫли РҝРҫРҙРҫРұРөРҪвҖҰВ Р‘РҫР»СҢ РҝСҖРҫСҒСӮСғРҝР°РөСӮ СҒРәРІРҫР·СҢ СҒСӮСҖРҫРәРё РІСҒРөС… глав-СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ, Рё СҚСӮРҫ РөСҒСӮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, РІРөРҙСҢ РұРҫР»РөР·РҪСҢ РұРөР· РұРҫли РҪРө РұСӢРІР°РөСӮ, Р° РҝР°РҪРҙРөРјРёСҸ вҖ” СҚСӮРҫ Рҫ РұРҫР»РөР·РҪРё. РўСҖРҫРіР°СӮРөР»СҢРҪСӢР№ СҖазгРҫРІРҫСҖ РұСӢРІСҲРёС… СҒСғРҝСҖСғРіРҫРІ РІ РәРҫС„РөР№РҪРө СҒРҪР°СҮала РәажРөСӮСҒСҸ Р»РөРіРәРёРј, РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮРҪСӢРј, РёСҖРҫРҪРёСҮРҪСӢРј, Рё СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ СҒамРҫРј РәРҫРҪСҶРө РІРҙСҖСғРі РҝРҫРҪРёРјР°РөСҲСҢ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ лиСҲСҢ СӮРөРҪРё СғСҲРөРҙСҲРёС… РІ РҪРөРұСӢСӮРёРө РІСҒС‘ РөСүРө Р»СҺРұСҸСүРёС… РҙСҖСғРі РҙСҖСғРіР° Р»СҺРҙРөР№. РҹРҫРҪРёРјР°РөСҲСҢ, РәРҫРіРҙР° СҖазгРҫРІРҫСҖ РҫРұСҖСӢРІР°РөСӮСҒСҸ РҪР° РҝРҫР»СғСҒР»РҫРІРө, Рё РҫРҪРё РёСҒСҮРөР·Р°СҺСӮвҖҰВ
РҹСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөли СҒРөРәСҒСғалСҢРҪСӢС… РјРөРҪСҢСҲРёРҪСҒСӮРІ РёСҒСҮРөР·Р°СҺСӮ РІ РҙСҖСғРіРҫР№ главРө СӮРҫР¶Рө. РқРҫ лиСҲСҢ СҮР°СҒСӮРёСҮРҪРҫ, РёРұРҫ РҝРҫСҖРҫРә, СҒСғРҙСҸ РҝРҫ РІСҒРөРјСғ, РұРөСҒСҒРјРөСҖСӮРөРҪ, РәР°Рә СҖРҫРҙ Р»СҺРҙСҒРәРҫР№. РҹРҫСҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ СҚСӮРё РҪРөРҫСҖРҙРёРҪР°СҖРҪСӢРө РҝРөСҖСҒРҫРҪажи РІ РҪРөРәРҫР№ РәРҪРёРіРө РІСӢРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫРіРҫ РәР°РҪР°РҙСҒРәРҫРіРҫ авСӮРҫСҖР°, живСғСүРөРіРҫ РІ ТаилаРҪРҙРө (РҫРұРёСӮРөР»СҢ РҝРҫСҖРҫРәРҫРІ РҫРәазалаСҒСҢ РәРҫРјС„РҫСҖСӮРҪСӢРј РҝСҖРёРұРөжиСүРөРј РҙажРө РІ РҝРҫСҖСғ СҖазгаСҖР° РҝР°РҪРҙРөРјРёРё). Р’СҒСҸ глава РҝРҫРҙ РҪазваРҪРёРөРј «СайСҖСғСҒ РЎРјРёСӮ-РқафаРҪРёСҸ РўРІРөлв, РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢВ» РҝСҖРё РІСҒРөРј СӮСҖагизмРө СҒРёСӮСғР°СҶРёРё Р·Р°РұавРҪР° Рё РёСҖРҫРҪРёСҮРҪР°, СҮСӮРҫ РҪРөРјСғРҙСҖРөРҪРҫ РҙР»СҸ РјРёСҒСӮифиРәР°СҶРёРё Рё лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫРіРҫ СҖРҫР·СӢРіСҖСӢСҲР°. РңифиСҮРөСҒРәРёР№ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢ или РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢРҪРёСҶР° СҒРҫ Р·РҪР°РҪРёРөРј РҙРөла РҫРҝРёСҒСӢРІР°РөСӮ СҚСҖРҫСӮРёСҮРөСҒРәРёРө фаРҪСӮазии СҺРҪСӢС… РёСҒРәР°СӮРөР»РөР№ РҝСҖРёРәР»СҺСҮРөРҪРёР№ РҪР° РҝСҖРёСҮРёРҪРҪРҫРө РјРөСҒСӮРҫ РҫРұРҫРёС… РҝРҫР»РҫРІ, СҒСҖРөРҙРё РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҪаиРұРҫР»РөРө РёСҖРҫРҪРёСҮРҪРҫ РёР·РҫРұСҖажРөРҪ РҪРөРәРёР№ РҳРІР°РҪ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ В«РҝСҢРөСӮ РјРҪРҫРіРҫ РІРҫРҙРәРё, РәСғСҖРёСӮ, РІСҒСӮСғРҝР°РөСӮ РІ РҝРҫР»РҫРІСӢРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө Р°РұСҒРҫР»СҺСӮРҪРҫ СҒРҫ РІСҒРөРјРё РІРҫРәСҖСғРі, РІРәР»СҺСҮР°СҸ... Р»РөСӮСғСҮРёС… РјСӢСҲРөР№В».
РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РҫРҪ РјСғРҙСҖСҒСӮРІСғРөСӮ Р»СғРәавРҫ, РҝСҖРҫРёР·РҪРҫСҒРёСӮ РјРҫРҪРҫР»РҫРіРё Рҫ РәРҫРІРёРҙРө Рё РҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРө, Р° СӮР°РәР¶Рө РҫРұ РёСҒСӮРҫСҖРёРё СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒСӮРІР°, СҖРөРіСғР»СҸСҖРҪРҫ РҝРөСҖРөживавСҲРөРј РІ СҖазРҪСӢРө РІРөРәР° РІСҒРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢРө РҝР°РҪРҙРөРјРёРё РІ РҫжиРҙР°РҪРёРё РҪРөРёР·РұРөР¶РҪРҫРіРҫ РәРҫРҪСҶР° СҒРІРөСӮР°.В Р•СҒСӮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, РјРҫРҪРҫР»РҫРі В«Russian Ivan РөСҒСӮСҢ РҪРө СҮСӮРҫ РёРҪРҫРө, РәР°Рә РјРҫРҪРҫР»РҫРі РіРҫСҒРҝРҫРҙРёРҪР° РӣРөРұРөРҙРөРІР° РёР· вҖңРҳРҙРёРҫСӮР°вҖқ РӨ. Рң. Р”РҫСҒСӮРҫРөРІСҒРәРҫРіРҫ (СҮР°СҒСӮСҢ СӮСҖРөСӮСҢСҸ, глава СҮРөСӮРІРөСҖСӮР°СҸ)! Р РөСҮСҢ СӮам, РҝСҖавРҙР°, РҪРө Рҫ РәРҫРІРёРҙРө, РҪРҫ Рҫ РіРҫР»РҫРҙРөВ». РқРҫ РәР°РәР°СҸ СҖазРҪРёСҶР°. Р’РөРҙСҢ РұРөР· Р”РҫСҒСӮРҫРөРІСҒРәРҫРіРҫ СғРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёРө Рҫ СҖСғСҒСҒРәРҫРј РҳРІР°РҪРө, РІРёРҙРёРјРҫ, РұСӢР»Рҫ РұСӢ РҪРөР·Р°СҮС‘СӮРҪСӢРј. РҡСҒСӮР°СӮРё, РІ РәРҫРҪСҶРө СҒСҖРөРҙРё РҪРөРјРҪРҫРіРёС… РІСӢживСҲРёС… (РІ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРө РҫСҖРіРёР№ Р·Р°СҖазилиСҒСҢ РІСҒРө) РҫРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ Рё РҳРІР°РҪ. РһРҪ, РәР°Рә РҫРұСҖаз, СӮРҫР¶Рө РұРөСҒСҒРјРөСҖСӮРөРҪ. СамРҫР»РөСӮ СғРҪРҫСҒРёСӮ СҺРҪСӢС… РұРөР·РҫРұСҖазРҪРёСҶ, Р° РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҪРёРјРё Рё РҳРІР°РҪР° РІ РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪРҫРө РҙалРөРәРҫ, Рә РҪРҫРІСӢРј РҫСӮРәСҖСӢСӮРёСҸРј СҮСғРҙРҪСӢРј (СӮРҫ ли РІСӢСҲРө, СӮРҫ ли РҪРёР¶Рө РҝРҫСҸСҒР°). Рҳ РІСҒС‘ СҚСӮРҫ РіСҖСғСҒСӮРҪРҫ Рё СҒРјРөСҲРҪРҫ. РқРҫ, РәР°Рә РҝР°СҖРҫРҙРёСҸ, СғРјРөСҒСӮРҪРҫ Рё РҝРҫР·РҪаваСӮРөР»СҢРҪРҫ.
В«РһРҪРё СҒРјРҫСӮСҖРөли РҪР° Р·РөР»РөРҪРҫРө РјСҸСҒРҫ РәРҫРҪСӮРёРҪРөРҪСӮР°, РҝСҖРёРҝСҖавлРөРҪРҪРҫРө Р·РөР»РөРҪРҫРІР°СӮРҫ-РіРҫР»СғРұСӢРј РәР°СҖСҖРё РҫРәРөР°РҪР°. РҡажРҙР°СҸ РҙСғмала Рҫ СҒРІРҫРөРј. Рһ РҝРөСҖРөРҪРөСҒРөРҪРҪРҫРј РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёРё РҪРө РҙСғмал РҪРёРәСӮРҫ. РқРҫ РІСҒРө Р·РҪали: РҫРҪРҫ РҙР°РҪРҫ СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒСӮРІСғ РҪРө Р·СҖСҸ. РңСӢ Р·Р°СҒР»Сғжили РөРіРҫ. РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ СҮРөРј, РҪРҫ Р·Р°СҒР»Сғжили. РқР°РҙРҫ СӮРөСҖРҝРөСӮСҢ Рё РІРөСҖРёСӮСҢ, РәР°Рә СғР·РҪРёРә СҒРјРҫСӮСҖРёСӮ РІ Р·Р°СҖРөСҲРөСҮРөРҪРҪРҫРө РҫРәРҫСҲРәРҫ, СҒРјРҫСӮСҖРёСӮ РҪРөРҙРөР»СҸРјРё, Р° РҝРҫСӮРҫРј РІРҙСҖСғРі Р·Р°РҝРҫРөСӮ РІРҫ РІРөСҒСҢ РіРҫР»РҫСҒ: вҖһLetвҖҳs my people goвҖңВ».
РңСғР·СӢРәРё РҪРөСӮ. Рҗ РёРіСҖала СӮР°Рә РІРөСҒРөР»Рҫ. Р§СӮРҫ-СӮРҫ СҒР»РҫмалРҫСҒСҢ. Рҳ СҚС…Рҫ РјРҫР»СҮРёСӮ. Р§СӮРҫ Р¶ СӮСӢ, РәСғРҙСҖСҸРІР°СҸ, РҪРҫСҒ СҒРІРҫР№ РҝРҫРІРөСҒила? РҡР°Рә Р·Р°СҖазиСӮРөР»РөРҪ «виРҙ РҪР° РңР°РҙСҖРёРҙВ»вҖҰ РҡР°Рә Р·Р°СҖазиСӮРөР»СҢРҪСӢ Рё РҫРұРөР·Р·РІСғСҮРөРҪСӢ РјР°СҒРәРё РҪР° лиСҶах Рё РұРҫР»СҢ РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫР№. РқРҫРІРҫСҒСӮРё жалСҸСӮ, РәР°Рә РіР°РҙСӢ РіСҖРөРјСғСҮРёРө, РјСғР·СӢРәСғ РіР»СғСҲРёСӮ РҝРҫлзСғСҮРёР№ РҝРҫРәРҫР№вҖҰ
Р•СҒСӮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, РҝРҫРәРҫР№ РёРј РІСҒРөРј (РҝРөСҖСҒРҫРҪажам РҝРҫРІРөСҒСӮРё) СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒРҪРёСӮСҒСҸ, С…РҫСӮСҸ Рҫ РІРөСҮРҪРҫРј РҝРҫРәРҫРө СҲР°РҪСҒ Р·Р°РҙСғРјР°СӮСҢСҒСҸ РёРјРөСҺСӮ РІСҒРө, РёРұРҫ РҫРҪ РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РҝР°РҪРҙРөРјРёРё СҖРөалРөРҪ Рё РҝРҫ-СҒРҫСҒРөРҙСҒРәРё РұлизРҫРә. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, СҒРҫСҒРөРҙСҸРјРё, РҝРҫ РұРҫР»СҢСҲРҫРјСғ СҒСҮРөСӮСғ, РІ СҚСӮРҫРј РјРёСҖРө СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ РІСҒРө РҫРұРёСӮР°СӮРөли РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІР° РәРҪРёРіРё, Р° РҫРҪРҫ РІРјРөСҒСӮРёР»Рҫ РІ СҒРөРұСҸ Рё СҚлиСӮРҪСғСҺ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҸСүСғСҺ СҒРөРјСҢСҺ РёР· РҙР°СҮРҪРҫРіРҫ РҝРҫСҒёлРәР° РҙР»СҸ РёР·РұСҖР°РҪРҪСӢС…, Рё С„СҖилаРҪСҒРөСҖР°, СҮСҢС‘ РҫРұРҫРҪСҸРҪРёРө СҒСҖавРҪРёРјРҫ РҝРҫ РҝР°СҖамРөСӮСҖам СҒ СӮалаРҪСӮРҫРј РҝР°СҖС„СҺРјРөСҖР°, РҝСҖРёРҙСғРјР°РҪРҪРҫРіРҫ Р—СҺСҒРәРёРҪРҙРҫРј (Рё РҙажРө флСҺРёРҙСӢ РәРҫРІРёРҙР° РҫРҪ СҖазлиСҮР°РөСӮ, РҫРҝР°СҒР°СҸСҒСҢ Рё РҪР°РҙРөСҸСҒСҢ РҫРҙРҪРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ). Рҗ СҖСҸРҙРҫРј СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢР№ Р“РөСҖР°СҒРёРј, РіРҫСӮРҫРІСӢР№ РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ СғСӮРҫРҝРёСӮСҢ РҙРҫРјР°СҲРҪРөРіРҫ РәРҫСӮР° РёСҒРәР»СҺСҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РёР· СҮРөР»РҫРІРөРәРҫР»СҺРұРёСҸ Рё РҙР°РұСӢ РҪРө РҝРҫРҙРІРөСҖРіР°СӮСҢ СҒРөРјСҢСҺ (Рё СҒРөРұСҸ!!!) РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё Р·Р°СҖазиСӮСҢСҒСҸ РұР°СҶиллами РәРҫРІРёРҙР° (Р° РёС…-СӮРҫ, РҫРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ, РәРҫСӮСӢ Рё РҝРөСҖРөРҪРҫСҒСҸСӮ). РҹСҖРҫРұР»РөРјСӢ Сғ РІСҒРөС… СҖазРҪСӢРө: РҫСӮ СҒСғРҝСҖСғР¶РөСҒРәРёС… РёР·РјРөРҪ, СҮСҖРөРІР°СӮСӢС… Р»СҺСӮРҫР№ РјРөСҒСӮСҢСҺ, РҪРөРІР·РёСҖР°СҸ РҪР° СҖРөжим РёР·РҫР»СҸСҶРёРё Рё РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮСҢ РҙРөСҖжаСӮСҢ РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ, РҙРҫ РҪавСҸР·СҮРёРІСӢС… РёРҙРөР№ Рё СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёР№, РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, РҝСҖРҫСҒСӮРёСӮРөР»СҢРҪСӢС… РІ Р°СӮРјРҫСҒС„РөСҖРө РІСҒРөРҫРұСүРөРіРҫ СҒСӮСҖаха Рё РәРҫСҖРҫРҪавиСҖСғСҒРҪСӢС… РҫжиРҙР°РҪРёР№. Р’ СҶРөР»РҫРј, РҝР°РҪРҫСҖама РҝР°РҪРҙРөРјРёР№РҪРҫР№ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё РҫРҝСӮРёРјРёР·РјР° РҪРө РІСӢР·СӢРІР°РөСӮ, С…РҫСӮСҸ, РөСҒли РҝРөСҖРөС„СҖазиСҖРҫРІР°СӮСҢ РәлаСҒСҒРёРәР°: В«РӣСҺРҙРё РәР°Рә Р»СҺРҙРё. РӣСҺРұСҸСӮ РҙРөРҪСҢРіРё. Р’РҫСӮ СӮРҫР»СҢРәРҫ РәРҫРІРёРҙ РёС… СҒР»РөРіРәР° РёСҒРҝРҫСҖСӮил». Рҳ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮСҢ РҙРөСҖжаСӮСҢ РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ, СҮСӮРҫ РҪРөР»РөРіРәРҫ РІРөР·РҙРө, РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РІ РіРҫСҖРҫРҙРө РҙРөСӮСҒСӮРІР°, РәСғРҙР° РҝСҖРёРөзжаРөСӮ РҫРҙРёРҪ РёР· РҝРөСҖСҒРҫРҪажРөР№. Рҳ С…РҫСӮСҢ РІРёСҖСғСҒ РҝРөСҖРөРјРөСүР°РөСӮСҒСҸ РІ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРө, РҪРө СӮРөСҖСҸСҸ СҒРІРҫРёС… Р·Р°СҖазиСӮРөР»СҢРҪСӢС… РәР°СҮРөСҒСӮРІ, РІСҒС‘ Р¶Рө РІ РҝСҖРҫРІРёРҪСҶРёРё РІСҒС‘ РІРҫСҒРҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮСҒСҸ РёРҪР°СҮРө, СҮРөРј РІ СҒСӮРҫлиСҶРө. РһСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РІ СҖазгРҫРІРҫСҖРө СҒ СғСҮРөРҪСӢРј РҙСҖСғРіРҫРј, РұСӢРІСҲРёРј СҒРҫСҒРөРҙРҫРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№, РіР»СҸРҙСҸ СҒРҫ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ, РІРёРҙРёСӮ РІСҒС‘, РҙажРө СӮРҫ, СҮРөРіРҫ РҪРөСӮ.В
В«вҖҰР“РҫСҖРҫРҙ РәажРөСӮСҒСҸ РҪРёР·РәРёРј, СӮСғСҒРәР»СӢРј, РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ РҫРұСҒСӢРҝР°РҪРҪСӢРј СҒРөСҖСӢРј РІСғР»РәР°РҪРёСҮРөСҒРәРёРј РҝРөРҝР»РҫРј. Р—РөР»РөРҪРё малРҫ, Р·Р°СӮРҫ РҪРөРұР° РјРҪРҫРіРҫ вҖ” Р·РҙР°РҪРёСҸ РҪРө Р·Р°СҒР»РҫРҪСҸСҺСӮ. РқРҫ Рё РҪРөРұРҫ РәР°РәРҫРө-СӮРҫ РҪРөРІСӢСҒРҫРәРҫРө, СҒ СҖРөРҙРәРёРјРё СҒРөСҖРҫРІР°СӮСӢРјРё РҫРұлаСҮРәами. Р’ РңРҫСҒРәРІРө РҪРөРұРҫ РҙСҖСғРіРҫРө. Рҳ РҫРұлаРәР° РҙСҖСғРіРёРө. РңРҪРҫРіРҫфигСғСҖРҪСӢРө, Р·Р°СӮРөйливСӢРө. Р—РҙРөСҒСҢ Р¶Рө СҒСӮРөРҝСҢ СҖСҸРҙРҫРј СҒ РҫРҙРҪРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ, СҒ РҙСҖСғРіРҫР№ вҖ” РіРҫСҖСӢ, СҒСғС…Рҫ, СҮСӮРҫ РҫРұлаСҮРҪРҫРјСғ СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІСғ РІСҖРөРҙРёСӮвҖҰВ
вҖ” Рқам РҪСғР¶РҪР° РұСӢла СҚСӮР° РҝР°РҪРҙРөРјРёСҸ, СҮСӮРҫРұСӢ С…РҫСӮСҢ РәР°Рә-СӮРҫ СғСҖавРҪСҸСӮСҢ РІСҒРөС…. Р РөРІРҫР»СҺСҶРёСҸ СҒРІРҫРөРіРҫ СҖРҫРҙР°. Р’ РңРҫСҒРәРІРө-СӮРҫ СғСҖРҫРІРөРҪСҢ СҒРјРөСҖСӮРҪРҫСҒСӮРё СӮРҫР¶Рө Рҫ-РіРҫ-РіРҫ. Р”СғРјР°РөСҲСҢ, СҒР»СғСҮайРҪРҫ? РқРөСӮ, СҒР»СғСҮайРҪРҫ РҪРёСҮРөРіРҫ РҪРө РұСӢРІР°РөСӮ. Там СҒРҫРұСҖалаСҒСҢ РІРөСҖС…СғСҲРәР°, С…РҫСӮСҢ РҝСҖРҫСҖРөРҙРёСӮСҢ РөРө. Рҳ РҪРҫРІР°СҸ РҝР°РҪРҙРөРјРёСҸ РҙР»СҸ СӮРҫРіРҫ Р¶Рө РҪСғР¶РҪР°вҖҰВ»
РһСҒСӮавим Р·Р° СҒРәРҫРұРәами СҸСҖРәРёРө РәСҖР°СҒРәРё, РҙРҫРұавим РҙРҫР¶РҙРё, РІСӢСҮСӮРөРј Р·РёРјРҪРөРө РІСҖРөРјСҸ. Рҳ СҮСӮРҫ РІ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө? РһРҝР°СҒРҪРҫ РұРөР· РјР°СҒРәРё. РһРҝР°СҒРҪРҫ РұСӢСӮСҢ СҒ СӮРөРјРё, Рё СҒСӮСҖР°СҲРҪРҫ вҖ” РҪРө СҒ СӮРөРјРё. Р—РёРјР° РҪР° РҝРҫСҖРҫРіРө. Рҳ РІ СҖРёСӮРјРө ВивалСҢРҙРё СғС…РҫРҙСҸСӮ РҫРҙРҪРё, Р° РҙСҖСғРіРёРө СҒРјРөСҺСӮСҒСҸ. Рҳ РІСҖРөРјСҸ РІРјРөСҖР·Р°РөСӮ РҝРҫРҙ Р»РөРҙ РҪР° Р°СҒфалСҢСӮРө, РәР°Рә РІРөСҮРҪР°СҸ СӮРөРҪСҢ РјРёСҖРҫРІСӢС… СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёР№вҖҰВ Р‘СғРҙРөСӮ ли РҪРҫРІР°СҸ РҝР°РҪРҙРөРјРёСҸ, СҒСӮР°РҪРөСӮ ли РөРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРҫРҪРҪСӢРј? Рҳли СғР¶Рө С…РІР°СӮРёСӮ РҪам РҫРҙРҪРҫР№. Р‘РҫРі РІРөСҒСӮСҢ. РҡРҪРёРіР° РҪРө РҙР°РөСӮ РҫСӮРІРөСӮРҫРІ, Р’РјРөСҒСӮРҫ РҪРёС… вҖ” РјРҪРҫРіРҫСӮРҫСҮРёРө.В
«СРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, РҫСҮРөСҖРөРҙРҪР°СҸ РІРҫР»РҪР° РҝР°РҪРёРәРё РҝРҫСҲла РҪР° СҒРҝР°Рҙ, РІСҒРө РІРҙСҖСғРі РІСӢР·РҙРҫСҖРҫРІРөли, РәСӮРҫ РөСүРө СҒРјРҫРі СҚСӮРҫ СҒРҙРөлаСӮСҢВ».В
РҡР»СҺСҮРөРІРҫРө СҒР»РҫРІРҫ вҖ” «вСӢР·РҙРҫСҖРҫРІРөли». РЎРјРҫР¶РөСӮ ли РІСӢР·РҙРҫСҖРҫРІРөСӮСҢ РҫРұСүРөСҒСӮРІРҫ, РәРҫРіРҙР° РәСҖРҫРјРө РәРҫРІРёРҙР° СӮР°Рә РјРҪРҫРіРҫ РҙСҖСғРіРёС…, РҪРө РјРөРҪРөРө СҒРјРөСҖСӮРөР»СҢРҪРҫ РҫРҝР°СҒРҪСӢС… РҝСҖРҫРұР»РөРј? ЧиСӮР°СӮРөР»СҺ РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РІСҒРҝРҫРјРёРҪР°СӮСҢ РҝСҖРҫСҲР»РҫРө, РІРөСҖРёСӮСҢ РІ РұСғРҙСғСүРөРө Рё Р°РҪализиСҖРҫРІР°СӮСҢ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө. Рҳ С…РҫСҖРҫСҲРҫ, СҮСӮРҫ РҝРҫРІРөСҒСӮСҢ Рң.Р“СғРҪРҙР°СҖРёРҪР° РҝРҫРјРҫРіР°РөСӮ РІ СҚСӮРҫРј. РқРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РІСӢРҪРөСҒРөРҪРҪРҫРө РІ загРҫР»РҫРІРҫРә РҝСҖРөРҙСғРҝСҖРөР¶РҙРөРҪРёРө Рҫ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮРё РјРёРҪРёРјРёР·РёСҖРҫРІР°СӮСҢ РҫРұСүРөРҪРёРө. РқРҫ СҒ РәРҪигами РҫРұСүР°СӮСҢСҒСҸ РҪРө Р·Р°РҝСҖРөСүРөРҪРҫ. РҘРҫСӮСҸ, РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҺ РҪСғР¶РҪРҫ РҙРөСҖжаСӮСҢ Рё РІРҫ РІСҖРөРјСҸ СҮСӮРөРҪРёСҸ.В
![]() вҖӢ
вҖӢ