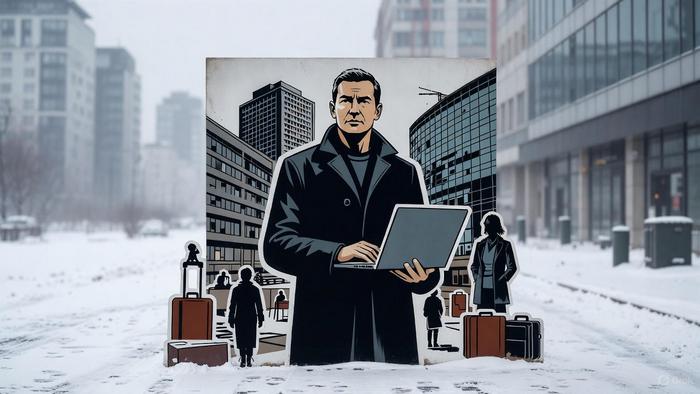–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –¥βÄô–ê―Ä–Κ
–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –¥βÄô–ê―Ä–Κ

–î–Ψ–Φ–Α –Β―ë –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ-–Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η βÄî –•–Α–Ϋ–Ϋ–Β―²–Ψ–Ι...
–½–Α―²–Ψ ―É –Ϋ–Β―ë –±―΄–Μ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ψ –Κ―Ä―ë―¹―²–Ϋ―΄―Ö βÄî ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, –Α –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä, –Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Ι ―²–Α–Κ―É―é –Ε–Β ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é, –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Β―ë, –Η ―¹―΅–Η―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Β―ë ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨.¬†–û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ βÄî –î–Ψ―΅―¨, ¬Ϊpucell–Β¬Μ.
–‰―²–Α–Κ, ―Ä–Β―΅―¨ –Η–¥―ë―² –Ψ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Β –¥–Β –ê―Ä–Κ, –Ζ–Α–≥–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―É―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Μ–Ψ―²–Α―Ä–Η–Ϋ–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ–Ψ–≤, –Α –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι –™―Ä―ë ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Α–Κ –±―΄ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Ζ–Α―²–Ψ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α, –Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ζ–Α ―Ä–Β–Κ–Ψ–Ι –€―ë–Ζ–Ψ–Ι (–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β –€–Α–Α―¹) ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―Ä―΄―Ü–Α―Ä–Β–Ι. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Α ―¹ –≤–Α–Φ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è. –Δ–Α–Κ ―É–Ε –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α, –≤–Η–¥–Β–≤―à–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α, –Η ―¹–Α–Φ–Α –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –¥–Β–≤―É―à–Κ–Ψ–Ι-–≤–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι. –ù–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Η –Ϋ–Β―²―Ä–Η–≤–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η―è ―¹ –Φ–Η―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι βÄî –Κ–Α–Κ, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η ―¹―²–Η―Ö–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ βÄî –±―΄–Μ–Η –Β–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄, ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–¥–Β–Κ―¹ ―΅–Β―¹―²–Η ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―è –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ω―¨―è¬Μ. –‰―²–Α–Κ, –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–ΦβÄΠ
–î–Ψ–Φ-–†–Β-–Φ–Η
–ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Κ–Μ–Η–Ω ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η Era¬†–Ϋ–Α –Ω–Β―¹–Ϋ―é ¬Ϊ–ê–Φ–Ψ–Ϋ–Β –¥–Ψ ―Ä–Η –Φ–Β¬Μ? βÄî –ö―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–Μ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ, ―²–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―é –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ (–≤―΄―à–Β,¬†βÄ―Ä–Β–¥.). –Δ–Α–Φ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ϋ―è, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Α―è, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ 12 –Μ–Β―², βÄî ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―΅–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α ―¹ ―Ä―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –£ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Β―ë ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―Ö ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±–Β–Μ–Η―¹–Κ–Η –Η–Ζ ―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Φ–Ϋ―è βÄî ¬Ϊ–Φ–Β–≥–Α–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η¬Μ, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Η―Ö ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η, βÄî –Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Β, –Κ–Α–Κ –Φ–Η―Ä, ¬Ϊ–î–Β―Ä–Β–≤–Ψ ―³–Β–Ι¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–€–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ¬Μ βÄî –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι –±―É–Κ ―¹ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –Β―â―ë –Μ–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Π–Β–Ζ–Α―Ä―è, –Η –Ϋ–Α –≤–Β―²–≤―è―Ö –Β–≥–Ψ –≤–Β―²–≤―è―Ö –≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² ―¹ –Μ–Α―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ logis. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β?¬†
–Θ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ –Η ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―É–≥―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Η―Ü–Α―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨ ―ç―²–Α–Κ–Η–Β ¬Ϊ–¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –¥–Μ―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ βÄî ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Η–Ζ–±―ë–Ϋ–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Β―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Η –Μ–Α–≤–Κ–Η, –Β―¹―²―¨ –Ω–Β―΅–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Α―΅–Κ―É ―¹–Η–≥–Α―Ä–Β―² (–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ζ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β) –Η –≤―¹―ë –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –¥–Μ―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ω–Ψ―²―É―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β. –ê –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―Ä―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–≤, βÄî –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Β–¥ –ù–Α―³–Α–Ϋ―è. –Θ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ε–Β –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ logis, βÄî –Α –≤―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Μ–Ψ–≥–Η―¹―²–Η–Κ–Α¬Μ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η? βÄî –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―¹―è–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤–Κ–Η, ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ –Η ―¹–Α―Ä–Α–Η ―¹ –Η–Ϋ–≤–Β–Ϋ―²–Α―Ä―ë–Φ, –Α –Β―â―ë ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι, –Ω–Μ–Β―²―ë–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ –Μ–Ψ–Ζ―΄ –Η ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ―΄ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ―è–Μ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É –≤–Β―²–≤–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Α, –Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ¬Ϊ–Μ–Ψ–≥–Η―¹–Β¬Μ –Μ–Β―¹–Ϋ–Α―è ―³–Β―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ–Ψ–≤ βÄî –≥―Ä–Α―³–Ψ–≤ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö –Η–Ζ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –î–Ψ–Φ–Α –¥–Β –ê–Ϋ–≥–Μ―é―Ä. –‰, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α―è ―³–Β―è ―è–≤–Μ―è–Μ–Α ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, βÄî –Ϋ―É, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è ―É–Φ–Β―Ä―à–Η―Ö. –£–Ψ―² –≤–Α–Φ –Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤―ë–Ϋ–Ψ–Κ –ù–Α―³–Α–Ϋ―è –Η–Ζ –ù–Η–Ε–Ϋ–Β–Ι –¦–Ψ―²–Α―Ä–Η–Ϋ–≥–Η–Η! –ö―¹―²–Α―²–Η, ―²―É―² –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²―É –¥―Ä–Β–≤–Ϋ―é―é ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―É, βÄî –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―É―é, ―΅–Β–Φ –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α –Ψ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Β –ë–Α―¹–Κ–Β―Ä–≤–Η–Μ–Μ–Β–Ι, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ι–Φ―ë―²–Β, –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Β, –Α –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η, –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Β―¹―²–Η –≤–Β–Ϋ–Κ–Η, ―¹–Η–¥―è –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ–¥ ¬Ϊ–î–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Φ ―³–Β–Ι¬Μ.¬†
–ë―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ...
–û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≥―Ä–Α―³–Ψ–≤ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Κ―²–Ψ –ü―¨–Β―Ä, –±―É–¥―É―΅–Η –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄–Φ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ω–Ψ–¥ ―ç―²–Η–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –î–Α–Φ―É, –Ω–Ψ –≤–Η–¥―É –Ζ–Ϋ–Α―²–Ϋ―É―é –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ–Κ―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²―É―² –Ε–Β –≤–Μ―é–±–Η–Μ―¹―è –±–Β–Ζ –Ω–Α–Φ―è―²–Η. –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –î–Α–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≥―É―â–Β –Φ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―¹–Α –®–Β–Ϋ―¨–Β. –Δ―É–¥–Α –≤–Β–Μ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è―Ö ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―³–Η–Μ–Η–Ϋ―΄ ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―â–Η–Φ–Η –≤–Ψ ―²―¨–Φ–Β –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –‰ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ψ―Ö–Ψ―²―΄, –Ψ–Ϋ ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ–¥ ―ç―²–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Β–Ι.¬†
–Δ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² (–Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ε–Η–Μ–Η –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä―ë―Ö –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Β–Ι), –Ω–Ψ–Κ–Α, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹―²―É–Κ–Α–Μ–Α –Η―Ö –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η. –ê –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―è–Κ–Η–Φ –Α―Ö–Α–Φ –Η –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Α–Φ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β ―É―¹–Ϋ―É–Μ–Η, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Β. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Κ –Η―Ö –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ ―¹–≤–Ψ―é ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η –Ϋ–Η―²―è–Φ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–≤―è–Ζ–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Α ―¹–Α–Φ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨. –ü―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –¥–Α–Φ–Α –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É –Η ―²―Ä―ë–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Ψ―΅–Β―Ä―è–Φ –Ϋ–Β–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄, –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Β –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é ―¹–Κ–Α―²–Β―Ä―²―¨-―¹–Α–Φ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Κ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–Ε–Κ–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Β―à―¨, –Α –Β–¥―΄ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―², –Ψ―¹―²―Ä―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β―Ä–Ω, ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Α―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ―¹–Β–≤―΄, –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –Φ–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä―É―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Β―΅–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Α –≥―Ä–Α―³–Ψ–≤ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –¥–Α–Φ―É.¬†
–Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –≥―É–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―ç―²–Η–Φ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ –±―É–Κ–Ψ–Φ? –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Η―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä–Α–Φ, –Μ―é–¥―è–Φ ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ, –Α –Β―â―ë –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é ―³–Β―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―¹ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ (–Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―¹ ―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Β–Φ ―è–±–Μ–Ψ–Κ). –ù―É, –Α –≤―¹–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –≤ ―²–Β―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤ ¬Ϊ―³–Β–Ι –Η –≤–Ψ–Μ―à–Β–±–Ϋ–Η―Ü¬Μ, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Η–≥―Ä―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η. –ê –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî –±―Ä–Α―²―¨―è –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ –Η –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –€―É–Ϋ―¨–Β.¬†
–‰–≥―Ä–Η―â–Α
–£ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α―Ö –†―É–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α –Β―¹―²―¨ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Η―Ö –Η–≥―Ä. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹–Β–Φ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –±―΄―²―¨ ―³–Β―è–Φ–Η –Η–Μ–Η –≤–Ψ–Μ―à–Β–±–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η, –Α, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É –Ψ―² –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –î―É–±–Ψ–≤―΄–Ι –¦–Β―¹ (–Η–Μ–Η –¦–Β―¹ –®–Β–Ϋ―¨–Β), –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Κ–Η, –Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η βÄî –Η–Ζ-–Ζ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ―è―¹–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β―Ä–Ω―΄, –Α ―²–Ψ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η―΅―¨–Η –Ϋ–Ψ–Ε―΄-―¹–Κ–Η–Ϋ–Ϋ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è ―¹–Ϋ―è―²–Η―è ―¹–Ψ –Ζ–≤–Β―Ä―è ―à–Κ―É―Ä―΄. –ê –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Α–Κ ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Ε –≤–Ψ―²–Κ–Ϋ―É―²―΄–Φ –≤ –Ω–Β–Ϋ―¨ –Η–Μ–Η –≤ –Φ―ë―Ä―²–≤–Ψ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Α –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω ―à―ë–Μ, ―Ö–Φ―É―Ä―è –Φ–Ψ―Ä–¥―É, –Ω–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Α–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ –Μ–Η –Κ―²–Ψ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ε–Η–≤―΄ –Μ–Η –¥–Β―²–Η. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤–Ψ–Μ–Κ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η? –‰–Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-–Μ–Η–±–Ψ –Κ–Ψ–Μ–¥–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Β... ¬Ϊ–ß―²–Ψ –≤―΄, –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω?! βÄî –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Β. βÄî –≠―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –¥–Β―²–Η ―à―É―²―è―²!!!¬Μ βÄî ¬Ϊ–£–Ψ―² ―è –Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É, –Φ–Β―Ä–Ζ–Α–≤–Κ–Α–Φ!!!¬Μ βÄî –Ψ–≥―Ä―΄–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Α –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Κ –¥–Ψ–Φ―É –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α –€―É–Ϋ―¨–Β, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹ –≤–Α–Φ–Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ϋ–Η (–Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–Κ–Α), –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Α –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α–Μ―¨. –Γ –Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι βÄî –Ω–Ψ –Ω―É―²–Η –¥–Ψ–Ϋ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω ―¹―Ä―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ö–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Μ–Β―â–Β –¥–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β–Β. –ù―É, –Α ―΅―²–Ψ –≤―΄ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β? –£―¹–Β–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ βÄî –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! –ê ―²–Ψ –Η –≤–Ω―Ä―è–Φ―¨ –≤–Ψ–Μ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–¥―É―² –Η –¥–Β―²–Β–Ι ―É–Ϋ–Β―¹―É―²! –ë–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Η –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄, –€–Α–Ϋ–Ε–Β―²―²–Α –Γ―É–Α–Ι―è―Ä –Η –û–≤―¨–Β―²―²–Α –Γ―É–¥–Ϋ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–Η–≥―Ä–Α―²―¨ ¬Ϊ–≤ ―³–Β–Ι–Β–Κ¬Μ –Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ¬Ϊ–Μ–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―΅―ë―Ä―²–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ –Η―Ö –¥–≤–Ψ―Ä―΄. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Μ–Β―¹―É –Ϋ–Ψ–Ε –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Ψ–≥–Α–Μ βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è! –£ –Ω–Ψ–Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É, –≤–Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–Ε–Η–Ι ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¨ –≤ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―â–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Ε –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α, ―²–Α–Κ ―²―É―² –Ε–Β –Η–Ζ –Μ–Β―¹–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω–Μ―¨ βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Η–Ι, –Ϋ–Β ―²–Ψ –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―΄–Ι. –‰ ―è―¹–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ: ―ç―²–Ψ –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –≤–Β―Ä–≤–Ψ–Μ―¨―³, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α–≤–Β–Κ–Η –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Ϋ–Β―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅―¨–Β–Φ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Η–Β. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ –ö–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η–Ζ –™―Ä―ë –≤–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η βÄî ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥ –¥–≤–Α –Φ–Β―²―Ä–Α ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, βÄî –≤―¹―ë ―¹ –Ϋ–Ψ–≥ –¥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹―à–Β–Β –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε―¨–Β–Ι ―à–Β―Ä―¹―²―¨―é, –Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ βÄî ―è―Ä–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β, –Κ–Α–Κ –¥–≤–Α ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Α! –Γ―²―Ä–Α-–Α―à–Ϋ–Ψ, –Α–Ε –Ε―É―²―¨ ...
–½–Ϋ–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¨
–‰ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ –≤–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤ –≤–Β―Ä–≤–Ψ–Μ―¨―³–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η―²–Β–Μ―è, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―ë–Φ –≤ ―¹―É–¥–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β ―²―É–Μ–Β, βÄî –Η –≤–Β―Ä–≤–Ψ–Μ―¨―³ ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β–¥―¨ –Β–≥–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –ö–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η–Ζ –™―Ä―ë ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ, –Α –≥–Ψ―¹―²–Η–≤―à–Β–Φ―É ―É –≥―Ä–Α―³–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―é –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―²―É―Ö–Α ―¹ –Ω―΄―à–Ϋ―΄–Φ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –¥–Β –ë―Ä–Η–Β, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β, –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Β–Μ–Μ–Β –Γ–Β–Ϋ-–®–Α–Ω–Β–Μ―¨, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Ψ–Ε –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≥―Ä–Α―³ ―¹–Α–Φ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ βÄî –Ψ–Ϋ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η–Μ –¥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –Η –≤–Ψ―²–Κ–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Ψ–Ε –≤ ―¹―É―Ö–Ψ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ, βÄî –Α ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―é –¥–Α–Ε–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ: ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―¹―É–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Β –Ε–Η–≤―É―² –≤ –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ―è―²―¹―è ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Μ–Β―¹?! –ê –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ψ–Ϋ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹―é –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä βÄî –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Β―Ü –Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―¹―²–Ψ–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β―Ä–Β–±―Ü–Β, –≤ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É―â–Β–Ι ―¹–±―Ä―É–Β ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ –Η ―¹ ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Φ ―¹–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―΅–Ψ–Φ-―ç―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―΄ –Η ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η... –€–Β―΅ –±―΄–Μ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι. –≠―²–Ψ –≤―¹–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η.
–‰–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ϋ―΄–Ι ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¨ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ, ―Ü–Β–Μ―¨ –≤–Η–Ζ–Η―²–Α –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–≥–Α–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Φ –•–Α–Ϋ–Α –¥–Β –ê―Ä–Κ–Α (–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β) –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ ―ç―²–Ψ, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ-―²–Ψ, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―É–Κ–Μ―é–Ε–Β–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β. –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –Μ–Η―à―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―é–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Α ―Ä―É–Κ–Η, –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―è, –Α –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –Β―ë, βÄî ―É–≤―΄! –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―è―²―¹―è –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Α―²―¹―è (–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Β―² –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ¬Ϊ–Φ–Η–Φ–Ψ¬Μ), –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ¬Μ, ―¹–Ω―É―¹―²―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –≤―¹―è –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²―΅–Η–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ βÄî –≤–Ζ―è–Μ –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ –Μ–Η, –Η –≤―΄–¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Ψ–Ε –Η–Ζ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α! –‰ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤ –Μ–Β―¹ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η βÄî ―²–Α–Φ –≤–Β―Ä–≤–Ψ–Μ―¨―³ –Ψ―Ä―ë―², –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β. –£―΄ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―ë―² –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β? –Θ–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä―ë―².¬†
–ù–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ–Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–ΒβÄΠ
–ï–¥–Β―², –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ –Ϋ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –≥―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≥–Β βÄî –±–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ –≤–Β–Ζ―ë―², –Β–¥–Β―² –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, βÄî ―²–Ψ –Η–Ζ ―³–Μ―è–≥–Η –Ψ―²–Ω–Η―²―¨, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―è–Φ –¥–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–Ζ–¥―΄―Ö―É, ―²–Ψ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, ―²–Ψ –Β―â―ë ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Β―Ü ―¹–Ω–Β―à–Η―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―², –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ ―¹–Ω–Β―à–Η―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –î–Α –Η ―¹–Η―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Α―³ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β –≥–Ψ–Ϋ–Η―²... –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –Β–¥–Β―² –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ –Ω–Ψ –Φ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Μ–Β―¹―É –®–Β–Ϋ―¨–Β, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ ¬Ϊ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨¬Μ, –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±–Β–≥–Α―è –Ψ―² –¥–Β―Ä–Β–≤–Α –Κ –¥–Β―Ä–Β–≤―É, –Η ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ¬Μ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α. –ö―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ βÄî –¥–Α –Κ–Α–Κ–Η–Φ –±―΄ ―Ä–Α―¹―²―è–Ω–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Η ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Μ―¨–Ζ–Α―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η–≤–Α –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Β–≥–Ψ ―³–Μ―è–≥–Β, βÄî –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η ―¹–Ϋ―É―é―² ―²―É–¥–Α-―¹―é–¥–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―¹–Φ–Β―é―â–Η–Β―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Α –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α―Ö –Η ―¹ ―Ä–Α―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ―΄ ―Ü–≤–Β―²―΄ –Η ―²―Ä–Α–≤―΄. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –≤―¹―²–Α―ë―² –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―², –Μ–Β–Ϋ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥―²―è–≥–Η–≤–Α―è –Κ ―¹–Β–±–Β ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι –Κ–Ϋ―É―² ―¹ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―à–Η–Ω–Ψ–Φ: ―ç―²–Ψ –Κ―²–Ψ ―²–Α–Φ –≤–Β―¹–Β–Μ–Η―²―¹―è ―¹ ―É―²―Ä–Α –Ω–Ψ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β? βÄî –Α –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Φ–Β―é―â–Η–Β―¹―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―² ―²–Β–Μ–Β–≥―É –Η ―²―Ä–Β–±―É―é―² –≤―΄–Κ―É–Ω, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β:
βÄî –î–Α–Ι –Ϋ–Α–Φ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―Ä–Ω–Α, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α –Η ―¹–≤–Ψ―ë ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –≤–Ψ –Η–Φ―è –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –‰―¹―É―¹–Α!
–Δ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Ε –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α―é―²―¹―è!
βÄî –£–Α–Φ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―Ä–Ω–Α, –¥–Α?..
–û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Κ―É–Ω ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ–Κ–Α –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Α –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α–Μ―¨. –û–Ϋ–Α –Ε–Β –±―΄–Μ–Α ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Φ ―΅―ë―Ä―²–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ βÄî –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –¥―΄–±–Ψ–Φ –Η –Μ–Η―Ü–Ψ –≤―΄–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²―΄! –£–Β–¥―¨–Φ–Α!
βÄî –€–Ψ–Ε–Β―², –Ψ–±–Ψ–Ι–¥―ë―²–Β―¹―¨ ―³–Ψ―Ä–Β–Μ―¨–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―Ä―É―΅―¨―è? βÄî ―¹–Φ–Β―è–Μ―¹―è –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Η. –ö–Ϋ―É―² –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ ―É–±–Η―Ä–Α–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. βÄî –Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²―É―² –Β―¹―²―¨ –Κ―É–Φ–Ε–Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―΄ βÄΠ
–î–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –Ψ―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―è –≤ –Μ–Α–¥–Ψ―à–Η. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Φ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―¹―²―ë―Ä, –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω–Η―Ä –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Μ. –•–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Β –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―Ä–Β―΅–Ϋ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Β–Μ―¨, –Φ–Β–Μ–Κ–Α―è, –Ϋ–Ψ ―¹―ä–Β–¥–Ψ–±–Ϋ–Α―è, –±―΄–Μ–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–Φ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –ï―ë –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ―à–Κ–Η –Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η. –‰ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ―é―é –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―é, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―Ä–Α–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹ –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι –Κ―É–Φ–Ε–Η. –ê –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Ω βÄî –Ϋ–Β―², ―ç―²–Ψ ―Ä―΄–±–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―¹―²–Μ―è–≤–Α―è, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¨... –û–Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä―É–¥–Α―Ö:
–ï―¹―²―¨ –≤ –≥―Ä–Α―³―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Φ–Κ–Β ―΅―ë―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä―É–¥
―²–Α–Φ –Μ–Η–Μ–Η–Η ―Ü–≤–Β―²―É―²...
–î–Α, –Η –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Ω―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―² –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ö. –‰–Ζ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –¥–Β –ê―Ä–Κ –Ϋ–Α –†―É–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β:
¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Β―â–Β –Ε–Η–Μ–Α ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é, –Φ–Ψ―è –Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Φ–Ϋ–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ü―É ―¹–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ϋ―΄, –±―É–¥―²–Ψ ―è, –•–Α–Ϋ–Β―²―²–Α, –Β–≥–Ψ –¥–Ψ―΅―¨, ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―², ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –€–Ψ–Η –Ψ―²–Β―Ü –Η –Φ–Α―²―¨ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―¹ –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Μ–Α–Ζ. –· –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β. –· ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α –Ψ―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –±―Ä–Α―²―¨―è–Φ: βÄ€–ö–Μ―è–Ϋ―É―¹―¨, ―è –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Φ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―è –≤–Η–¥–Β–Μ –Ψ –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–±―΄–Μ―¹―è, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤–Α–Φ –Β–Β ―É―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –≤ ―Ä–Β–Κ–Β, –Α –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –≤–Α–Φ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –¥―É―Ö―É βÄî ―É―²–Ψ–Ω–Η–Μ –±―΄ –Β–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–ΗβÄù. –û–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Ϋ–Β ―¹–Β–±―è –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä―É –¥–Β –ë–Ψ–¥―Ä–Η–Κ―É―Ä―É –≤ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ –£–Ψ–Κ―É–Μ―ë―Ä –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è¬Μ.
–ï–Ι ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ 14 –Μ–Β―². –ù–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ –¥–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Β ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ–Ψ–Β –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α: ¬Ϊ–î–Α, ―ç―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É –Μ–Β―², –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―è –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹–≤―΄―à–Β¬Μ. βÄî ¬Ϊ–™–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹–≤―΄―à–Β¬Μ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Α –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α–Μ―¨ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹―ë –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α–Φ.
βÄî –ü–Ψ–Ι–¥―ë―à―¨ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―΄! βÄî –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―à―É―²–Η–Μ–Α –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Μ–Α, ―É–±–Η―Ä–Α―è –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―¹–Ψ –Μ–±–Α:
βÄî –ß―²–Ψ–± –≤―΄–Ι―²–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ζ–Α ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä–Α, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ.
βÄî –ù―É –¥–Α, ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é! –Γ–≤―è―²–Α―è –ö–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α... βÄî –Ω―Ä–Ψ–Ω–Β–Μ–Α –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α ―¹ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Μ–Η–≤―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. βÄî –Θ ―²–Β–±―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―É–Φ–Β, –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Α. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η! –ù–Α–Ι–¥―ë―à―¨ ―¹–Β–±–Β ―ç–Μ―¨–Ζ–Α―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Η –±―É–¥–Β―à―¨ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ω―¹–Α―Ä–Ϋ–Η!
βÄî –‰ –±―É–¥―É –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Α –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Α.
–û―Ö, ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η! –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² ―ç―²–Η―Ö ―Ä―΄―Ü–Α―Ä–Β–Ι. –Ξ–Ψ―²―è... –Ϋ–Α –≤―¹―ë –≤–Ψ–Μ―è –±–Ψ–Ε―¨―è, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Η. –Θ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è.¬†
–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―΄―É―΅–Κ–Α
–£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è―Ö –™―Ä―ë –Η –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η –±―΄–Μ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ψ–Ω–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η –≤―¹–Β –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α–Φ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ―è –≤ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β βÄî –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, –Ψ―² –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–±–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―΅–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α: ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Φ―¹―è, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –≤ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥―É –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –≤ –¥–≤–Β ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η, –Κ–Ψ–Ω―¨―è βÄî –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, –Η βÄî –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―Ä–Α―²―¨, –Ψ―²–≥–Ψ–Ϋ―è―è –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Α. –ë―¨―ë–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―é –≤ –±–Ψ–Κ, –≤ –Φ–Ψ―Ä–¥―É, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–±―É–Β–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α―²―¨ –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Ω―¨―ë–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ, ―²–Ψ –Η–Ζ ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –Κ–Α―Ä–Β –Η –≤―¹―²–Α―ë–Φ –≤ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤―Ä–Α–≥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Α―Ä–Α –Φ–Β―΅–Ψ–Φ (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―²―Ä–Α), –Α –Η–Ϋ–Α―΅–Β βÄî ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨! –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―¹–±–Η–≤–Α―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―è. –Γ –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–Β–¥–Μ–Β, –Α ―¹―²–Α–≤ –Ω–Β―Ö–Ψ―²–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Β, ―è―¹–Ϋ–Ψ? –Δ―É―² ―É–Ε –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―ë–Φ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―². –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β βÄî –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²! –ù–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α ¬Ϊ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α¬Μ. –Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –≥―Ä–Α―³―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―² –Ω–Ψ –Κ–Μ–Η―΅–Κ–Β ¬Ϊ–™―Ä–Η–±-―¹―΄―Ä–Ψ–Β–Ε–Κ–Α¬Μ (Russul –Ϋ–Α ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –†―É―¹―¹–Η–Μ―¨–Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ-–≤–Α―à–Β–Φ―É, –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²?) ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Ϋ–Β–Ι βÄî ―É―΅–Η–Μ –Η―Ö –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Φ–Β―΅. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: ¬Ϊ–£–Ζ―è–≤ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –Φ–Β―΅, –≤―΄ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²–Β―¹―¨ –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ–Α–Φ–Η!¬Μ –ê –Β―â―ë –Ψ–Ϋ –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Μ –≥―Ä–Α―³–Α –±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―ë–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –≥―Ä–Α―³ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ βÄî –≤–Ψ―Ä―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Κ –Ϋ–Η–Φ –Μ―É―΅―à–Β –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è. –ü―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É–Ε–Β... –†―ç–Κ–Β―² –±–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Α –Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ ―¹ –Μ–Ψ–Ε–Β―΅–Κ–Η.
–î–Β―²–Η ―²–Ψ–Ε–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β, –Α –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ –€―É–Ϋ―¨–Β ―É–Ε–Β –≤ ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹ –Ω―Ä–Η―¹―è–≥―É –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ―É –Η ―¹―²–Α–Μ ¬Ϊ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–≥–Ψ–Ι¬Μ βÄî ―²–Ψ–Ε–Β ―ç―²–Α–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²-―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ. –™―Ä–Α―³ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–Ϋ–Ψ–±–Ψ–Φ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨¬Μ –Φ–Β―΅–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Φ ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –¥―Ä–Ψ–≤–Α ―Ä―É–±―è―². –£ ¬Ϊ―É–Φ–Ϋ―΄―Ö¬Μ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―ç―²–Ψ―² –Η–Ϋ–≤–Β–Ϋ―²–Α―Ä―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –Κ–Ψ–Ω―¨―è-―¹―É–Μ–Η―Ü―΄ –Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β ―Ü–Β–Ω―΄, –Ζ–Α―²–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä–Ω―΄, –Ϋ–Ψ–Ε–Η –Η –Κ–Ψ―¹―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ, –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ―Ä–Β –≥―Ä–Α―³―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ ―¹ –Β―â―ë –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η―Ä–Α ―¹–Β–≥–Ψ βÄî ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –±–Α–Μ―¨–Η (―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ) –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥–Ψ–Φ –†–Ψ–±–Β―Ä–Ψ–Φ –¥–Β –ë–Ψ–¥―Ä–Η–Κ―É―Ä–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Κ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ―É –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η. –£ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β, ―ç―²–Ψ―² –¥–Β –ë–Ψ–¥―Ä–Η–Κ―É―Ä –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α –¥–Β –ê―Ä–Κ–Ψ–≤ –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η –•–Α–Ϋ–Ϋ–Β –Φ―É–Ε–Α, ―É –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥–Α –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β –≤ –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β:
βÄî –ù–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―è. –ï―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–± –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –±―΄ –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Μ–Η ―É –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Α...
–Γ–Α–Φ–Ψ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹―É–¥–Ψ–Φ –≤ –Δ―É–Μ–Μ–Β –Η –¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Α –Κ–Μ―è―²–≤―΄ –≤―΄–Ι―²–Η –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε. –ù–Η-–Κ–Ψ-–Φ―É! –‰ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ß―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ζ–Α―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―² –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η –£–Ψ–Κ―É–Μ―ë―Ä. –Γ―É–¥ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ –±–Β–Ζ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –†–Ψ–±–Β―Ä –¥–Β –ë–Ψ–¥―Ä–Η–Κ―É―Ä ―¹–Ω–Α―¹ –•–Α–Ϋ–Ϋ―É –Ψ―² –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ä―É―²–Η–Ϋ―É. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―¹–Ω–Α―¹? –ù―É, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β–Φ ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹―É–¥―¨–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Β... –ê ―΅–Β–≥–Ψ ―²–Α–Φ –Κ–Ψ–Ω–Α―²―¨―¹―è? –î–Β–Μ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ –Μ–Η, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β, –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β. –‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β! –†―É―¹―¹–Ψ ―²―É―Ä–Η―¹―²–Ψ –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ–Β, ―³–Β―Ä―à―²–Β–Ι–Ϋ?¬†
–ù–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β, ―É –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –½–Α―²–Ψ –¥–Β –ë–Ψ–¥―Ä–Η–Κ―É―Ä–Α –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ι –†–Ψ–±–Β―Ä¬Μ. –ù–Ψ –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥ –Η –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è. –™―Ä―É–±–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Β–Ι. –‰―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –≤ ―΅―ë–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, –¥–Ψ –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ―¨–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–≤–Ψ–Β –±–Α―¹―²–Α―Ä–¥–Ψ–≤, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ –≥―Ä–Α―³ –•–Α–Ϋ –î―é–Ϋ―É–Α, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Μ–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β, –Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β, –Ψ–Ϋ –Η –Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –‰–Ψ–Μ–Α–Ϋ―²–Α –¥–Β –ö–Α–Ϋ–Η ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –¥–Β –ê―Ä–Κ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨, ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥ ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–≥–Α–Ϋ―¨―é –Η –Ω―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Β–Ι, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ... –Ξ–Ψ―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η ―É ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Ψ–≤ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ (–Ζ–Α―²–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η), –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö –Η–Φ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö (―²–Α–Κ –Ε–Β, –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Η –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α–Φ–Η, –≥―É–Μ―è–≤―à–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥ ¬Ϊ–î–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Φ ―³–Β–Ι¬Μ). –‰ –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―É –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –≤ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Μ, –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Β–Ι –≥―Ä–Α―³–Ψ–Φ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –≤―¹―ë, –Κ–Α–Κ –≤ –Κ–Μ–Η–Ω–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ Era.
–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄî –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ?
–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Η–Ϋ―΄–Β –±―É–±–Β–Ϋ―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –≥―Ä–Α―³―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Β―Ä–±–Β. –ù–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Μ–Η ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―²―¨? –€–Ψ–≥–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –£―¹―ë –¥–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ (–•–Α–Ϋ –¥–Β –ê―Ä–Κ, ―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ê―Ä–Κ-–Α–Ϋ-–ë–Α―Ä―Ä―É–Α, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―ç―²–Α ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è) –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Κ –Μ―é–¥―è–Φ, ―É―²―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η–Φ ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, βÄî ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η βÄî –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤―É ―¹ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Β–Ι. –ö–Α–Κ –¥–Β –ê―Ä–Κ –Φ–Ψ–≥ ―É―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ? –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –£–Β–¥―¨ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¨ –¥–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –Ζ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –¥–Ψ–Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Ψ –Η –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –¥–Ψ–Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Η–Κ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ –Ζ–Α ¬Ϊ―Ö―É–¥―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É¬Μ –Η ―¹–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨―Ü―΄ –Η–Μ–Η –Β―â―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β βÄî –≤ –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä―Ü―΄. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η 18-–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ-–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Β–≤ –Κ–Α–Κ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –±―Ä–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Β–Ι―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Ψ―²―΄, –≥–¥–Β ―²–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ–Η –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ–Α–Φ–Η, –Η–Μ–Η –≤ ¬Ϊ―Ü–Α―Ä―ë–≤―΄¬Μ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―²―è–Ε―ë–Μ–Ψ–Ι –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Η–Η, βÄî –Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –Λ―Ä–Α–Ϋ―¹―É–Α –£–Η–Ι–Ψ–Ϋ–Α.¬†
–£–Ψ―² –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –•–Α–Ϋ –¥–Β –ê―Ä–Κ –≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ (―¹―É–¥―¨–Η) –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –£–Η–Ϋ―¹–Β–Ϋ―²–Α –î–Β―Ä―Ä–Η–Β–Ϋ–Α. –ù―É, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Ϋ–Α –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Α (―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ) –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä–Α-–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ê –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤–Ψ―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ. –ê ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Β –¥–Β –ê―Ä–Κ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –Η―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η. –ê –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Β–Ϋ―¨–Ψ―Ä, –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥ –¥–Β –ë–Ψ–¥―Ä–Η–Κ―É―Ä –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―Ä–Α–Κ–Ψ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ö–Μ–Ψ–±―΄―¹―²–Ψ–Φ ―²–Η–Ω–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–≥–Ψ –€–Η―à–Β–Μ―è –¦–Β–±―Ä–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ –™―Ä―ë, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Β―ë –Φ–Μ–Α–¥―à―É―é ―¹–Β―¹―²―Ä―É –ö–Α―²―Ä–Η–Ϋ (―É―Ö, –±―΄–Μ–Α –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –≤―¹―é ―É–Μ–Η―Ü―É!).¬†
–ß―²–Ψ –Ε, –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è–Μ–Α ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―΅–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α-–Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥ ―¹―²–Α―Ä―΄–Φ –±―É–Κ–Ψ–Φ –≥―Ä–Α―³–Ψ–≤ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Η βÄî –≤―¹―ë ―²―É―². –≠―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β¬Μ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Φ ―â–Β–Ω–Β―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ¬Ϊ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Β–Ι ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Μ–Η ―¹―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ψ–¥–Β―²–Ψ–Ι –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Β –Η–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ―É―é ¬Ϊ–¥–Α–Φ―É¬Μ, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–Β–Μ―¨, ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―è ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι-–Κ–Α―²–Ψ–Μ–Η―΅–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –î–Α –Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –ë–Α–Ζ–Β–Μ–Η–Κ ―²–Ψ–Ε–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö¬Μ –Ϋ–Β ―²―è–Ϋ―É–Μ–Ψ. –‰–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Β ¬Ϊ―²―É–¥–Α¬Μ, –Κ –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥―É –¥–Β –ë–Ψ–¥―Ä–Β–Κ―É―Ä―É, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É, –Η–Μ–Η –Κ ―¹–Η―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥―Ä–Α―³–Α–Φ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Η―Ö –Ω―Ä–Η–¥–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι –Η ―¹–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö –≤–Α―¹―¹–Α–Μ–Ψ–≤, ―΅–Β–Φ ―¹―é–¥–Α, –≤ –¥–Ψ–±―Ä―É―é –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ψ–±―â–Η–Ϋ―É ―¹ –Β―ë –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α–Φ–Η, –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–±–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―¹―É–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Μ–Κ–Α–Φ–Η, –Φ―΄―à–Α–Φ–Η –Η –≤–Β―Ä–≤–Ψ–Μ―¨―³–Α–Φ–Η.¬†
–€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –•–Α–Ϋ –¥–Β –ê―Ä–Κ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä―ë–Μ ―É –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄ –¥–Β –ë―É―Ä–Μ–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ε–Η –¥–Β –•―É–Α–Ϋ–≤–Η–Μ―¨ (–€–Ψ―Ä–Η―¹–Α –î―Ä―é–Ψ–Ϋ–Α ―΅–Η―²–Α–Μ–Η?) –≤ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Ι –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ, –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–≤ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ 16 ―²―É―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η–≤―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Ψ–±–Β―â–Α–≤ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±―É–¥―É―â–Η―Ö ―É―Ä–Ψ–Ε–Α–Β–≤, –Η ―ç―²–Η–Φ –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö ―à–Β–≤–Α–Μ―¨–Β. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ζ–Α –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Φ―΄ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ. –½–Α―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²–Η –Ψ–±–Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Α–Ε–Η –Β―â―ë –Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –≤ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―²―Ü–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ϋ–Η, –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, ―¹–Α–Φ–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –¥–Η–≥–≥–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―², ―΅―²–Ψ ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ―΄ –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –ö–Α―Ä–Μ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Α –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α. –ê –≤―¹–Β –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α ―Ä―΄―Ü–Α―Ä–Β–Ι ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –¥―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ, ―¹–Α–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β...¬†
–î―Ä–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄ –Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Η
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤ –Η ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α –Η –Β―ë –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Ε–Α–≤―΄–Β ―Ü–Β–Ω–Η –Η –Κ―É―΅–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥–Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨–Β –‰–Μ―è ―¹ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ. –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Ψ―΅–Κ–Α, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η?.. –Γ―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ βÄî ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤. –½–Α–Φ–Ψ–Κ –‰–Μ―¨-–Α–Ϋ-–ë―Ä–Α –±―΄–Μ ―΅–Α―¹―²―¨―é –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–≤ βÄî –†–Ψ―²―Ä–Β, –€–Ψ–Ϋ–±―Ä–Α –Η –Ζ–Α–Φ–Κ–Α –ë―Ä–Η―¹―¹–Β, –Ψ–Ϋ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―É–Ε–Β –≤ 12 –≤–Β–Κ–Β –Η –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –•–Α–Ϋ –¥–Β –ê―Ä–Κ –Κ―É–Ω–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Β―â―ë –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ 1420 –≥–Ψ–¥―É). –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β –ê―Ä–Κ (―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Μ―É–Κ¬Μ βÄî –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄) –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ ―É–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –≤ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Β –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Η–Ϋ–Α βÄî –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨―é –≥–Β–Κ―²–Α―Ä–Α–Φ–Η –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö 12 ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Ω–Α―à–Ϋ―è, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β βÄî –Μ―É–≥–Α, –Η –Β―â–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –≥–Β–Κ―²–Α―Ä–Α –Μ–Β―¹–Α –®–Β–Ϋ―¨–Β βÄî ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ, –≥–¥–Β –≤–Ψ–Μ–Κ–Η –±–Β–≥–Α―é―². –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―¹―²–Α–¥–Α–Φ–Η –Ψ–≤–Β―Ü –Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤.
–ê –Β―â―ë –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –≥―Ä–Α―³―¹―²–≤–Α –ë–Α―Ä―Ä―É–Α, –¥–Α –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―³–Β–Ψ–¥―É –ù–Β―³―à–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤ –Η–Ζ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Η―Ö ―²―É –Ε–Β ―¹–Α–Φ―É―é ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –¥–Β –ê―Ä–Κ. –£―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Η―Ö ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Α ―¹ ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ –•–Α–Ϋ–Α –Η –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è.¬†–ê –≤ 1429 –≥–Ψ–¥―É –•–Α–Ϋ –¥–Β –ê―Ä–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ-―²–Α–Κ–Η ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –¥–Β –¦―é―¹-–†―É–Α (―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Μ–Η–Μ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è¬Μ), –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ –≤―ë–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä¬Μ. –Θ–Ε ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ ¬Ϊ–±–Β―¹–Η–Μ―¹―è¬Μ ―ç―²–Ψ―² –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α. –ï–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –•–Α–Ϋ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –≤―¹―ë –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Φ –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β. –î–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö –≤―¹–Β–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä¬Μ –•–Α–Ϋ–Ϋ―΄ –¥–Β –ê―Ä–Κ. –‰–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β (―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α –ë–Α–Ζ–Β–Μ–Η–Κ-2), –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Β, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α. –ù–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η ―ç―²―É –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É –Ζ–≤–Α–Μ–Η –‰–Ζ–Α–±–Β–Μ–Μ–Ψ–Ι –†–Ψ–Φ–Β –Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –¥–Ψ–Φ–Α –≤ –î–Ψ–Φ―Ä–Β–Φ–Η, –Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ζ–Β–Φ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –ù–Β―³―à–Α―²–Β–Μ―é.¬†
–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –£―É―²–Ψ–Ϋ (–Η–Μ–Η –ë―É―²–Ψ–Ϋ?), –Η –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –≤ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–Ζ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Η ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Ψ –±―É―Ä–Ε―É–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –ë–Ψ–≤–Ψ, –ù–Β―²―²–Α–Ϋ–Κ―É―Ä –Η... –ê―Ä–Φ―É–Μ–Β–Ζ. –ü―Ä–Η ―΅–Β–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―ç―²–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β? –ê –≤–Β–¥―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²―²―É–¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ –Μ–Ε–Β-–•–Α–Ϋ–Ϋ―΄, –Η ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Β―ë ¬Ϊ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ–Η¬Μ βÄî –Ω–Ψ –Φ–Α–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è. –ï―¹―²―¨ –≤–Β―Ä―¹–Η―è, ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–Ω–Β–Κ–Α–Μ–Η –•–Α–Ϋ–Ϋ―É ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤―¹–Β–Ι ―ç―²–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Η ―΅―²–Ψ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α –¥–Β –ê―Ä–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Β–±―è –•–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β –ê―Ä–Κ (–Ω–Ψ –Ψ―²―Ü―É) –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, –Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –•–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ–Φ–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ß–‰–Δ–ê–Δ–§ –î–ê–¦–§–®–ï
 
![]() βÄ΄
βÄ΄