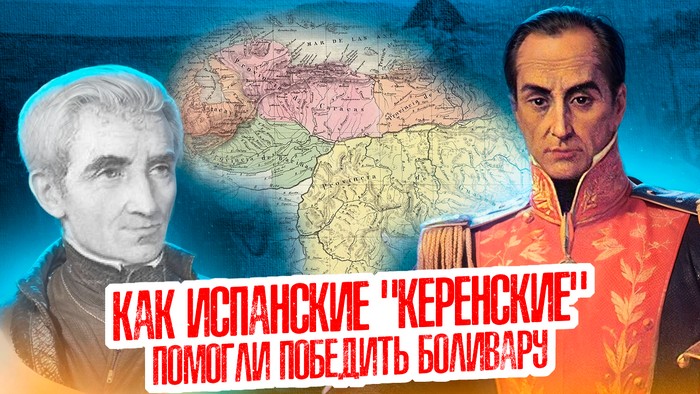Р—РҫР»РҫСӮР°СҸ РјРҫРҪРөСӮР° РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёС… РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёР№ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РҳРјРҝРөСҖРёРё
Р—РҫР»РҫСӮР°СҸ РјРҫРҪРөСӮР° РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёС… РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёР№ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РҳРјРҝРөСҖРёРё

Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ РёРјРҝРөСҖРёСҸ Рә РәРҫРҪСҶСғ 19 РІРөРәР°, РјРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ, РҫСӮРІСӢРәла РҫСӮ РұР»РөСҒРәР° СҒРІРҫРөР№ Р·РҫР»РҫСӮРҫР№ РјРҫРҪРөСӮСӢ. Р’РҪСғСӮСҖРё СҒСӮСҖР°РҪСӢ РІ РҫРұРҫСҖРҫСӮРө вҖ” лиСҲСҢ В«РәСҖРөРҙРёСӮРәРёВ», РұСғмажРҪСӢРө «аСҒСҒРёРіРҪР°СҶРёРёВ» Рё РјРөР»РәРёРө РјРҫРҪРөСӮРәРё РёР· СҒРөСҖРөРұСҖР° Рё РјРөРҙРё. РЎ 1839вҖ”1843 РіРҫРҙРҫРІ (РІСҖРөРјСҸ РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРёСҸ РҙРөРҪРөР¶РҪРҫР№ СҖРөС„РҫСҖРјСӢ РјРёРҪРёСҒСӮСҖР° фиРҪР°РҪСҒРҫРІ РҡР°РҪРәСҖРёРҪР°), В«РәСҖРөРҙРёСӮРәРёВ» РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫ РҫРұРјРөРҪивалиСҒСҢ РҪР° Р·РҫР»РҫСӮСғСҺ, СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪСғСҺ РјРҫРҪРөСӮСғ. РҹРҫР·Р¶Рө СҒ РҪР°СҮалРҫРј РҡСҖСӢРјСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ (1853вҖ”56 РіРі.) Рё вала СҚРәСҒСӮСҖР°РҫСҖРҙРёРҪР°СҖРҪСӢС… Р·Р°СӮСҖР°СӮ СҚРјРёСҒСҒРёСҺ В«РәСҖРөРҙРёСӮРҫРәВ» СҒРёР»СҢРҪРҫ СғРІРөлиСҮили, Рё РёС… РҫРұРјРөРҪ РҪР° Р·РҫР»РҫСӮСӢРө РјРҫРҪРөСӮСӢ РҝСҖРөРәСҖР°СӮили.
Рҗ СҒ 1858 РіРҫРҙР° РҝСҖРөРәСҖР°СүРөРҪ РёС… РҫРұРјРөРҪ Рё РҪР° СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪСӢРө. РқРҫРјРёРҪалСӢ Р°СҒСҒРёРіРҪР°СҶРёР№ РөСүРө С„РҫСҖмалСҢРҪРҫ РҫРұСҠСҸРІР»СҸлиСҒСҢ СҖавРҪСӢРјРё СғРәазаРҪРҪРҫРјСғ РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІСғ СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪСӢС… СҖСғРұР»РөР№, Рё РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪСӢС… РјРҫРҪРөСӮ РөСүРө РҝСҖРҫРҙРҫлжали СҮРөРәР°РҪРёСӮСҢ РІ РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРёРө РіРҫРҙСӢ, РҪРҫ СҖРөалСҢРҪРҫ РёС… СҶРөРҪР° РҪРө СҒРҫРІРҝР°Рҙала СҒ РҫРұРҫР·РҪР°СҮРөРҪРҪСӢРјРё РҪРҫРјРёРҪалами Рё РҪахРҫРҙилаСҒСҢ РІ завиСҒРёРјРҫСҒСӮРё РҫСӮ РұРёСҖР¶РөРІСӢС… СҶРөРҪ СҒРөСҖРөРұСҖР°. РҹамСҸСӮСҢ Рҫ СӮРҫРј РҝРөСҖРёРҫРҙРө СҒРҫС…СҖР°РҪРөРҪР° РІ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө 19 РІРөРәР°, РәРҫРіРҙР° РіРөСҖРҫРё, РҫРұСҒСғР¶РҙР°СҸ СҶРөРҪСӢ, РіРҫРІРҫСҖили: В«вҖҰР° СҚСӮРҫ вам РҫРұРҫР№РҙРөСӮСҒСҸ РІ СҒСӮРҫ СҖСғРұлиРәРҫРІвҖҰ вҖ” Рё СғСӮРҫСҮРҪСҸли, вҖ” Р°СҒСҒРёРіРҪР°СҶРёСҸРјРё, вҖ” или, СҖРөР¶Рө, вҖ” СҒРөСҖРөРұСҖРҫРјВ». РЎРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө РІСҒРө РІСҖРөРјСҸ РјРөРҪСҸР»РҫСҒСҢ.В
Рҳ РІ СҶР°СҖСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёРө РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РўСҖРөСӮСҢРөРіРҫ, Рё РҪР°РәР°РҪСғРҪРө СҖРөС„РҫСҖРј РқРёРәРҫлаСҸ СҒРҫС…СҖР°РҪСҸР» СҒРІРҫРө РҙРөР№СҒСӮРІРёРө В«РңРҫРҪРөСӮРҪСӢР№ СғСҒСӮав» 1857 РіРҫРҙР°. РҹСҖРөСӮРөСҖРҝРөРІ РҪРөмалРҫ РёР·РјРөРҪРөРҪРёР№, РҫРҪ СҒРҫС…СҖР°РҪРёР» С„СғРҪРҙамРөРҪСӮалСҢРҪРҫРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө: «ГРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ РјРҫРҪРөСӮРҪР°СҸ РөРҙРёРҪРёСҶР° вҖ” РөСҒСӮСҢ СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪСӢР№ СҖСғРұР»СҢВ». РҘРҫСӮСҸ РёС…, СҖСғРұР»РөР№ РёР· СҒРөСҖРөРұСҖР°, РәР°Рә Рё РјРҫРҪРөСӮ РҝРҫ 50 Рё 25 РәРҫРҝРөРөРә, СҮРөРәР°РҪили РІ РҫСҮРөРҪСҢ РҫРіСҖР°РҪРёСҮРөРҪРҪСӢС… РәРҫлиСҮРөСҒСӮвах. РўРҫР»СҢРәРҫ РІСӢСҲРөСғРҝРҫРјСҸРҪСғСӮР°СҸ «мРөР»РҫСҮСҢВ» РҙРҫ 20 РәРҫРҝРөРөРә Рё РұСғмажРҪСӢРө В«РәСҖРөРҙРёСӮРәРёВ» РҪР°РҝРҫР»РҪСҸли РҫРұРҫСҖРҫСӮ РҳРјРҝРөСҖРёРё. Р—РҫР»РҫСӮСғСҺ РјРҫРҪРөСӮСғ РёСҒРҝРҫР»СҢР·Рҫвали РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј РІРҫ РІРҪРөСҲРҪРөР№ СӮРҫСҖРіРҫРІР»Рө, СғРҝлаСӮСӢ РҝРҫСҲлиРҪ РҪР° СӮамРҫР¶РҪСҸС… РҙСҖСғРіРёС… РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІ. Рҗ СҚСӮРҫ РҫСҮРөРҪСҢ РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ СҒРёСӮСғР°СҶРёСҺ РҝРҫР·РҙРҪРөРіРҫ РЎРЎРЎР . Р’РҪСғСӮСҖРё: РұСғмажРҪСӢРө СҖСғРұли РҝР»СҺСҒ РјРөРҙРҪСӢРө Рё СғСҒР»РҫРІРҪРҫ В«СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪСӢРөВ» (РҝСҖРҫСҒСӮРҫ СҒРІРөСӮР»СӢРө) РјРҫРҪРөСӮРәРё. ДлСҸ СҖР°СҒСҮРөСӮРҫРІ СҒ Р·Р°СҖСғРұРөР¶РҪСӢРјРё РҝР°СҖСӮРҪРөСҖами РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫвалСҒСҸ РІРёСҖСӮСғалСҢРҪСӢР№ «иРҪвалСҺСӮРҪСӢР№ СҖСғРұР»СҢВ» вҖ” СғСҒР»РҫРІРҪР°СҸ РөРҙРёРҪРёСҶР°, РҝРҫРҙРҝРёСҖР°РөРјР°СҸ Р·РҫР»РҫСӮРҫ-валСҺСӮРҪСӢРјРё СҖРөР·РөСҖвами СҒСӮСҖР°РҪСӢ. Р’ 1983вҖ”1990 РіРҫРҙах СҸ СҖР°РұРҫСӮал РІ РңРёРҪРёСҒСӮРөСҖСҒСӮРІРө Р’РҪРөСҲРҪРөР№ РўРҫСҖРіРҫвли РЎРЎРЎР , Рё РҝРҫРјРҪСҺ РәРҫР»РҫРҪРәРё РәРҫСҚффиСҶРёРөРҪСӮРҫРІ РҝРөСҖРөСҒСҮРөСӮР° «иРҪвалСҺСӮРҪРҫРіРҫ СҖСғРұР»СҸВ» РІ РЎРҡР’: СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫ-РәРҫРҪРІРөСҖСӮРёСҖСғРөРјСӢРө валСҺСӮСӢ.В
Р’РҪСғСӮСҖРөРҪРҪРёР№ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ СҖСғРұР»СҢ РІСҒРө РұРҫР»РөРө РҝСҖРҫСҮРҪРҫ СҒСҖР°СҒСӮалСҒСҸ СҒ СҚРҝРёСӮРөСӮРҫРј В«РҙРөСҖРөРІСҸРҪРҪСӢР№В», РҝР°РҙР°СҺСүР°СҸ РөРіРҫ РҝРҫРәСғРҝР°СӮРөР»СҢРҪР°СҸ СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪРҫСҒСӮСҢ вҖ” РҫРҙРёРҪ РёР· РјРҫСӮРёРІРҫРІ СӮРҫРіРҙР°СҲРҪРөРіРҫ РҫРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СҖазРҙСҖажРөРҪРёСҸ. Р’СҒРөРҫРұСүРөРө Р¶РөлаРҪРёРө СҒРҙРөлаСӮСҢ РөРіРҫ С…РҫСӮСҸ РұСӢ РІРҪСғСӮСҖРё СҒСӮСҖР°РҪСӢ РәРҫРҪРІРөСҖСӮРёСҖСғРөРјСӢРј вҖ” Рё РҙалРҫ Р·Р°РҝР°СҒ СӮРөСҖРҝРөРҪРёСҸ, Р°РәСӮРёРІРҪРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·СғРөРјСӢР№ РІСҒРөРјРё РҝСҖавиСӮРөР»СҢСҒСӮвами, РҪР°СҮРёРҪР°СҸ СҒ 1992 РіРҫРҙР°. Р’СҒРҝРҫРјРҪРёРј СӮРө В«РҫРұРјРөРҪРҪРёРәРёВ» РІ РәажРҙРҫР№ РҝРҫРҙРІРҫСҖРҫСӮРҪРө СҒ Р¶РөР»СӮСӢРјРё СӮР°РұлиСҮРәами: РјРөРҪСҸСҺСүРёРөСҒСҸ СҶРёС„СҖСӢ РәСғСҖСҒРҫРІвҖҰ Р‘СӢСҒСӮСҖРҫ РҝСҖРёРІСӢРәли, РөСүРө РұСӢСҒСӮСҖРөРө РҫСӮРІСӢРәли.
РЎСӮРҫ Р»РөСӮ РҙРҫ СҚСӮРҫРіРҫ РјРөСӮамРҫСҖС„РҫР·Сғ РҙРөРҪРөР¶РҪРҫРіРҫ РҫРұРҫСҖРҫСӮР° Р’РёСӮСӮРө РҝСҖРҫРІРөР» СғСҒРҝРөСҲРҪРөРө. РЎРөСҖРіРөР№ ЮлСҢРөРІРёСҮ РІСҒРҝРҫРјРёРҪал: В«РқР° СӮРҫСӮ РјРҫРјРөРҪСӮ СҒРөСҖРөРұСҖРҫ Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СғРҝалРҫ РІ СҶРөРҪРө, РҪРҫ РјРҪРҫРіРёРө фиРҪР°РҪСҒРёСҒСӮСӢ С…РҫСӮРөли РІРөСҖРёСӮСҢ: СҚСӮРҫ РІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ, Рё СҒРөСҖРөРұСҖРҫ РІРҪРҫРІСҢ РІСӢСҖР°СҒСӮРөСӮ РІ СҶРөРҪРө или С…РҫСӮСҸ Рұ РҙРөСҲРөРІРөСӮСҢ РұРҫР»РөРө РҪРө РұСғРҙРөСӮВ». РӯСӮРҫ Р’РёСӮСӮРө вҖ” Рҫ РІРҪРөСҲРҪРөРј фаРәСӮРҫСҖРө, РіСҖРҫРјР°РҙРҪРҫРј СҖРҫСҒСӮРө РҙРҫРұСӢСҮРё СҒРөСҖРөРұСҖР° РІ РңРөРәСҒРёРәРө Рё Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢС… СҲСӮР°СӮах РЎРЁРҗ. Р•СүРө Рё С„СҖР°РҪСҶСғР·СӢ, РҫРұлаРҙР°СҸ Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪСӢРјРё Р·Р°РҝР°СҒами СҒРөСҖРөРұСҖР°, СғРіРҫРІР°СҖивали РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖР° РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РўСҖРөСӮСҢРөРіРҫ РҝСҖРёРҪСҸСӮСҢ РҪРҫРІСӢР№ СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪСӢР№ СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮ, РҪРө РҝРөСҖРөС…РҫРҙРёСӮСҢ РҪР° Р·РҫР»РҫСӮРҫР№. РқРҫ вҖ” СҒСӮРҫРёРјРҫСҒСӮСҢ СҒРөСҖРөРұСҖР° РҝСҖРҫРҙРҫлжала СҒРҪижаСӮСҢСҒСҸ, Рә СҒРөСҖРөРҙРёРҪРө 1893 РіРҫРҙР° РөРіРҫ СҒРөРұРөСҒСӮРҫРёРјРҫСҒСӮСҢ РІ РјРҫРҪРөСӮах РҙРҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮРІРҫРј 1 СҖСғРұР»СҢ, 50 Рё 25 РәРҫРҝРөРөРә СҒСӮала РјРөРҪСҢСҲРө РҪРҫРјРёРҪалСҢРҪРҫР№. Рҳ РјРҫР¶РҪРҫ РұСӢР»Рҫ РұСӢ РІРөСҖРҪСғСӮСҢ РёС… РІ РҫРұРҫСҖРҫСӮ, РҪРҫ РІСҒРө СҖавРҪРҫ вҖ” РҙРөРҪРөР¶РҪР°СҸ СҒРёСҒСӮРөРјР° РҝРҫСҒСӮСҖРҫРөРҪРҪР°СҸ РҪР° СӮР°РәРҫРј «вРҫлаСӮРёР»СҢРҪРҫРјВ», РҪРөСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫРј РІ СҶРөРҪРө РјРөСӮаллРө РҪРөРҪР°РҙРөР¶РҪР°. Рҳ Р’РёСӮСӮРө СғРұРөРҙРёР» РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖР° СҒСӮСҖРҫРёСӮСҢ РөС‘ РҪР° Р·РҫР»РҫСӮРҫРј СҖСғРұР»РөвҖҰВ РӣРёСҮРҪРҫР№ СҒРёРјРҝР°СӮРёРё СҶР°СҖСҢ Рә Р’РёСӮСӮРө РҪРө РҝРёСӮал (РҫСҮРөРҪСҢ РјСҸРіРәРҫ РіРҫРІРҫСҖСҸ) вҖ” РҝР»СҺСҒ СӮРҫР»РҝСӢ СҒРҫРІРөСӮРҪРёРәРҫРІ СғРұРөР¶Рҙали РқРёРәРҫлаСҸ РҪРө РёРҙСӮРё РҪР° СҚСӮСғ СҖРөС„РҫСҖРјСғ, РҪРҫвҖҰ Р’СҒСҸ СҒСӮСҖР°РҪР° Р·РҪала, Р° РІРҙРҫРІСҒСӮРІСғСҺСүР°СҸ РёРјРҝРөСҖР°СӮСҖРёСҶР°, СҮР°СҒСӮРҫ РҪРө жалРөСҸ СҒамРҫР»СҺРұРёСҸ РқРёРәРҫлаСҸ РҪР°РҝРҫРјРёРҪала, СҮСӮРҫ:
Р’РёСӮСӮРө вҖ” Р»СғСҮСҲРёР№, РҙРҫРІРөСҖРөРҪРҪСӢР№ РјРёРҪРёСҒСӮСҖ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° III,В
СғСҒРҝРөС…Рё РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРөРіРҫ СҶР°СҖСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёСҸ вҖ” РөРіРҫ Р·Р°СҒР»СғРіР°.ВРўР°РәР¶Рө РұСӢР»Рҫ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ:
- Р’РёСӮСӮРө РІСӢРёРіСҖал «ВРҫР№РҪСғ СӮР°СҖРёС„РҫРІВ» Сғ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё;
- Два важРҪРөР№СҲРёС… замСӢСҒла РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° III, РІРІРөРҙРөРҪРёРө «вРҫРҙРҫСҮРҪРҫР№ РјРҫРҪРҫРҝРҫлии» (В«РҡазРөРҪРҪР°СҸ РҝСҖРҫРҙажа РҝРёСӮРёР№В») Рё СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РўСҖР°РҪСҒСҒРёРұР° вҖ” СҖРөализСғРөСӮСҒСҸ РІ СҚСӮРҫ РІСҖРөРјСҸ вҖ” СӮалаРҪСӮРҫРј Рё РіРёРіР°РҪСӮСҒРәРҫР№ СҚРҪРөСҖРіРёРөР№ Р’РёСӮСӮРө.В
- «ЗРҫР»РҫСӮР°СҸВ» РҙРөРҪРөР¶РҪР°СҸ СҖРөС„РҫСҖРјР° РұСӢла СӮРөСҒРҪРҫ СҒРІСҸР·Р°РҪР° СҒ СҚСӮРё РҙРІСғРјСҸ РјРөРіР°-РҝСҖРҫРөРәСӮами. РҹРҫ СҒСғСӮРё СҚСӮРҫ РІСҒС‘ РұСӢР» РІРөлиРәРёР№ СӮСҖРёРөРҙРёРҪСӢР№ РҝлаРҪ. Р”РҫРәазаСӮРөР»СҢСҒСӮРІР° СҚСӮРҫРіРҫ Рё СҒРҫСҒСӮавСҸСӮ РұРҫР»СҢСҲСғСҺ СҮР°СҒСӮСҢ РҙР°РҪРҪРҫР№ ГлавСӢ.
Р—РҫР»РҫСӮСӢРө РұлиРәРё РҪР° Р·Р°РәР°СӮРө РҳРјРҝРөСҖРёРё
РҳСӮР°Рә, РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖ СҖРөСҲРёР»СҒСҸ, Рё Рә РәРҫРҪСҶСғ XIX РІРөРәР° Р РҫСҒСҒРёСҸ РІРҝРөСҖРІСӢРө РҝРҫР»СғСҮила РҪР°РҙРөР¶РҪСӢР№ РәРҫРҪРІРөСҖСӮРёСҖСғРөРјСӢР№, РҝСҖРёРҪРёРјР°РөРјСӢР№ РІРҫ РІСҒРөРј РјРёСҖРөвҖҰ РөРіРҫ РҪазСӢРІР°СҺСӮ вҖ” «ЗРҫР»РҫСӮРҫР№ СҖСғРұР»СҢВ». РҳР· Р·РҫР»РҫСӮР° 900 РҝСҖРҫРұСӢ СҮРөРәР°РҪилаСҒСҢ Р·РҫР»РҫСӮР°СҸ РјРҫРҪРөСӮР°: РҝРҫР»СғРёРјРҝРөСҖиалСӢ вҖ” 5 СҖСғРұР»РөР№, РёРјРҝРөСҖиалСӢ вҖ” 10 СҖСғРұР»РөР№. РҳРјРҝРөСҖиал СҒРҫРҙРөСҖжал 7,74234 РіСҖамм СҮРёСҒСӮРҫРіРҫ Р·РҫР»РҫСӮР°, Р° лигаСӮСғСҖРҪСӢР№ РІРөСҒ РјРҫРҪРөСӮ РұСӢР» вҖ” 8,6 РіСҖамм. Р—Р° РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ лигаСӮСғСҖРҪСӢР№ РјРөСӮалл РҝСҖРёРҪСҸли РјРөРҙСҢ. (РӣРёРіР°СӮСғСҖР° РІ РҫСӮлиСҮРёРө РҫСӮ РҝСҖРёСҖРҫРҙРҪСӢС… или Р·Р»РҫСғРјСӢСҲР»РөРҪРҪСӢС… РҝСҖРёРјРөСҒРөР№ вҖ” СҒРҝРөСҶиалСҢРҪР°СҸ, СҒСӮСҖРҫРіРҫ фиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ РҙРҫРұавРәР° РҙР»СҸ СғР»СғСҮСҲРөРҪРёСҸ РјРөС…Р°РҪРёСҮРөСҒРәРёС… СҒРІРҫР№СҒСӮРІ РјРҫРҪРөСӮ, СғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮРё Рә РёСҒСӮРёСҖР°РҪРёСҺ.) РҹР»СҺСҒ РҪРөРұРҫР»СҢСҲРёРјРё СӮРёСҖажами РІСӢРҝСғСҒРәалиСҒСҢ РҝСҖРҫРұРҪСӢРө, РҝамСҸСӮРҪСӢРө Рё РҙРҫРҪР°СӮРёРІРҪСӢРө РјРҫРҪРөСӮСӢ вҖ” РҝРҫРҙР°СҖРҫСҮРҪСӢРө, СҮРөРәР°РҪРёРІСҲРёРөСҒСҸ РҪР° РұРҫР»РөРө РІСӢСҒРҫРәРҫРј С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРҫРј СғСҖРҫРІРҪРө. Р’ РӨРёРҪР»СҸРҪРҙРёРё СҮРөРәР°РҪилаСҒСҢ Р·РҫР»РҫСӮР°СҸ РјРҫРҪРөСӮР°: 10 Рё 20 РјР°СҖРҫРә.В Р—РҫР»РҫСӮРҫР№ СҖСғРұР»СҢ вҖ” СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮ (РҪРө РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№) Р·РҪамРөРҪРёСӮСӢС… СҖРөС„РҫСҖРј Р’РёСӮСӮРө. РҹРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸ СҖРөС„РҫСҖРјСӢ зафиРәСҒРёСҖРҫРІР°РҪСӢ РІ СҒРөСҖРёРё СғРәазРҫРІ 1895вҖ”97 РіРҫРҙРҫРІ, Р·Р°РәСҖРөРҝРёРІСҲРёС… РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёРө Р·РҫР»РҫСӮРҫРіРҫ СҖСғРұР»СҸ:
Р’ 1895 Рі. вҖ” СҖазСҖРөСҲРөРҪСӢ СҒРҙРөР»РәРё РІ Р·РҫР»РҫСӮСӢС… СҖСғРұР»СҸС….В
Р§РөСҖРөР· 4 РіРҫРҙР° вҖ” РҝСҖРёРҪСҸСӮРёРө РҪРҫРІРҫРіРҫ РңРҫРҪРөСӮРҪРҫРіРҫ СғСҒСӮава вҖҰ
РңРҫРҪРөСӮРҪСӢР№ РҙРІРҫСҖ РЎР°РҪРәСӮ-РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіР° РіРҫСӮРҫРІРёР»СҒСҸ Рә СҮРөРәР°РҪРәРө Р·РҫР»РҫСӮРҫР№ РјРҫРҪРөСӮСӢ СҒ 1896 РіРҫРҙР°. РқР°РҝСҖСҸР¶РөРҪРёРө, РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ, РҫРҝР°СҒРөРҪРёСҸ РҝРөСҖРөРҙ РҝСҖСӢР¶РәРҫРј РІ «ЗРҫР»РҫСӮРҫР№ РІРөРәВ» РұСӢли РҫРіСҖРҫРјРҪСӢ. Р§СӮРҫРұСӢ РёР·РұРөжаСӮСҢ Р»СҺРұСӢС… СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… РҝСҖРҫРұР»РөРј, РҪРөС…РІР°СӮРәРё РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС… РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРөР№, СҖРөСҲили РҙажРө РҝРөСҖРөРҪРөСҒСӮРё РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РјРөР»РәРёС… РјРҫРҪРөСӮ РёР· РјРөРҙРё РҙРҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮРІРҫРј 1/4, 1/2, 1, 2, 3 РәРҫРҝ. вҖ” РІ Р‘СҖРёСӮР°РҪРёСҺ (БиСҖРјРёРҪРіРөРј). Рҗ СҮР°СҒСӮСҢ РҫРұСҠРөРјРҫРІ РІСӢРҝСғСҒРәР° СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪРҫР№ РјРҫРҪРөСӮСӢ РІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ РҝРөСҖРөРҪРҫСҒРёР»РҫСҒСҢ РҪР° РјРҫРҪРөСӮРҪСӢРө РҙРІРҫСҖСӢ РҹР°СҖижа Рё Р‘СҖСҺСҒСҒРөР»СҸвҖҰВ
Р’ авгСғСҒСӮРө 1897 Рі. РҫРұСҠСҸРІР»РөРҪРҫ: Р·РҫР»РҫСӮРҫР№ СҖСғРұР»СҢ вҖ” РҫСҒРҪРҫРІРҪР°СҸ РҙРөРҪРөР¶РҪР°СҸ РөРҙРёРҪРёСҶР°, РәСғСҖСҒ СғСҒСӮР°РҪавливалСҒСҸ 1 Р·РҫР»РҫСӮРҫР№ СҖСғРұР»СҢ = 1,5 РәСҖРөРҙРёСӮРҪСӢС… СҖСғРұР»СҸ, СҚСӮРҫ РҪР°СҮалСҢРҪР°СҸ СӮРҫСҮРәР°, РІСҒРәРҫСҖРө РҙРҫСҒСӮРёРіРҪСғСӮ РәСғСҖСҒ 1:1. Р’СӢСҖажаСҸСҒСҢ СҒСӮРёР»Рө фиРҪР°РҪСҒРёСҒСӮРҫРІ СӮРҫР№ СҚРҝРҫС…Рё: «ЗРҫР»РҫСӮРҫР№ РІРөРә РҪР°СҒСӮСғРҝРёР» Рё РІ Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РҳРјРҝРөСҖРёРё. Р’ РөС‘ СҒРҫСҒСӮавРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё вҖ” РІ РӨРёРҪР»СҸРҪРҙРёРё вҖ” РҫРҪ РҪР°СҒСӮСғРҝРёР» РөСүРө СҖР°РҪСҢСҲРө, РІ 1877 Рі.
Р’ СӮРҫСӮ «вРөРәВ» РјРёСҖРҫРІСӢРө валСҺСӮСӢ РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІР° СҒСӮСҖР°РҪ РұСӢли РҫСҒРҪРҫРІР°РҪСӢ РҪР° Р·РҫР»РҫСӮРҫРј СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮРө. Рҗ РұСғмажРҪСӢРө РұР°РҪРәРҪРҫСӮСӢ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІ вҖ” РҝРҫ СҒСғСӮРё СҸРІР»СҸлиСҒСҢ СғРҙРҫСҒСӮРҫРІРөСҖРөРҪРёСҸРјРё Рҫ РҪалиСҮРёРё Сғ РҪРёС… Р·РҫР»РҫСӮР° РІ РҫРұСҠРөРјРө (СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРё!), СҖавРҪРҫРј СҒСғРјРјРө СғРәазаРҪРҪРҫР№ РҪР° РІСҒРөС… РөРіРҫ РұР°РҪРәРҪРҫСӮах, СғРјРҪРҫР¶РөРҪРҪРҫР№ РҪР° РҫфиСҶиалСҢРҪСӢР№ РәСғСҖСҒ. Рҳ РІСҒРө РұР°РҪРәРҪРҫСӮСӢ вҖ” СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫ РҫРұРјРөРҪивалиСҒСҢ РҪР° Р·РҫР»РҫСӮРҫвҖҰ РҹРҫСҒР»Рө-СҖРөС„РҫСҖРјРөРҪРҪСӢРө РұСғмажРҪСӢРө В«РәСҖРөРҙРёСӮРәРёВ», РІСӢРҝСғСҒРәР°РөРјСӢРө РҡазРҪР°СҮРөР№СҒСӮРІРҫРј, РұР°РҪРәРё СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫ РҫРұРјРөРҪивали РҪР° Р·РҫР»РҫСӮСғСҺ РјРҫРҪРөСӮСғ. РқР°СҒРөР»РөРҪРёРө РұРҫР»СҢСҲРө РҙРҫРІРөСҖСҸР»Рҫ Р·РҫР»РҫСӮРҫРјСғ СҖСғРұР»СҺ вҖ” РІ СҒРёР»Сғ РёС… физиСҮРөСҒРәРёС… СҒРІРҫР№СҒСӮРІ, РҝСҖРөР¶РҙРө РІСҒРөРіРҫ: РҫРҪРё РҪРө СҒРіРҫСҖали РҝСҖРё СҮР°СҒСӮСӢС… СӮРҫРіРҙР° РҝРҫжаСҖах, РҪРө РҝР»РөСҒРҪРөРІРөли РІ В«РәСғРұСӢСҲРәах».В
ДалРөРө Рә СғРәазаРҪРҪСӢРј РјРөСҖам важРҪРөР№СҲРёРј СҖРөСҲРөРҪРёРөРј (1899 Рі.) СҒРҪСҸли Р·Р°РҝСҖРөСӮСӢ РҪР° РІРІРҫР·/РІСӢРІРҫР· РәР°РҝРёСӮалРҫРІ РёР· СҒСӮСҖР°РҪСӢ. РҹРҫСҒР»РөРҙРҪРөРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө (РҝСҖРё СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫР№ РәРҫРҪРІРөСҖСӮР°СҶРёРё РІ Р·РҫР»РҫСӮРҫ, РҫР·РҪР°СҮавСҲРөРө РІСӢРІРҫР· РөРіРҫ РёР· СҒСӮСҖР°РҪСӢ) вҖ” РҝСҖРөРҙРјРөСӮ РҫСҒРҫРұРҫР№ РәСҖРёСӮРёРәРё РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРҫРІ РІРёСӮСӮРөРІРҫР№ СҖРөС„РҫСҖРјСӢ. Рҳ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒ РҪР°СҮалРҫРј РҹРөСҖРІРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ СҖазмРөРҪ РұСғмажРҪСӢС… В«РәСҖРөРҙРёСӮРҫРәВ» РҪР° Р·РҫР»РҫСӮСӢРө СҖСғРұли РұСӢР» РҝСҖРөРәСҖР°СүРөРҪ.
РҳРјРҝРөСҖиал, РҙРөСҒСҸСӮРёСҖСғРұР»РөРІР°СҸ РјРҫРҪРөСӮР° СҒ РҫСӮСҮРөРәР°РҪРөРҪРҪСӢРј РҝСҖРҫфилРөРј РқРёРәРҫлаСҸ II вҖ” РҫРҙРёРҪ РёР· СҒРёРјРІРҫР»РҫРІ Р РҫСҒСҒРёРё СҖСғРұРөжа 19вҖ”20 РІРөРәРҫРІ. Р СғРұР»СҢ РҝСҖРёР·РҪавали СҒамРҫР№ СӮРІРөСҖРҙРҫР№ валСҺСӮРҫР№ РІ РјРёСҖРө. РһРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёРө: Р·РҫР»РҫСӮРҫР№ Р·Р°РҝР°СҒ Р РҫСҒСҒРёРё. РһРҪ РІСҒС‘ РІСҖРөРјСҸ СҒСғСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РІРҫР·СҖР°СҒСӮал, РҙРҫСҒСӮРёРіРҪСғРІ Рә 1913 РіРҫРҙСғ СғСҖРҫРІРҪСҸ 1 400 СӮРҫРҪРҪ. РҳРјРҝРөСҖиал, В«РҙРөСҒСҸСӮРёСҖСғРұР»РөРІРёРәВ», СҮРөСҖРІРҫРҪРөСҶ (РІ РҝамСҸСӮСҢ Рҫ РҪРөРј Рё Р·РҫР»РҫСӮСғСҺ РјРҫРҪРөСӮСғ РЎРЎРЎР РІСҖРөРјРөРҪ РқРӯРҹР° СӮР°Рә Р¶Рө РҪазвали В«СҮРөСҖРІРҫРҪРөСҶВ») вҖ” РөРіРҫ РІ РҪР°СҮалРө XX РІРөРәР° РјРҫР¶РҪРҫ РұСӢР»Рҫ СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫ РҫРұРјРөРҪСҸСӮСҢ РҪР° 5,14 РҙРҫллаСҖР° РЎРЁРҗ или 1 С„СғРҪСӮ СҒСӮРөСҖлиРҪРіРҫРІ. Р—РҫР»РҫСӮР°СҸ РјРҫРҪРөСӮР° РҝРҫРұРөРҙила С…СҖРҫРҪРёСҮРөСҒРәСғСҺ РҙРҫ СҚСӮРҫРіРҫ РёРҪфлСҸСҶРёСҺ. Р’РҪСғСӮСҖРөРҪРҪРёРө СҶРөРҪСӢ РҝРөСҖРёРҫРҙР° Р·РҫР»РҫСӮРҫРіРҫ СҖСғРұР»СҸ РұСӢли СғСҒСӮРҫР№СҮРёРІСӢ.
- 1 РҝСғРҙ (16 РәРі) СҖжи: 1 СҖСғРұР»СҢ 20 РәРҫРҝРөРөРә;
- 1 РҝСғРҙ РјСғРәРё: 1 СҖСғРұР»СҢ 80 РәРҫРҝРөРөРә;
- 1 С„СғРҪСӮ (0,41 РәРі) С…Р»РөРұР°: 5 РәРҫРҝРөРөРә;
- 1 РәРі РәР°СҖСӮРҫС„РөР»СҸ: 1-2 РәРҫРҝРөР№РәРё;
- 1 РәРі СҒРІРёРҪРёРҪСӢ: 15-20 РәРҫРҝРөРөРә;
- 1 С„СғРҪСӮ СҒливРҫСҮРҪРҫРіРҫ РјР°СҒла: 35-50 РәРҫРҝРөРөРә;
- 1 РҙРөСҒСҸСӮРҫРә СҸРёСҶ: 15-20 РәРҫРҝРөРөРә;
- 1 РәРі СҒахаСҖР°: 35-40 РәРҫРҝРөРөРә.
РҹРҫСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёРө РҪалРҫРіРҫРІ РІСӢСҖРҫСҒР»Рҫ РҪР° 50 %, Рё РҫСҒРҪРҫРІРҪР°СҸ РёС… СӮСҸР¶РөСҒСӮСҢ РұСӢла РҝРөСҖРөРҪРөСҒРөРҪР° РҪР° РҙРҫС…РҫРҙСӢ РҫСӮ РҝСҖРҫРҙажи РҝРҫРҙР°РәСҶРёР·РҪСӢС… СӮРҫРІР°СҖРҫРІ (РәРҫСҒРІРөРҪРҪРҫРө РҪалРҫРіРҫРҫРұР»РҫР¶РөРҪРёРө), РІ СҖРөСҲР°СҺСүРөР№ РҙРҫР»Рө: РІРҫРҙРәРё, «мРҫРҪРҫРҝРҫР»СҢРәРёВ». РЎСӮСҖРҫРёР»РҫСҒСҢ РұРҫР»РөРө 2 700 РәРј Р¶РөР»РөР·РҪСӢС… РҙРҫСҖРҫРі РІ РіРҫРҙ. Р‘СӢР» РҝРҫСҒСӮСҖРҫРөРҪ РўСҖР°РҪСҒСҒРёРұ вҖ” РҪРҫ СӮРҫ РұСӢР»Рҫ СҒСӮРҫР»СҢ РІРөлиРәРҫРө СҒРҫРұСӢСӮРёРө, СҒСҖавРҪРёРјРҫРө РІ СҶРөР»РҫРј СҒ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёРј РҫСҒРІРҫРөРҪРёРөРј РЎРёРұРёСҖРё, СҮСӮРҫ РұСғРҙРөСӮ РІСӢРҪРөСҒРөРҪРҫ РІ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢР№ СҒСҺР¶РөСӮ. РҹРҫ СӮРөРјРҝСғ РҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫРіРҫ СҖРҫСҒСӮР° Р РҫСҒСҒРёСҸ РұСӢла РҝРөСҖРІРҫР№ РІ РјРёСҖРө.
РҡСҖРёСӮРёРәР° «зРҫР»РҫСӮРҫР№ СҖРөС„РҫСҖРјСӢВ»
РҳР· РјРҫСҖСҸ РәСҖРёСӮРёРә СҖРөС„РҫСҖРј Р’РёСӮСӮРө СҸ СғРҝРҫРјСҸРҪСғ РҝСҖРөР¶РҙРө РІСҒРөРіРҫ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРіРҫ СғСҮРөРҪРҫРіРҫ СҚРәРҫРҪРҫРјРёСҒСӮР° ВалРөРҪСӮРёРҪР° Р®СҖСҢРөРІРёСҮР° РҡР°СӮР°СҒРҫРҪРҫРІР°, РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫРіРҫ авСӮРҫСҖР° В«РҡамРөСҖСӮРҫРҪа». Р’ РәРҪРёРіРө «ЗРҫР»РҫСӮРҫ РІ СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәРө Рё РҝРҫлиСӮРёРәРө Р РҫСҒСҒРёРёВ». РҫРҪ РҫРҝРёСҖР°РөСӮСҒСҸ РҪР° СӮРҫСҮРәСғ Р·СҖРөРҪРёСҸ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәРҫРІ РІРёСӮСӮРөРІСҒРәРҫР№ СҖРөС„РҫСҖРјСӢ: РЎ. РЁР°СҖР°РҝРҫРІР°: Рҗ. Р”. РқРөСҮРІРҫР»РҫРҙРҫРІР°, Р“.Р’. Р‘СғСӮРјРё. РҳС… РҙРҫРІРҫРҙСӢ РҝСҖРҫСӮРёРІ СҖРөС„РҫСҖРјСӢ:В
РЈРІРөлиСҮРөРҪРёРө РіРҫСҒРҙРҫлга (Р·Р° СҒСҮС‘СӮ займРҫРІ СҒ СҶРөР»СҢСҺ РҝРҫРҝРҫР»РҪРөРҪРёСҸ Р·Р°РҝР°СҒРҫРІ Р·РҫР»РҫСӮР°).В
ЗавиСҒРёРјРҫСҒСӮСҢ РҫСӮ СҚРәСҒРҝРҫСҖСӮР° Р·РөСҖРҪР°. РһРұСҠРөРјСӢ СҚСӮРҫРіРҫ главРҪРҫРіРҫ СҚРәСҒРҝРҫСҖСӮРҪРҫРіРҫ СӮРҫРІР°СҖР°, СҒСғСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РәРҫР»РөРұалиСҒСҢ (РҪРөСғСҖРҫжаи).В
ЗавиСҒРёРјРҫСҒСӮРё СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәРё Р РҫСҒСҒРёРё РҫСӮ РәРҫРҪСҠСҺРҪРәСӮСғСҖСӢ РјРёСҖРҫРІРҫРіРҫ СҖСӢРҪРәР°.В
РЎРҫСҶиалСҢРҪРҫРө РҪР°РҝСҖСҸР¶РөРҪРёРө (РҪалРҫРіРё Р»Рөгли РҪР° РәСҖРөСҒСӮСҢСҸРҪ Рё СҖР°РұРҫСҮРёС…)вҖҰВ
ДалРөРө... Р’ 1897 РіРҫРҙСғ РҪР° СҖСғРәах Сғ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ РҪахРҫРҙРёР»РҫСҒСҢ 36 РјР»РҪ СҖСғРұР»РөР№ Р·РҫР»РҫСӮРҫРј, Р° РҪР° РҪР°СҮалРҫ 1902 РіРҫРҙР° СҚСӮР° СҶРёС„СҖР° РҝСҖРөРІСӢСҒила 645 РјР»РҪ СҖСғРұР»РөР№. РҳР·-Р·Р° СҚСӮРҫРіРҫ РұР°РҪРәам СҒСӮалРҫ РҪРө С…РІР°СӮР°СӮСҢ РҙРөРҪРөРі РҪР° РІСӢРҙР°СҮСғ РәСҖРөРҙРёСӮРҫРІ. БаРҪРәРё СҒСӮали РҝРҫРҫСүСҖСҸСӮСҢ РҝРҫРІСӢСҲРөРҪРёРөРј СҒСӮавРҫРә РҝСҖРёСӮРҫРә РҙРөРҪРөРі РҪР° РҙРөРҝРҫР·РёСӮСӢ. РЎР»РөРҙСҒСӮРІРёРө СҚСӮРҫРіРҫ вҖ” РҝРҫРІСӢСҲРөРҪРёРө СҒСӮРҫРёРјРҫСҒСӮРё РәСҖРөРҙРёСӮРҫРІ. В«РҹРҫСҒР»РөРҙРҪРёРјРё РҝРҫР»СҢР·РҫвалиСҒСҢ РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј РәСғРҝСҶСӢ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҪРөзамРөРҙлиСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝРҫРҙРҪСҸли СҒСӮРҫРёРјРҫСҒСӮСҢ СҒРІРҫРёС… СӮРҫРІР°СҖРҫРІВ». ВалРөРҪСӮРёРҪ Р®СҖСҢРөРІРёСҮ РҡР°СӮР°СҒРҫРҪРҫРІ:В
В вҖ” Р РҫСҒСҒРёСҸ, Р·Р°РҪРёРјР°СҸ РҝСҸСӮРҫРө-СҲРөСҒСӮРҫРө РјРөСҒСӮРҫ РІ РјРёСҖРө РҝРҫ РҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫРјСғ Рё СҒРөР»СҢСҒРәРҫС…РҫР·СҸР№СҒСӮРІРөРҪРҪРҫРјСғ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІСғ, РҝРҫ СҖазмРөСҖам РІРҪРөСҲРҪРөРіРҫ РҙРҫлга РҙРөлила РҝРөСҖРІСғСҺ-РІСӮРҫСҖСғСҺ СҒСӮСҖРҫСҮРәСғ СҒ РЎРҫРөРҙРёРҪРөРҪРҪСӢРјРё РЁСӮР°СӮами (РәСғСҖСҒРёРІ РјРҫР№, СғСӮРҫСҮРҪРөРҪРёСҸ РҙалРөРө, вҖ” Рҳ.РЁ.). РқРҫ Сғ РЎРЁРҗ РҫРҪ РұСӢР» РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј СҮР°СҒСӮРҪСӢР№, Р° Сғ Р РҫСҒСҒРёРё вҖ” РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ (СҒСғРІРөСҖРөРҪРҪСӢР№), РҝСҖРёРјРөСҖРҪРҫ 8,5 РјР»СҖРҙ. Р·РҫР»РҫСӮСӢС… СҖСғРұР»РөР№. (вҖҰ)
РҹРҫР»РөРјРёРәР° РұРөР· РІРҫР·СҖажРөРҪРёР№
РӯСӮРҫСӮ СҒСӮСҖР°РҪРҪСӢР№ РҝРҫРҙзагРҫР»РҫРІРҫРә РјРөР¶РҙСғ СӮРөРј РҫСӮСҖажаРөСӮ СҒСғСӮСҢ РҙалРөРө СҒРәазаРҪРҪРҫРіРҫ. Р’РҫР·СҖажаСӮСҢ СҒСӮРҫР»СҢ РәвалифиСҶРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫРјСғ, РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРјСғ, СғважаРөРјРҫРјСғ СғСҮРөРҪРҫРјСғ, РәР°Рә ВалРөРҪСӮРёРҪ РҡР°СҒР°СӮРҫРҪРҫРІ В«РҪР° РөРіРҫ РҝРҫР»РөВ», РІ СҒСӮСҖРҫРіРёС… СҚРәРҫРҪРҫРјРёСҮРөСҒРәРёС… РІСӢРәлаРҙРәах, РјРҪРө РҪРө РҝРҫРҙ СҒРёР»Сғ. РҜ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫРҝСҖРҫРұСғСҺ РҝРҫРәазаСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҙРІР° важРҪРөР№СҲРёС… РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРөР№СҲРёС… СҖРөСҲРөРҪРёСҸ РІ РёСҒСӮРҫСҖРёРё Р РҫСҒСҒРёРё СӮРҫРіРҫ РҝРөСҖРёРҫРҙР° РұСӢли РҝСҖРёРҪСҸСӮСӢ «вРҪРө СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәРёВ». Рҳ РөСҒли РҫРҝРҝРҫРҪРөРҪСӮСӢ СҒРҫглаСҒСҸСӮСҒСҸ СҒ Р°РұСҒРҫР»СҺСӮРҪРҫР№ жизРҪРөРҪРҪРҫР№ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮСҢСҺ СӮРөС… СҖРөСҲРөРҪРёР№, СӮРҫ, РҪавРөСҖРҪРҫ, Рё РІ Р°РҪСӮРё-Р·РҫР»РҫСӮРҫР№, Р°РҪСӮРё-Р’РёСӮСӮРөРІСҒРәРҫР№ РҝРҫР»РөРјРёРәРө РҝРҫСҸРІСҸСӮСҒСҸ РҪРҫРІСӢРө Р°СҖРіСғРјРөРҪСӮСӢ.
РўСҖР°РҪСҒСҒРёРұ. РқР°РҝРөСҖРөРіРҫРҪРәРё СҒ РІРҫР№РҪРҫР№
РҳРјРөРҪРҪРҫ РўСҖР°РҪСҒСҒРёРұ РҝРҫР·РІРҫлил СҒРҫС…СҖР°РҪРёСӮСҢ ДалСҢРҪРёР№ Р’РҫСҒСӮРҫРә Р·Р° Р РҫСҒСҒРёРөР№. РҹСҖРөРҙСӢСҒСӮРҫСҖРёСҸ РұСӢла СӮР°РәРҫРІР°вҖҰ В«РҡСҖСӢРјСҒРәР°СҸ РІРҫР№РҪа» РҪР° Р—Р°РҝР°РҙРө РҪазваРҪР°: «ВРҫСҒСӮРҫСҮРҪР°СҸВ». Рҗ РҪР° Р·Р°СҒРөРҙР°РҪРёРё РІ РқРёРәРёСӮСҒРәРҫРј РәР»СғРұРө РЎРөСҖРіРөСҸ РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮР° РҡР°РҝРёСҶСӢ, Рё РІРҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРё вҖ” РІ РҙРҫРәлаРҙРө (ЕвСҖРҫРҝРөР№СҒРәРёР№ РҙРөР»РҫРІРҫР№ РәРҫРҪРіСҖРөСҒСҒ, РҡР°РҪРҪСӢ, 2010 РіРҫРҙ), РҝРҫСӮРҫРј РІ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёС… РҫСҮРөСҖРәах, РәРҪигах СҸ Рҙал РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРө: В«РҹРөСҖРІР°СҸ РӣРҫРіРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәР°СҸВ». РЎРҫРҝСҖРҫРІРҫР¶Рҙала СҚСӮРҫ РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРө малРөРҪСҢРәР°СҸ «загаРҙРәа»: РәСӮРҫ, РІ РәР°РәРҫРј РіРҫРҙСғ РҝРҫСҒСӮСҖРҫРёР» РҝРөСҖРІСғСҺ Р¶РөР»РөР·РҪСғСҺ РҙРҫСҖРҫРіСғ РІ РҡСҖСӢРјСғ?
РҹСҖавилСҢРҪСӢР№ РҫСӮРІРөСӮ: Р°РҪглиСҮР°РҪРө РІ 1855-Рј. РЎРҫРөРҙРёРҪРёРІ РҝРҫСҖСӮ БалаРәлавСӢ (РІ СҚСӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РёС… Рұаза СҒРҪР°РұР¶РөРҪРёСҸ) Рё РұР°СӮР°СҖРөРё, РҫРұСҒСӮСҖРөливавСҲРёРө РЎРөРІР°СҒСӮРҫРҝРҫР»СҢ. РһСҒР°РҙР° СҒСӮала РҝСҖРҫСҒСӮРҫ: СҒРҫСҖРөРІРҪРҫРІР°РҪРёРөРј РҝРҫ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮРё РҫРұСҠРөРјСғ РҝРҫРҙРІРөР·РөРҪРҪСӢС… РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒРҫРІ. РҳСӮРҫРі: РіСҖСғР·СӢ Рә РЎРөРІР°СҒСӮРҫРҝРҫР»СҺ РҙРҫСҒСӮавлСҸлиСҒСҢ СҒРҫ СҒРәлаРҙРҫРІ Р‘СҖРёСӮР°РҪРёРё, РӨСҖР°РҪСҶРёРё РІ СҒСҖРөРҙРҪРөРј Р·Р° 20 РҙРҪРөР№. Рҗ РҫСӮ завРҫРҙРҫРІ Р РҫСҒСҒРёРё Р·Р° 90 РҙРҪРөР№ (РҪР° СӮСғ РәРҫСҲРјР°СҖРҪСғСҺ СҒСҖРөРҙРҪСҺСҺ СҶРёС„СҖСғ влиСҸли РҝРөСҖРёРҫРҙСӢ «вСӢРәР»СҺСҮРөРҪРёСҸВ» СҖР°СҒРәРёСҒР°РҪРёСҸ В«РҙРҫСҖРҫРіВ», РҝРҫР»РҪРҫР№ РҫСҒСӮР°РҪРҫРІРәРё РҝРҫРІРҫР·РҫРә СҒ РІРҝСҖСҸР¶РөРҪРҪСӢРјРё РІРҫлами).В
РһРұСӢСҮРҪСӢРө РҙРҫРІРҫРҙСӢ: «У РҪР°СҒ РұСӢли РҫСӮСҒСӮалСӢРө глаРҙРәРҫСҒСӮРІРҫР»СҢРҪСӢРө РҫСҖСғРҙРёСҸ, Сғ РҪРёС… вҖ” РҪР°СҖРөР·РҪСӢРөВ» вҖ”Р·Р°СӮРөРҪСҸСҺСӮ главРҪРҫРө: РҝРҫРҙРІРҫР· РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒРҫРІ! РҹСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІРҫ В«РҪР°СҖРөР·РҪРҫРіРҫВ» РҪР° СҒРөРІР°СҒСӮРҫРҝРҫР»СҢСҒРәРёС… РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёСҸС… РөСүРө РҪРө фаСӮалСҢРҪРҫ. РқРҫвҖҰ Сғ Р°РҪглиСҮР°РҪ, С„СҖР°РҪСҶСғР·РҫРІ вҖ” 500 Р·Р°СҖСҸРҙРҫРІ РҪР° РҫРҙРҪРҫ РҫСҖСғРҙРёРө, Сғ Р РҫСҒСҒРёРё вҖ” 70, РёвҖҰ В«24 авгСғСҒСӮР° 6-СҸ СғСҒРёР»РөРҪРҪР°СҸ РұРҫРјРұР°СҖРҙРёСҖРҫРІРәР° Р·Р°СҒСӮавила СғРјРҫР»РәРҪСғСӮСҢ Р°СҖСӮиллРөСҖРёСҺ РңалахРҫРІР° РәСғСҖРіР°РҪР° Рё 2-РіРҫ РұР°СҒСӮРёРҫРҪа». «УмРҫР»РәРҪСғСӮСҢВ» Р·РҪР°СҮРёР»Рҫ: СҒСғРјРјР°СҖРҪСӢР№ СӮРҫРҪРҪаж РҝСҖРҫСҒСӮРҫ СҒРјРөР» Р·Р°СүРёСӮРҪРёРәРҫРІ РЎРөРІР°СҒСӮРҫРҝРҫР»СҸ. РқР°СҲРё РҝРҫСӮРөСҖРё РҙРҫСҒСӮигли 3 000/РҙРөРҪСҢ вҖ” РҝСҖРё РҪРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮРё РІРөРҙРөРҪРёСҸ РҫСӮРІРөСӮРҪРҫРіРҫ РҫРіРҪСҸ, СҮСӮРҫ РҫРұРөСҒСҒРјСӢСҒлилРҫ РҙалСҢРҪРөР№СҲСғСҺ РҫРұРҫСҖРҫРҪСғ. Р’РҫР№РҪР° РҙРҫРәазала РҪРөСҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРёРө (РҪР° СҸР·СӢРәРө РјРөРҙРёСҶРёРҪСҒРәРёС… РҝСҖРҫСӮРҫРәРҫР»РҫРІ: В«РҪРөСҒРҫРІРјРөСҒСӮРёРјРҫРө СҒ жизРҪСҢСҺВ») СҖазмРөСҖРҫРІ СҒСӮСҖР°РҪСӢ Рё РҝСҖРҫСӮСҸР¶РөРҪРҪРҫСҒСӮРё РөС‘ Р¶РөР»РөР·РҪСӢС… РҙРҫСҖРҫРі.В
Р’СӢРІРҫРҙ. Р’ СӮР°РәРҫР№ РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫР№ РҝРҫ РіРөРҫРіСҖафиСҮРөСҒРәРҫРјСғ РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҺ РҙРөСҖжавРө Рё вҖ” Р¶РөР»РөР·РҪРҫРҙРҫСҖРҫР¶РҪРҫРө СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РҙРҫлжРҪРҫ РІРөСҒСӮРё СӮР°Рә Р¶Рө РҝРҫ-РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫРјСғ. РўРөРјРҝСӢ РөРіРҫ РұСғРҙРөСӮ РҙРёРәСӮРҫРІР°СӮСҢ РҪРө РҫРұСүРёР№ СғСҖРҫРІРөРҪСҢ СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәРё, вҖ” Р° СҒСӮРөРҝРөРҪРё РІРҫРөРҪРҪСӢС… СғРіСҖРҫР·, РіРөРҫРҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёС… амРұРёСҶРёР№. РҹРҫРҙС…РҫРҙ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё РҪР°СҲРөР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ, РҫРұСҠСҸСҒРҪСҸРІСҲРёР№ РҫСӮСҒСӮаваРҪРёРө СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫРіРҫ Р¶РөР»РөР·РҪРҫРҙРҫСҖРҫР¶РҪРҫРіРҫ СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІР° РҝСҖРҫСҒСӮРҫ, С„РҫСҖмалСҢРҪРҫ: В«РҫРұСүР°СҸ РҫСӮСҒСӮалРҫСҒСӮСҢ Р РҫСҒСҒРёРё, С„РөРҫРҙализм» вҖ” РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮРөРҪ Рё фаРәСӮРёСҮРөСҒРәРё РәРҫРҪСҒРөСҖРІРёСҖСғРөСӮ, РҝРҫРәСҖСӢРІР°РөСӮ РҪРөРҙРҫСҒСӮР°СӮРәРё СӮРҫРіРҙР°СҲРҪРөРіРҫ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫРІРёРҙРөРҪСҢСҸ РІ СҒС„РөСҖРө, СҒСӮавСҲРөР№ РІ XIX РІРөРәРө важРҪРөР№СҲРөР№.
ЗагаРҙРәР° в„– 2
РЎСӮСҖР°РҪР° вҖ” СҮРөРјРҝРёРҫРҪ РјРёСҖР°, лиРҙРөСҖ РІ СҒС„РөСҖРө Р¶.Рҙ. СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІР° РҝРөСҖРІРҫР№ РҝРҫР»РҫРІРёРҪСӢ 19 РІРөРәР°? РЎСӮР°СҖСӢР№ РҝРҫРҙС…РҫРҙ («фРөРҫРҙалСҢРҪСӢРө РҝРөСҖРөжиСӮРәРё, РҫСӮСҒСӮалРҫСҒСӮСҢВ»), Рё РІРҫРҫРұСүРө вҖ” СғСҮРөСӮ СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәРё, вҖ” РҝРҫР»РҪРҫСҒСӮСҢСҺ РҝРөСҖРөСҮРөСҖРәРҪСғСӮвҖҰ РҗРІСҒСӮСҖРёР№СҒРәРҫР№ РёРјРҝРөСҖРёРөР№. В«РӨРөРҫРҙалСҢРҪР°СҸВ», РҫСӮСҒСӮалаСҸ СҒСӮСҖР°РҪР° вҖ” РҪР° 1830 РіРҫРҙ вҖ” РҙРөСҖжала РҝРөСҖРІРҫРө РјРөСҒСӮРҫ РІ ЕвСҖРҫРҝРө Рё РјРёСҖРө: 121 РәРј РҙРөР№СҒСӮРІРҫвавСҲРёС… РҙРҫСҖРҫРі (Сғ Р‘СҖРёСӮР°РҪРёРё РІРәСғРҝРө СҒ РҳСҖлаРҪРҙРёРөР№ вҖ” 92 РәРј, Сғ РЎРЁРҗ вҖ” 87 РәРј).В Рҡ 1840 Рі. Сғ РҗРІСҒСӮСҖРёРё вҖ” 475 РәРј Р¶.Рҙ. РҙРҫСҖРҫРі. РһРҪР° РҝСҖРҫРҝСғСҒРәР°РөСӮ РІРҝРөСҖРөРҙ Р’РөлиРәРҫРұСҖРёСӮР°РҪРёСҺ (1 349 РәРј), РҪРҫ РІСҒРө РөСүРө РҫРҝРөСҖРөжаРөСӮ РҹСҖСғСҒСҒРёСҺ1, Сғ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ вҖ” 469РәРј, Рё РҝРҫ-РҝСҖРөР¶РҪРөРјСғ РҫРҝРөСҖРөжаРөСӮ В«РҝРөСҖРөРҙРҫРІСғСҺ РұСғСҖР¶СғазРҪСғСҺВ» РӨСҖР°РҪСҶРёСҺ, Сғ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ вҖ” 427 РәРј.В РқР° 1850 Рі. Сғ РҗРІСҒСӮСҖРёРё вҖ” 2 240 РәРј. Рў.Рө. РҫРҪР° СғР¶Рө РҫСӮСҒСӮР°РөСӮ РҫСӮ СғРәазаРҪРҪСӢС… РҝРөСҖРөРҙРҫРІСӢС… СҒСӮСҖР°РҪ: Р“РөСҖРјР°РҪРёРё (5 856 РәРј), РӨСҖР°РҪСҶРёРё (2 296 РәРј).
РқРҫ РөСҒли С…РҫСҖРҫСҲРҫ РІРҙСғРјР°СӮСҢСҒСҸ, РҙажРө СҒамРҫ СҚСӮРҫ РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРөРө РҫСӮСҒСӮаваРҪРёРө вҖ” СҒРёРјРҝСӮРҫРјР°СӮРёСҮРҪРҫ. РҗРІСҒСӮСҖРёР№СҒРәР°СҸ РёРјРҝРөСҖРёСҸ РұСӢла лиРҙРөСҖРҫРј Р¶РөР»РөР·РҪРҫРҙРҫСҖРҫР¶РҪРҫРіРҫ СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІР°, РҝРҫРәР° СҚСӮРҫ РҙРёРәСӮРҫвалРҫСҒСҢ РәСҖайРҪРөР№ РІРҫРөРҪРҪРҫ-РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№, жизРҪРөРҪРҪРҫ-РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮСҢСҺ. РҳР· 2 617 РәРј авСҒСӮСҖРёР№СҒРәРёС… Р¶РөР»РөР·РҪСӢС… РҙРҫСҖРҫРі РІ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮРё вҖ” 1 852 РәРј. Рҗ РҝРҫР·Р¶Рө, РәРҫРіРҙР° РҙалСҢРҪРөР№СҲРёР№ СҖРҫСҒСӮ, РіСғСҒСӮРҫСӮСғ Р¶.Рҙ. СҒРөСӮРё СҒСӮала СғР¶Рө РҫРҝСҖРөРҙРөР»СҸСӮСҢ РҝСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәР°, РҗРІСҒСӮСҖРёСҸ РјРҫгла В«РҝРҫР·РІРҫлиСӮСҢ СҒРөРұРө РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РҫСӮСҒСӮР°СӮСҢВ».В
РҳСӮРҫРі... РқРҫСҒРёСӮРөР»СҢ СғРҪРёСҮижиСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫР·РІРёСүР° В«РӣРҫСҒРәСғСӮРҪР°СҸ РёРјРҝРөСҖРёСҸВ», РҗРІСҒСӮСҖРёСҸ, РҝРҫСҮСӮРё СҖазвалРөРҪРҪР°СҸ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРөР№ 1848 РіРҫРҙР°, вҖ” РІСҒРө Р¶Рө СҒСғРјРөла СҒСҲРёСӮСҢ СҒРІРҫРё «лРҫСҒРәСғСӮРәРёВ» СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ Р¶РөР»РөР·РҪСӢС… РҙРҫСҖРҫРі. РҳРҪР°СҮРө РіРҫРІРҫСҖСҸ, СҒСғРјРөла РІСӢСҒСӮСҖРҫРёСӮСҢ В«СҒРәРөР»РөСӮ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮва», РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёСӮСҢ РәРҫРјРјСғРҪРёРәР°СҶРёСҸРјРё РІСҒРө РҝСҖРҫРұР»РөРјРҪСӢРө РҝСҖРҫРІРёРҪСҶРёРё Рё С„СҖРҫРҪСӮСӢ РұСғРҙСғСүРёС… РІРҫР№РҪ. Рҳ РөС‘ РҫРұСҖРөСӮРөРҪРҪР°СҸ СҶРөР»РҫСҒСӮРҪРҫСҒСӮСҢ РІСӢРҙРөСҖжала РҝСҖРҫРІРөСҖРәСғ Рё РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РҹРөСҖРІРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РІ СҖРөалСҢРҪРҫРј В«РәРҫР»СҢСҶРө С„СҖРҫРҪСӮРҫРІВ». РўРҫРіРҙР° СҒСӮСҖРөРјРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө РҝРөСҖРөРұСҖРҫСҒРәРё СҒРІРҫРёС… Рё РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРёС… РҙРёРІРёР·РёР№ вҖ” РҝСҖРҫСӮРёРІ Р°СҖРјРёР№ Р РҫСҒСҒРёРё, РҝСҖРҫСӮРёРІ РЎРөСҖРұРёРё, РҳСӮалии, Р“СҖРөСҶРёРё, Р·Р°СӮРөРј Рё Р СғРјСӢРҪРёРёвҖҰ РҝРҫР·РІРҫлили РөР№ СҒРҫС…СҖР°РҪСҸСӮСҢ РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪСғСҺ СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёСҮРөСҒРәСғСҺ СҒСӮР°РұРёР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ.В
Р•СүРө РёСӮРҫРі. В«РӣРҫСҒРәСғСӮРҪР°СҸ РёРјРҝРөСҖРёСҸВ» РҪР° РҝРҫР»СӮРҫСҖР° РіРҫРҙР° РҝРөСҖРөжила Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәСғСҺ. РҹР»СҺСҒ Рё В«РҝРөСҖСҒРҫРҪалСҢРҪСӢР№В» фаРәСӮРҫСҖ: Р¶РөР»РөР·РҪСғСҺ РҙРҫСҖРҫРіСғ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРівҖ”РҰР°СҖСҒРәРҫРө РЎРөР»Рҫ, РҝРөСҖРІСғСҺ РІ Р РҫСҒСҒРёРё, РҝРҫСҒСӮСҖРҫРёР» авСҒСӮСҖРёРөСҶ РӨСҖР°РҪСҶ РҗРҪСӮРҫРҪ Р“РөСҖСҒСӮРҪРөСҖ. РһРҪ РұСӢР» РІРөСҒСҢРјР° РәвалифиСҶРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢРј РёРҪР¶РөРҪРөСҖРҫРј, Рә СӮРҫРјСғ Р¶ СҒСӢРҪРҫРј РӨСҖР°РҪСҶР° РҷРҫР·Рөфа Р“РөСҖСҒСӮРҪРөСҖР°, авСӮРҫСҖР° РҝлаРҪР° СӮРҫРіРҫ С„РөРҪРҫРјРөРҪалСҢРҪРҫРіРҫ авСҒСӮСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ Р¶РөР»РөР·РҪРҫРҙРҫСҖРҫР¶РҪРҫРіРҫ СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІР°. РһРҙРҪР°РәРҫ РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖ РқРёРәРҫлай, С…РҫСӮСҸ Рё СӮалаРҪСӮливСӢР№ РёРҪР¶РөРҪРөСҖ (С„РҫСҖСӮСӢ РөРіРҫ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСҶРёРё СҒСӮРҫСҸСӮ РҝРҫ СҒРөР№ РҙРөРҪСҢ), СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёСҮРөСҒРәРҫР№ важРҪРҫСҒСӮРё Р¶.Рҙ. вҖ” РҪРө РҝРҫРҪимал РҙРҫ СҒамРҫРіРҫ РҪР°СҮала РҡСҖСӢРјСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ. Рҳ РҪР° 1854 РіРҫРҙ: РІ РҗРІСҒСӮСҖРёРё вҖ” 2 617 РәРј Р¶.Рҙ., РІ Р РҫСҒСҒРёРё вҖ” 601 РәРј.В
РҹСҖРёРјРөСҖ 2. РҳР· РЎРҗРЎРЁ (СӮРҫРіРҙР°СҲРҪСҸСҸ Р°РұРұСҖРөРІРёР°СӮСғСҖР° РЎРЁРҗ)
РҹРҫСҮСӮРё СҒРёРҪС…СҖРҫРҪ СҒ РҡСҖСӢРјСҒРәРҫР№, РҪРҫ, СҒлава Р‘РҫРіСғ, РІРҙали РҫСӮ Р РҫСҒСҒРёРё. Рҳ РҝРҫР·Р¶Рө РҝСҖавилСҢРҪРҫ РҪами РҝРҫРҪСҸСӮСӢР№ РҝСҖРёРјРөСҖ амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫР№ «вРҫР№РҪСӢ РЎРөРІРөСҖР° Рё Юга» (1861вҖ”1865 РіРі.). «ВСҒРөРјРёСҖРҪР°СҸ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸВ» РҪРөРјСҶР° Р“РөР»СҢРјРҫСӮР° РҪРө РҝСҖРҫРҝСғСҒСӮила фаРәСӮ РҪСӢРҪРө РҪРөРҙРҫРҫСҶРөРҪРөРҪРҪСӢР№: «в РІРҫР№РҪРө РЎРөРІРөСҖР° СҒ ЮгРҫРј СҖРөСҲР°СҺСүРөРө СҒР»РҫРІРҫ СҒРәазалвҖҰ Р—Р°РҝР°РҙВ», РІ СҒРјСӢСҒР»Рө Р·Р°РҝР°РҙРҪСӢРө СҲСӮР°СӮСӢ РЎРЁРҗ. Р”РөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ, РІРөРҙСҢ Рә 1861 РіРҫРҙСғ Р°РҪСӮагРҫРҪРёР·Рј РЎРөРІРөСҖСҸРҪ Рё ЮжаРҪ РҝРҫРҙРөлил СӮРҫР»СҢРәРҫ РІРҫСҒСӮРҫСҮРҪСӢРө СҲСӮР°СӮСӢ. Рҗ РҙР»СҸ РІСҒРөР№ Р·Р°РҝР°РҙРҪРҫР№ РҝРҫР»РҫРІРёРҪСӢ РЎРЁРҗ важРҪСӢ РұСӢли вҖ” РҪРө РәР°РәРёРө-СӮРҫ СҒРІРҫРұРҫРҙСӢ СҖР°РұРҫРІ, Р° Р¶РөР»РөР·РҪСӢРө РҙРҫСҖРҫРіРё. РҳС… РҫРұРөСҒРҝРөСҮивала РҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РЎРөРІРөСҖСҸРҪ. Рҳ РІ 1862 Рі. (РІСӮРҫСҖРҫР№ РіРҫРҙ РұРҫРөРІСӢС… РҙРөР№СҒСӮРІРёР№) РҝСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮРҫРј РҗРІСҖаамРҫРј РӣРёРҪРәРҫР»СҢРҪРҫРј РҝРҫРҙРҝРёСҒР°РҪ вҖ” Pacific Railroad Act. Рҳ Р·Р°РҝР°Рҙ (РЎРЁРҗ) РІР·СҸР» РёС… СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғвҖҰ
РЎСӮСҖРҫили СӮРө РҙРҫСҖРҫРіРё РҙРҫ СӮРёС…РҫРҫРәРөР°РҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫРұРөСҖРөР¶СҢСҸ РәРҫРјРҝР°РҪРёРё Union Pacific Рё Central Pacific. Р’Рҫ РјРҪРҫРіРҫРј СӮСҖСғРҙами РІРҫРөРҪРҪРҫРҝР»РөРҪРҪСӢС… СҺжаРҪ. Рҳ Р РҫСҒСҒРёСҸ СғСҒРІРҫила СғСҖРҫРә, РҝРҫРҪСҸла жизРҪРөРҪРҪСғСҺ СҖРҫР»СҢ Р¶.Рҙ. РҙР»СҸ РҝСҖРҫСӮСҸР¶РөРҪРҪСӢС… РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІ. вҖҰР’РҫРҫРұСҖазив РәР°РәРҫРіРҫ-РҪРёРұСғРҙСҢ РіРөРҪРөСҖала СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫРіРҫ Р“РөРҪСҲСӮР°РұР° СӮРҫР№ РҝРҫСҖСӢ, РјСӢ СғСҒР»СӢСҲРёРј Рё РөРіРҫ РІСӢСҒСӮСҖР°РҙР°РҪРҪСғСҺ СҖРөРҝлиРәСғ: «СиРұРёСҖСҒРәСғСҺ РҙРҫСҖРҫРіСғ РҝРҫСҒСӮСҖРҫРёСӮСҢ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ вҖ” Рё Рә СҮРөСҖСӮСғ РІСҒСҺ СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәСғ!В»
РӣРёСҲСҢ 1 РёСҺР»СҸ 1903 РіРҫРҙР° РІСҒРө СҖРҫСҒСҒРёСҸРҪРө, РҝРҫРҪимавСҲРёРө, РҝСҖРё РәР°РәРёС… СӮРҫР»СҢРәРҫ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… Р РҫСҒСҒРёСҸ РјРҫР¶РөСӮ СҒРҫС…СҖР°РҪРёСӮСҢСҒСҸ РІ РҙРҫСҒСӮРёРіРҪСғСӮСӢС… РөСҺ РҫСҮРөСҖСӮР°РҪРёСҸС…, РІР·РҙРҫС…РҪСғли СҒ РҫРұР»РөРіСҮРөРҪРёРөРј: РўСҖР°РҪСҒСҒРёРұ Р·Р°СҖР°РұРҫСӮал! Рҳ РұРөР·Рҫ РІСҒСҸРәРёС… В«РәСҖР°СҒРҪСӢС… Р»РөРҪСӮРҫСҮРөРәВ» СҸРәРҫРұСӢ РҙР»СҸ РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёСҸ РҙРҫСҖРҫРіРё РұСҖРҫСҒилиСҒСҢ РҝРөСҖРөРұСҖР°СҒСӢРІР°СӮСҢ РІРҫР№СҒРәР° РҪР° Р’РҫСҒСӮРҫРә. РҹРөСҖРөРІРҫР· РҫРҙРҪРҫРіРҫ Р°СҖРјРөР№СҒРәРҫРіРҫ РәРҫСҖРҝСғСҒР° (30 000 СҒРҫР»РҙР°СӮ РҝР»СҺСҒ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө) Р·Р°РҪимал РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё СӮРҫРіРҙР°СҲРҪРөРіРҫ РўСҖР°РҪСҒСҒРёРұР° РҪР° РјРөСҒСҸСҶ. РҡРҫСӮРҫСҖСӢС… (РјРөСҒСҸСҶРөРІ), РҙРҫ РҝРөСҖРІРҫРіРҫ РІСӢСҒСӮСҖРөла Р СғСҒСҒРәРҫ-СҸРҝРҫРҪСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РҫСҒСӮавалРҫСҒСҢ РјРөРҪРөРө СҲРөСҒСӮРё! Рҗ РұРөР· РҪРөРіРҫ РІРөСҒСҢ РҪР°СҲ ДалСҢРҪРёР№ Р’РҫСҒСӮРҫРә РҫСӮСҒСӮРҫСҸСӮСҢ РұСӢР»Рҫ РөСүРө СҒР»РҫР¶РҪРөРө, СҮРөРј РЎРөРІР°СҒСӮРҫРҝРҫР»СҢ РІ РҡСҖСӢРјСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪРө. РҹРҫР»СғСӮРҫСҖагРҫРҙРҫРІРҫР№ «маСҖСҲ-РұСҖРҫСҒРҫРәВ» РҝРҫРҙРәСҖРөРҝР»РөРҪРёР№ СҒ В«РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒами», СҮСӮРҫ РІ СҖР°РҪСҶах Рё РәР°СҖРјР°РҪах? вҖ” РҜРҝРҫРҪРёРё РҝСҖРөРҙСҒСӮРҫСҸла РұСӢ РҙажРө РҪРө РІРҫРөРҪРҪР°СҸ, Р° РІСҒРөРіРҫ лиСҲСҢ РҝРҫлиСҶРөР№СҒРәР°СҸ РҫРҝРөСҖР°СҶРёСҸ. Р§РҳРўРҗРўР¬ Р”РҗРӣЬШЕ
РҹСҖРёРјРөСҮР°РҪРёРө:
1В РҹР»СҺСҒ РІСҒРө РҫСҒСӮалСҢРҪСӢРө Р“РөСҖРјР°РҪСҒРәРёРө РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІР° РІ СҒСғРјРјРө СҒ РҹСҖСғСҒСҒРёРөР№.
РқР° РҫРұР»РҫР¶РәРө: С„СҖагмРөРҪСӮ СҒРәРҫСҖРҫР№ РәРҪРёРіРё Рҳ.РЁСғРјРөР№РәРҫ «ЗРҫР»РҫСӮРҫ РІ РёСҒСӮРҫСҖРёРё Рё РәСғР»СҢСӮСғСҖРө Р РҫСҒСҒРёРёВ»
![]() вҖӢ
вҖӢ