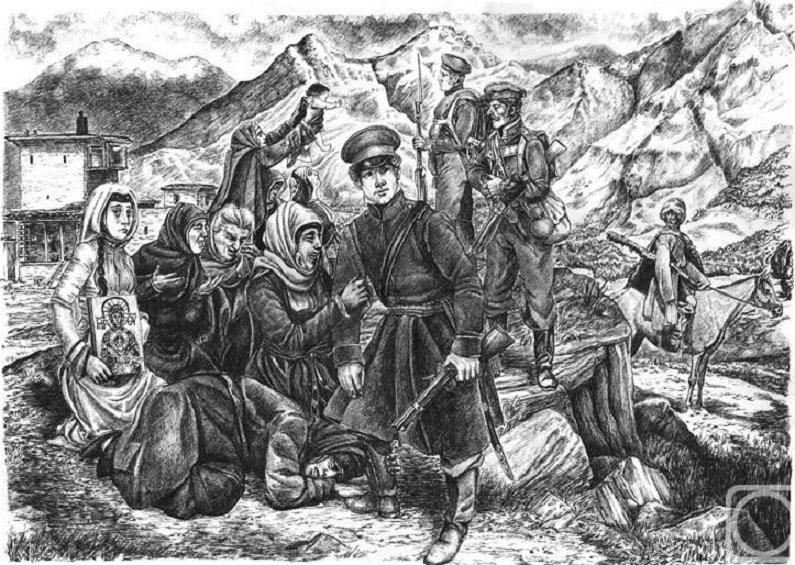–У—А—Г–Ј–Є—П. –Ъ–∞–Ї ¬Ђ–і–≤–Њ–є–љ–∞—П –Є–≥—А–∞¬ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–∞ —А–µ–ґ–Є–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤
–У—А—Г–Ј–Є—П. –Ъ–∞–Ї ¬Ђ–і–≤–Њ–є–љ–∞—П –Є–≥—А–∞¬ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–∞ —А–µ–ґ–Є–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤

–Ю–Ъ–Ю–Э–І–Р–Э–Ш–Х. –Я–†–Х–Ф–Ђ–Ф–£–©–Х–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ
–Т –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є —А–µ–ґ–Є–Љ –і–Њ–≤–µ–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –Є–Љ –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї—Г—О –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–∞—Е—Г. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ вАФ –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–∞–Љ –ґ–µ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї ¬Ђ—Г–ґ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Њ–є¬ї...
–Ъ–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Њ–є, —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–≤—И–µ–є—Б—П –ґ–∞–ї–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ–Є –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤–µ—Б—В–Є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ—Г—О¬ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г ¬Ђ–≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є¬ї —Б –љ–µ—Й–∞–і–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤ вАФ –∞–±—Е–∞–Ј–Њ–≤, –Њ—Б–µ—В–Є–љ, –∞—А–Љ—П–љ. –•–Њ—В—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–њ–Њ—А–∞ –љ–∞ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ –њ–Њ—А—Л –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –Є–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Њ–≤. –Ф–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–ї–Њ–Љ–∞—В—М —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ¬ї —А–∞–Ј–љ—Л—Е —В–∞–Љ ¬Ђ–љ–µ—В–Є—В—Г–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ—А—В–∞¬ї –±—Л–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є.
–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б—А–µ–і–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –љ–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –У—А—Г–Ј–Є—П –і–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –Т–ї–∞—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–∞ –≤ –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ —Г–ґ–µ –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 1920 –≥–Њ–і–∞, вАФ –∞ –≤ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є вАФ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –њ–Њ–±–µ–і–∞ —Н—В–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ —Б –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ 11-–є –∞—А–Љ–Є–Є –†–Ъ–Ъ–Р. –Ґ–∞–Ї, –≤ –С–∞–Ї—Г –µ–µ –±—А–Њ–љ–µ–њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤–Њ—И–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—Г—В–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –±–µ–Ј –±–Њ—П, вАФ –∞ –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ—Л–є –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В —Б–∞–Љ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –≤–ї–∞—Б—В—М –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–≤–Ї–Њ–Љ—Г, –Њ–њ–Є—А–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—Й–љ—Г—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞. –Р –≤ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ (—В–Њ—З–љ–µ–µ вАФ —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –≤ –≠—А–Є–≤–∞–љ–Є) —З—Г—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ —Г–ґ–µ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–µ–≤–Ї–Њ–Љ—Г, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–∞–Љ–Є. –Я–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –і–∞—И–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, вАФ —З–µ–є —А–µ–ґ–Є–Љ, –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–≤ –≤–Њ–є–љ—Г –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б—В—А–∞–љ—Г –љ–∞ –≥—А–∞–љ—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Р –≤–Њ—В —Б –У—А—Г–Ј–Є–µ–є (–Ј–∞–±–µ–≥–∞—П –љ–∞–њ–µ—А–µ–і) –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1921 –≥–Њ–і–∞ —З–∞—Б—В—П–Љ –†–Ъ–Ъ–Р –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Є—В—М—Б—П. –•–Њ—В—П –≤ —А—П–і–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ ¬Ђ—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞–љ—П–ї–Њ 3 –љ–µ–і–µ–ї–Є¬ї вАФ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г 11 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П (–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В—Л –≤ —О–ґ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ) –і–Њ 18 –Љ–∞—А—В–∞ (–Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ—Л–є –Є–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і вАФ –С–∞—В—Г–Љ) –њ—А–Њ—И–ї–Њ 5 –љ–µ–і–µ–ї—М. –•–Њ—В—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л –Є –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї—Г–і–∞ —А–∞–љ—М—И–µ вАФ —Г–ґ–µ 25 —Д–µ–≤—А–∞–ї—ПвА¶
***
–Р –≤–µ–і—М —Г —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є–Є –±—Л–ї —И–∞–љ—Б –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—П! –Я—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —Е–Є—В—А–Є—В—М, вАФ –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П –і–≤—Г–ї–Є—З–љ–Њ-–≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ш, —З—В–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ–Њ, вАФ –µ–µ –ї–Є–і–µ—А–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Ї –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ, –љ—Г, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–∞–Ї, –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З–µ–Љ –Њ–љ–Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–ї—М–Є—З –±–µ–Ј –љ—Г–ґ–і—Л –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –Ї—А–∞–є–љ–Є—Е –Љ–µ—А –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Ї–∞–Ї-–љ–Є–Ї–∞–Ї –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–њ–∞—А—В–Є–є—Ж–µ–≤ вАФ –і–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –µ–і–Є–љ–Њ–є –†–°–Ф–†–Я –љ–∞ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤¬ї –Є ¬Ђ–Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤¬ї –љ–∞ 2-–Љ —Б—К–µ–Ј–і–µ –≤ 1903 –≥–Њ–і—Г. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е, —П—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞-–Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Я–ї–µ—Е–∞–љ–Њ–≤–∞, вАФ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –Њ—В —В—Г–±–µ—А–Ї—Г–ї–µ–Ј–∞ –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є. –І—М–µ –Є–Љ—П, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М —Б—В–∞–ї –љ–Њ—Б–Є—В—М –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е, –љ—Л–љ–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Т–£–Ч–Њ–≤ вАФ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ (—Б–µ–є—З–∞—Б вАФ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В), –≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–µ—З—М–µ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—Й–Є–є—Б—П ¬Ђ–њ–ї–µ—Е–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є¬ї.¬†
–Ъ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ –≥–ї–∞–≤–∞ –°–Њ–≤–љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –†–°–§–°–† —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–і–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, ¬Ђ–Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–Є¬ї. –Ф–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —В–µ —Б–±–µ–ґ–∞–ї–Є –Є–Ј –У—А—Г–Ј–Є–Є –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—О, 29 –Љ–∞—П 1921 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї –Ю—А–і–ґ–Њ–љ–Є–Ї–Є–і–Ј–µ, –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –Р—А–Љ–Є—О –Є –≤–љ—Г—В—А–Є–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Є—Б–Ї–∞—В—М –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –і–ї—П –±–ї–Њ–Ї–∞ —Б –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ–Є –µ–Љ—Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–Є –µ—Й–µ –і–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ—Л –Ї –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–µ –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є –љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—ЕвА¶–Я—А–Њ—И—Г –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ, –Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –У—А—Г–Ј–Є–Є —В—А–µ–±—Г—О—В –Њ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–∞–±–ї–Њ–љ–∞, –∞ —Г–Љ–µ–ї–Њ–≥–Њ –Є –≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є¬ї.¬†
–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З–∞—Б—В—М—О —Н—В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є¬ї —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є 7 –Љ–∞—П 1920 –≥–Њ–і–∞, вАФ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Љ–µ–ґ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ. –Э–∞ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б—В–∞—В–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї –ї—О–±—П—В —Б—Б—Л–ї–∞—В—М—Б—П —В–µ —Б–∞–Љ—Л–µ ¬Ђ–њ–ї–∞–Ї–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є¬ї –њ–Њ ¬Ђ–љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Є –≤–µ—А–Њ–ї–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Є—А–љ–Њ–є, –љ–Є—З—Г—В—М –і–ї—П –љ–Є—Е –љ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є¬ї:
¬Ђ–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–∞ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є –≤—Е–Њ–і—П—В, –†–Њ—Б—Б–Є—П –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Є—Е —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤, –Ї–Њ–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г –Є –Ј–µ–Љ–ї–µ¬ї.
–£–≤—Л, –і–ї—П —В–∞–Ї–Є—Е ¬Ђ–њ–ї–∞–Ї–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤¬ї (–Є –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г вАФ —П—А—Л—Е –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ —З—В–Њ –°–°–°–†, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є) –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В–Њ–µ ¬Ђ–±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ¬ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–±–Њ–Ї–Њ. –Ю —З–µ–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Є—Е –ґ–µ —Б–Њ–Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є-—Г—З–µ–љ—Л–µ вАФ –≤ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–µ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –У—А—Г–Ј–Є–Є¬ї, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 60-—Е –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є:¬†
¬Ђ–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ, –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А–≤–∞—В—М –≤—Б—П–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Є –≤–њ—А–µ–і—М –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –≤—Б–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ –Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ, –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –љ–∞ —А–Њ–ї—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є –µ–µ, —Г–і–∞–ї–Є—В—М —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞, –ї–µ–≥–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј –Љ–µ—Б—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤¬ї.
–Р –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М –Є –Њ –±–Њ–ї–µ–µ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ–є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–µ –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є:
¬Ђ–Я–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ–Љ—Г 7 –Љ–∞—П 1920 –≥. –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б –†–°–§–°–† –У—А—Г–Ј–Є—П –±—Л–ї–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–∞ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –ї—О–±–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–µ, –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—Й–µ–є –љ–∞ —А–Њ–ї—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–ї–Є –µ—С —З–∞—Б—В–Є, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –µ—С –њ–Њ—А—В–∞—Е –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —В–∞–Ї–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Ф–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –У—А—Г–Ј–Є–Є –њ–Њ—А—В –С–∞—В—Г–Љ —Б —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ–љ—Л–µ –У—А—Г–Ј–Є–µ–є –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1918 –≥., —Г–є–і—Г—В –Њ—В—В—Г–і–∞¬ї.
***
–°–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Є —Б—В–Њ–Є—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї–Њ–є-–Ї–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–Ї–Є –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А–∞—Е –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ. –Ґ–∞–Ї —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –ї–µ–≥–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ъ–Њ–Љ–њ–∞—А—В–Є–Є, —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ –≤—Л—Е–Њ–і –µ–µ –≥–∞–Ј–µ—В, вАФ –∞ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ –і–∞–ґ–µ –і–∞–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–є —Б—К–µ–Ј–і. –І—В–Њ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —В–Њ—В –љ–µ–Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–є —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ ¬Ђ–±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –≤ –У—А—Г–Ј–Є—О –≤ –Њ–±–Њ–Ј–∞—Е 11-–є –∞—А–Љ–Є–Є –†–Ъ–Ъ–Р¬ї, вАФ –љ–Њ —А–∞–љ–µ–µ –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ. –°–∞–Љ —Д–∞–Ї—В —З–µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —П—А—З–∞–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –Є—Б—В–Є–љ–љ—Г—О —Б—Г—В—М —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є, —Е–Љ, ¬Ђ–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є¬ї вАФ –Є —А—Г–ї—П—Й–Є—Е –µ—О –≤—А–Њ–і–µ –±—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞, вАФ –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ—Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Н—В–Є–Љ ¬Ђ–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–∞–Љ¬ї —В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ:
¬Ђ–Т–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ –Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Ю–љ–Є –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –≤ –Ф—Г—И–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ, –У–Њ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ, –Ґ–µ–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –Р—Е–∞–ї—Ж–Є—Е—Б–Ї–Њ–Љ, –С–Њ—А—З–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –°–µ–љ–∞–Ї—Б–Ї–Њ–Љ, –Ч—Г–≥–і–Є–і—Б–Ї–Њ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Г–µ–Ј–і–∞—Е. –Т –Є—О–ї–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –љ–∞–ї–µ—В –љ–∞ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –≥–∞–Ј–µ—В вАЬ–Ъ–Њ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–ЄвАЭ –Є вАЬ–°–∞–Ї–∞—А—В–≤–µ–ї–Њ—Б –Ї–Њ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–ЄвАЭ. –Х—Й–µ —А–∞–љ–µ–µ, 14 –Є—О–љ—П, –∞–≥–µ–љ—В—Л вАЬ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞вАЭ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –љ–∞–ї–µ—В –љ–∞ –С—О—А–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Є –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є. –Т–љ–Њ–≤—М –±—Л–ї–Є –±—А–Њ—И–µ–љ—Л –≤ —В—О—А—М–Љ—Л –±–µ–Ј —Б—Г–і–∞ –Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є, —З–ї–µ–љ—Л –¶–Ъ –Ъ–Я (–±) –У—А—Г–Ј–Є–Є¬ї.
–Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –Є—Б—Е–Њ–і—П –і–∞–ґ–µ –Є–Ј —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ—В 7 –Љ–∞—П 1920 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –њ–Њ—З–≤—Г –і–ї—П –µ–≥–Њ –і–µ–љ–Њ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є. –Ш —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ вАФ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є ¬Ђ—О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ¬ї. –≠—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї —Б –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В—Л–Љ ¬Ђ–С—Г–і–∞–њ–µ—И—В—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ–Љ–Њ—А–∞–љ–і—Г–Љ–Њ–Љ¬ї, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ъ–Є–µ–≤ –Њ–±—П–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В–і–∞—В—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –љ–∞ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —П–і–µ—А–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ—Б—П —В–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –°–°–°–† –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –°–®–Р, –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є –†–§ вАФ –Њ ¬Ђ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л¬ї —В–∞–Ї –ї—О–±—П—В —Б—В–µ–љ–∞—В—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ. –•–Њ—В—П –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±–Љ–∞–љ –∞–љ–≥–ї–Њ—Б–∞–Ї—Б–Њ–≤, –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –≤ ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–Љ¬ї –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ —В–µ–Ї—Б—В–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є¬ї (–∞ –љ–µ –љ–∞–ї–Є—З–љ—Л–µ —В–∞–Љ ¬Ђ–Ј–∞–≤–µ—А–µ–љ–Є—П¬ї), –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є —А–∞—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Н—В—Г ¬Ђ–њ–Є—Б—Г–ї—М–Ї—Г¬ї вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П –і–ї—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–љ–Њ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є —Б–µ–≥–Њ –Љ–µ–Љ–Њ—А–∞–љ–і—Г–Љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Б–∞–Љ–Є –ґ–µ —Г–Ї—А–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В—Л –±–∞–љ–і–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞! –Т —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –≤–љ–µ–±–ї–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є —З–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г –Є –і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П, вАФ —А–µ—И–Є–≤ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г—В—М –Ї –Э–Р–Ґ–Ю. –Э—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є?¬†
*** 
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є —И–∞–≥–∞–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –ї–Є—И—М –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—Г–Ј–Ї–Њ–њ–∞—А—В–Є–є–љ–∞—П —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М —Б –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–Љ–Є —В–∞–Љ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г¬ї —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є-–±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є. –•–Њ—В—П –≤ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–∞–Ј—Г—Б –±–µ–ї–ї–Є¬ї вАФ –њ–Њ–≤–Њ–і–∞ –Ї –≤–Њ–є–љ–µ —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ-–љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ—В–µ–ї–µ–Љ –≤–Ј—П—В—Л—Е –љ–∞ —Б–µ–±—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –І—В–Њ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —З—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ вАФ –≤–µ–і—М –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П 11 –∞—А–Љ–Є–Є –†–Ъ–Ъ–Р –±—Л–ї–Є –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –У—А—Г–Ј–Є—О –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–Є—Е —В–∞–Љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤, вАФ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є.¬†
–Ч–і–µ—Б—М –≤–∞–ґ–љ–Њ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М вАФ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —В–µ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–Њ–љ–∞ –≤–Љ–µ—И–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –і–µ–ї–∞ —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—О –ґ–µ –≤ –Љ–∞–µ 20 –≥–Њ–і–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї –љ–µ—Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–∞ –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–∞–Љ! –Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Є –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—В—М —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤¬ї –Є ¬Ђ–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤¬ї вАФ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є –Є–Љ–Є –ґ–µ –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є —Б –µ–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е (—Г–≤—Л, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, —З–µ–Љ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є) –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–±–Њ–і. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ (–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є, –љ–Њ –Є —З—Г—В—М —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, вАФ –љ–Њ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б —В–Њ–ґ–µ) –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є, вАФ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –Њ—В—В—Г–і–∞ –ї–Є—И—М —В–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Е —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—О—В. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В ¬Ђ—Й–µ–ї–Ї–∞—В—М –њ–Њ –љ–Њ—Б—Г¬ї, –њ–Њ—А–Њ–є –Є –Њ—З–µ–љ—М —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, вАФ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–њ–Є—В—М –љ–∞ –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А: ¬Ђ–Р –љ–∞—Б —В–Њ –Ј–∞ —И–Њ?!¬ї –Ф–∞ –≤–Њ—В –Ј–∞ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ вАФ —А–∞–Ј –≤—Л –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –і–ї—П –љ–∞—Б –њ—Г–љ–Ї—В —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П, вАФ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞–є—В–µ—Б—М, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–Љ —В–∞–Ї –ґ–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г–ґ–µ –і–ї—П –≤–∞—Б –≤–µ—Й–µ–є.
–Э–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–∞—Е –Є –Є—Е –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–Њ. –†–µ–ґ–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —А–∞–і–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ вАФ –±—Л—В—М –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–∞¬ї. –Э–∞ –і–µ–ї–µ –ґ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –∞–љ—В–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г. –Э–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, вАФ –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г —Б –†–Ъ–Ъ–Р —Б–Є–ї–µ–љ–Њ–Ї —Г –ґ–∞–ї–Ї–Њ–є –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ–≤–∞—В–Њ. –≠—В–Њ –ґ –љ–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Г—О –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Є ¬Ђ–љ–∞—Ж–Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞¬ї –њ—А–µ—Б—Б–Њ–≤–∞—В—М вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е ¬Ђ—Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —З–Є—Б—В–Њ–Ї¬ї, —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–∞ –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і–∞, –Ї–∞–Ї –≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –Ю—Б–µ—В–Є–Є.¬†
–Э–Њ –≤–Њ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –У—А—Г–Ј–Є—О —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —В—Л–ї–Њ–≤–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є –і–ї—П —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–љ–Љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –±—Л–≤—И–Є–µ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–∞ –і–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ 1903 –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ґ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є! –Ґ–∞–Ї, –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1920 –≥. –≤ –Ґ–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї –Љ—П—В–µ–ґ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–≤—И–µ–є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –±—Л–ї –≤—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≥–Њ—А—Ж–∞–Љ –Є —В–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ –њ–Њ –Є—Е –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤¬ї. –¶–Є—В–Є—А—Г–µ–Љ:¬†
¬Ђ–Ф–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Є—О–љ–µ 1920 –≥. –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ, –≤ –і–Њ–Љ–µ вДЦ 7 –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –≠—А–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ —Г–ї. –Ю–ї—М–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–є, –≥–і–µ –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —И—В–∞–± –њ–Њ –≤–µ—А–±–Њ–≤–Ї–µ –≤—Б–µ—Е –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є—Е –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –±—Л–ї–Є –ї–Є—З–љ—Л–µ –і—А—Г–Ј—М—П –Т—А–∞–љ–≥–µ–ї—П вАФ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ї–љ—П–Ј—М –Э.–Ш. –Ь–µ–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Ї–љ—П–Ј—М –Ґ—Г–Љ–∞–љ–Њ–≤ (–≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞–Љ–Є), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —З–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Р—Е–Љ–µ—В-—Е–∞–љ –≠–ї—М–і–∞—А–Њ–≤, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–є –≤–Є–і–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –њ—А–Є –Ф–µ–љ–Є–Ї–Є–љ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –≠—А–і–µ–ї–Є. –≠–ї—М–і–∞—А–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї —В–µ—Б–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б –Т—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–Љ –µ—Й—С –і–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ –Т—А–∞–љ–≥–µ–ї—П –Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤–µ—А–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –У—А—Г–Ј–Є—О —Б –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤.
–Ю–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, вАЬ–љ–µ—А–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–ЄвАЭ, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—В—А—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞, –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –Р. –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ, –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –љ–∞ –Є–Љ—П –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї –У—А—Г–Ј–Є–Є 12 –љ–Њ—П–±—А—П 1920 –≥., –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞, –њ–Њ–і–≤—С–ї –Є—В–Њ–≥ –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. вАЬ–Ч–∞ –њ—П—В—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л вАФ –њ—Г—В—С–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–∞—Е —Б –≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—П—В–µ–ї—П–Љ–Є, —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–µ—Б—М –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –ї–Є—Ж, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞—В—М –Њ–±—Й–µ–є —Б–µ—В—М—О –Є –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –≤—Б—С, –і–∞–±—Л –њ–Њ–і–љ—П—В—М –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µвАЭ¬ї.
***
–Э–µ –±–µ–Ј –Є—А–Њ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ–±–Њ—А—Ж—Л –Ј–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Г—О –†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї (–Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –Ј–∞ –Њ—В—А—Л–≤ –Њ—В –†–Њ—Б—Б–Є–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —В–∞–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є, –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б—В–∞—В—М –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е ¬Ђ—Б–њ–Њ–љ—Б–Њ—А–Њ–≤¬ї-–∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤) –Є –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М —Е–Њ—В—П –±—Л –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞, вАФ—А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ–≤—И–Є—Б—М –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –љ–∞ –і–≤–∞ ¬Ђ–ї–∞–≥–µ—А—П¬ї. –£–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤—Л—И–µ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В¬ї вАФ –Є ¬Ђ–У–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ¬ї, –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ј–∞ –њ–Њ–і–∞—З–Ї–Є ¬Ђ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–∞¬ї. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ —В–Њ—В –ґ–µ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ —Б –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ—Н—В–∞ –Ї—Г—З–Ї–∞ –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В–Њ–≤¬ї –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Є—Е –љ–∞ –ї–Є—З–љ—Л–µ –љ—Г–ґ–і—Л, –∞ –Њ—В—А—П–і—Л –У–Њ–ї–Є–µ–≤–∞, –Ь–µ—Б—В–Њ–µ–≤–∞ –Є –і—А. –і–Њ 10 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –љ–Є –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–Є –Њ—В –У–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є¬ї.
–Я—А–Є—З–µ–Љ –Њ–і–љ–Є–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і–µ–ї–Њ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–Њ—Б—М вАФ —Н—В–Є ¬Ђ–Ј–∞–Ї–ї—П—В—Л–µ –і—А—Г–Ј—М—П¬ї (—В–Њ—З–љ–µ–µ, вАФ ¬Ђ–њ–∞—Г–Ї–Є –≤ –±–∞–љ–Ї–µ¬ї) –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—В—А–Є–≥–Њ–≤–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і—А—Г–≥–∞, вАФ –њ—Л—В–∞—П—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞ –≤—А–∞–≥–Њ–≤ ¬Ђ–љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є¬ї. –Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є —Г—Б–њ–µ–ї–Є ¬Ђ–≤—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–≤—Ж—Л¬ї, вАФ –і–Њ–±–Є–≤—И–Є–µ—Б—П 18 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1920 –≥–Њ–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –∞—А–µ—Б—В–∞ –≥–ї–∞–≤—Л –У–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Я. –Ъ–Њ—Ж–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ј–∞ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –Ъ–µ–Љ–∞–ї—М-–њ–∞—И–Њ—О¬ї. –Э—Г –і–∞, ¬Ђ—И–њ–Є–Њ–љ–∞–ґ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ш—А—Г–Ї–∞–љ–∞! –Р—Е вАФ –µ—Й–µ –Є –°–Њ–∞–љ–∞вА¶¬ї вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –µ–і–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞—А–Ї–∞–Ј–Љ–∞ –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Ґ—А—Г–і–љ–Њ –±—Л—В—М –±–Њ–≥–Њ–Љ¬ї –±—А–∞—В—М–µ–≤ –°—В—А—Г–≥–∞—Ж–Ї–Є—Е –Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ї–Њ—А–Њ–љ—Л¬ї.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–љ—В—А–Є–≥–Є вАФ –Є–љ—В—А–Є–≥–∞–Љ–Є, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 15 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1920 –≥–Њ–і–∞ –≥–ї–∞–≤–∞—А–Є –≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—П—В–µ–ґ–∞ –Р–ї–Є—Е–∞–љ–Њ–≤ –Є –У–Њ—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є–Ј –У—А—Г–Ј–Є–Є –≤–∞–≥–Њ–љ –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, 8 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П вАФ 10 –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В–Њ–≤, 30 —П—Й–Є–Ї–Њ–≤ –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤, 2 —В—Л—Б. –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–Њ—П–±—А—П 1920 –≥. –Є–Ј –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–∞ –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г —Б –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–±—Л–ї–Њ 4 –≤–∞–≥–Њ–љ–∞ —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є, 14 –њ–Њ–і–≤–Њ–і –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤, 12 –љ–Њ—П–±—А—П вАФ –µ—Й—С 9 —Д—Г—А–≥–Њ–љ–Њ–≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ш —Н—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–Љ ¬Ђ–љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П¬ї –У—А—Г–Ј–Є—П –њ—А–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≥–Є–±–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–µ–≤ вАФ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є—Е –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Ї –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞–Љ. –Э–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Ј–∞–Ї–Є, –Є –Љ—П—В–µ–ґ–љ—Л–µ –≥–Њ—А—Ж—Л –њ–µ—А–≤–Њ-–љ–∞–њ–µ—А–≤–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В—В–Њ—А–≥–љ—Г—В—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–µ –Є–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Њ—В –†–°–§–°–† вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М —А–µ—З—М —И–ї–∞ –љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є –Љ–∞–ї–Њ –Њ –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Р —А–µ—Б—Г—А—Б—Л —Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤¬ї –Є ¬Ђ–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤¬ї, –Њ—В –і—Г—И–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–≤—И–Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В –Њ–і–љ–Є—Е —Н—В–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ –Ї–Њ—А–µ–ґ–Є—В—М, –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М. –≠—В–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є—О –Њ–± –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–Љ–Є—А–∞–љ–Є—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Њ—В –љ–µ–і–Њ–µ–і–∞–љ–Є—П:
¬Ђ–Ь–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є. –Ф–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—З–µ—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –њ—А–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Б–і–∞–ї–∞ –µ–є 15 —В—Л—Б. –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї, 200 –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В–Њ–≤, 10 –Њ—А—Г–і–Є–є, 267 –ї–Њ—И–∞–і–µ–є —Б –Њ–±–Њ–Ј–Њ–Љ, 4 –∞—Н—А–Њ–њ–ї–∞–љ–∞, 25 –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–≤, 29 –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–є. –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б—Б–Ї–Є–є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї (–Њ–љ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ —Б—Г—В–Ї–Є –і–Њ 50 —В—Л—Б. –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Є 1 000 —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤) –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1920 –≥. –Њ—В –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Ј–∞–Ї–∞–Ј –љ–∞ 4 –Љ–ї–љ –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Є 10 —В—Л—Б. —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤¬ї.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞ –Я–µ—А–µ–Ї–Њ–њ–∞, ¬Ђ–≤–Њ—А–Њ—В¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —В–≤–µ—А–і—Л–љ–Є –Т—А–∞–љ–≥–µ–ї—П, –Ъ—А—Л–Љ–∞, —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –і–љ–Є –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ —Б–Њ—З—В–µ–љ—Л вАФ –Њ–љ–Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П ¬Ђ–і—Г—Е–∞ –Є –±—Г–Ї–≤—Л¬ї –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ-—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ 7 –Љ–∞—П. –Ш –і–∞–ґ–µ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є 9 –љ–Њ—П–±—А—П ¬Ђ–≤—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–≤—Ж–∞¬ї –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ–∞. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Б–∞–Љ—Л–Љ ¬Ђ–ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —П—А–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—В–∞–ї–ЊвА¶ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –і–≤—Г—Е–љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О!¬†
–Я—А–∞–≤–Њ, –і–∞–ґ–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤ –≥–Њ–і—Л –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–Њ –∞—А–µ—Б—В–∞ –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Є–Ј –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–Є—И–µ–≤—И–Є—Е –≤ —Н—В–Њ–є –∞–ї—М–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –≤—А–∞–ґ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –љ–µ —Г–љ–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤—Л—Б—Л–ї–Ї–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤–Њ–њ–Є—О—Й–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л вАФ –Є—Е –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —В—О—А—М–Љ–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –і–∞–ґ–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ —Г –С–µ—А–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —Б –С–µ—А–ї–Є–љ–Њ–Љ, вАФ –љ–Є —Б –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–Њ–Љ-–Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–Њ–Љ. –Ь–Њ–ґ–µ—В, –≤—Б–µ –і–µ–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –≥–Њ—А–∞—Е вАФ –Р–ї—М–њ–∞—Е вАФ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–µ–±—В–∞? –Х—Б–ї–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, вАФ —В–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –≤ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–Љ–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞–Љ–ЄвА¶ –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Б–∞–Љ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А—Г–µ–Љ–Њ –љ–µ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П ¬Ђ—Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –Љ—Б—В–Є¬ї –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є:
¬Ђ12 –љ–Њ—П–±—А—П 1920 –≥. –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –љ–∞ –Є–Љ—П –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї –У—А—Г–Ј–Є–Є –Њ–љ вАЬ–љ–∞–Є–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–µ–є—И–µ–µвАЭ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—Л—Б—Л–ї–Ї–µ, –Є–±–Њ вАЬ–љ–Є –љ–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Б–µ–±—П –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—З–∞—В–Њ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤вАЭ, –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М вАЬ–µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—В–Є–≤–љ–ЊвАЭ, —З—В–Њ–±—Л вАЬ–љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–µ—Ж–µ–і–µ–љ—В–∞ –і–ї—П –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –У—А—Г–Ј–Є–µ–є –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–µ–євАЭ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —В–Њ—В –ґ–µ –Я–Њ–≥–Њ–і–Є–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї вАЬ–±—Г—Д—Д–Њ–љ–∞–і–Њ–є, —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–ЉвАЭ¬ї.
***
–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ –љ–µ–і–Њ–±–Є—В—Л–Љ ¬Ђ–≤—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–≤—Ж–µ–Љ¬ї ¬Ђ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—П —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є. –£–≤—Л, –і–ї—П –Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤-–Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ вАФ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –±—Л–≤—И–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–њ–∞—А—В–Є–є—Ж–∞–Љ —Б –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–є —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, вАФ –љ–Њ —Б–ї–µ–њ—Л–Љ–Є –љ–∞—Б—З–µ—В –Є—Е –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є. –Р ¬Ђ–Ї—А–µ–і–Є—В —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П¬ї, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ 7 –Љ–∞—П 1920 –≥–Њ–і–∞, –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–ґ–Є–Љ—Г, –±—Л–ї –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —П—Б–љ—Л–Љ —А–∞—Б—З–µ—В—Л –µ–µ –Ј–∞–Ї–ї—П—В—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤ –Є–Ј –Р–љ—В–∞–љ—В—Л –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—В—М —А–Њ–ї—М –У—А—Г–Ј–Є–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ—З—В–Є –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ—В–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ–∞ вАФ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л—Е –і–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є –Є –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞. –Р–љ–≥–ї–Є—П, –њ—А–∞–≤–і–∞, —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1920 –≥–Њ–і–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–љ–Є–Ј–Є–ї–∞ –≥—А–∞–і—Г—Б –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–≤ —Б –†–°–§–°–† —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –≤—Л–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, —В—А–µ–±—Г—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Ї –і–µ—И–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Л—А—М—П –і–∞–ґ–µ –Є–Ј —А—Г–Ї ¬Ђ–Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤¬ї. –Э–Њ –µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–љ—П–ї–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л, вАФ —З—М—П –њ—А–µ—Б—Б–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞:¬†
¬Ђ–°–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, вАФ –њ–Є—Б–∞–ї–Є –≥–∞–Ј–µ—В—Л, вАФ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –§—А–∞–љ–Ї–Њ—Д–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –±—Г—Д–µ—А–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ –±—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Є –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –±—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–µ–є, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞—В–Њ–Љ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –µ—С —Б–µ–≤–µ—А–Њ–∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Г—О вАЬ–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї—Г—О —Б—В–µ–љ—ГвАЭ –Њ—В –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–µ–±—В–∞ –і–Њ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П¬ї.
–Ф–∞–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—З—В—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П-–Ш—В–∞–ї–Є—П, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, ¬Ђ—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Є –±—Л —Б–≤–Њ—С —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–µ—Д—В—П–љ—Л–µ –љ–µ–і—А–∞ –Ч–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М—П¬ї. –Я–Њ–њ—Г—В–љ–Њ –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–∞—П –њ—А–µ—Б—Б–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–Њ–ґ–µ ¬Ђ—А–∞–і–Є –љ–µ—Д—В—П–љ—Л—Е –љ–µ–і—А –Ч–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М—П¬ї —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–Є–ї—М–љ—Г—О –Ґ—Г—А—Ж–Є—О —Б–ї–∞–±–Њ–є –У—А–µ—Ж–Є–µ–є¬ї. –Р –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ ¬Ђ–Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–∞–њ–Њ—А –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї, –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–љ—П—В—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–≤ –Ь–∞–ї–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Є –≤ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–µ–Љ—Л—Е –µ—О –Р—А–∞–≤–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ –Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ —Е–∞–ї–Є—Д–∞—В–µ –≤ –Ь–µ–Ї–Ї–µ¬ї.
–І—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є —Г–ґ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М, –∞ —Г–і—А–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ, вАФ —В–∞ –ґ–µ –њ—А–µ—Б—Б–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–∞, ¬Ђ—З—В–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є —П–≤–Є—В—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –і–ї—П –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Є–±–Њ –њ–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –љ–µ—Д—В–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–і –С–∞–Ї—Г-–С–∞—В—Г–Љ вАЬ–±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–ЄвАЭ¬ї. –Ф–µ—Б—П—В–Њ–є –і–Њ–ї–Є –≥–Њ—А—О—З–µ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ –њ–µ—А–µ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–ї, ¬Ђ–±—Л–ї–Њ –±—Л –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–ї—П –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є¬ї. –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Б—В–∞—В–µ–є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М ¬Ђ—В–∞–Ї–Њ–є –≤–∞–ґ–љ—Л–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –У—А—Г–Ј–Є–Є –њ–Њ–і —Н–≥–Є–і–Њ–є –Ы–Є–≥–Є –Э–∞—Ж–Є–є.
–Т –Њ–±—Й–µ–Љ вАФ ¬Ђ–љ–Є—З—В–Њ –љ–µ –љ–Њ–≤–Њ –њ–Њ–і –ї—Г–љ–Њ–є¬ї. –Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ вАФ ¬Ђ–≤–ї–∞–ґ–љ—Л–µ –Љ–µ—З—В—Л¬ї ¬Ђ–≥–∞–ї–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—В—Г—Е–Њ–≤¬ї, вАФ —З—В–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є—Е, –µ–і–≤–∞ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –љ–µ–і–µ–ї—О –Њ–±–µ—Й–∞—О—Й–Є—Е –≤–≤–Њ–і —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г. –° –У—А—Г–Ј–Є–µ–є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В –њ–Њ–Ї–∞ –њ–µ—З–∞–ї—М–Ї–∞ вАФ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—О —Б—А–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –Є–Ј –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б–ї–∞ –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є¬ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї—Г –°–∞–ї–Њ–Љ—Н –Ч—Г—А–∞–±–Є—И–≤–Є–ї–Є, вАФ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–∞–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–є ¬Ђ—Б–∞–∞–Ї–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤¬ї –Ї –Љ—П—В–µ–ґ—Г.
***
–Э–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –і–∞–≤–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є—П¬ї –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–µ–±–ї–Є—И–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ–њ—П—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Є ¬Ђ–Ј—Г–і–Є—В—М¬ї –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ—З—В–∞–Љ–Є вАФ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–∞ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є:
¬Ђ–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Є—О–љ—П 1921 –≥. –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≥–ї–∞–≤–µ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ (–Њ–љ–Њ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ 17 –Љ–∞—А—В–∞ 1921 –≥., 18 –Љ–∞—А—В–∞ –±–µ–ґ–∞–ї–Њ –Є–Ј –С–∞—В—Г–Љ–Є –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г) –Э. –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є—П, –Њ–±–µ—Й–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В—М –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ, –≤—Л—Б–∞–і–Є—В—М –і–µ—Б–∞–љ—В –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ. –Р–љ–≥–ї–Є—П –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П 50-—В—Л—Б—П—З–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –°–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ–∞ –Њ–±–µ—Й–∞–ї–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М 25-—В—Л—Б—П—З–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ј–∞–є–Љ—Г—В –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–µ. –®—В–∞–±—Г –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М 50 —В—Л—Б. —Д—Г–љ—В–Њ–≤ —Б—В–µ—А–ї–Є–љ–≥–Њ–≤. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–∞—В—М –Њ–±–µ –∞—А–Љ–Є–Є –±—Г–і–µ—В –≤—А–∞–љ–≥–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ вАФ –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Б—В–≤–Њ. –≠—В–Є –њ–ї–∞–љ—Л, —Е–Њ—В—П –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж–∞–Љ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї.
–Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –У—А—Г–Ј–Є—П —З—В–Њ –і–Њ –≤–≤–Њ–і–∞ —В—Г–і–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Р–љ—В–∞–љ—В–Њ–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –±—Л–≤—И–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –і–ї—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л —В–∞–є–љ–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Є вАФ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ –љ–Є—Е –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–µ—Б—Б–∞. –Р —В–Њ, —З—В–Њ –Є—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В —А–µ–ґ–Є–Љ –Э–Њ—П –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є–Є, вАФ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1920 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ–ґ–Є–Љ—Г –Є –±—Л–ї–Њ, –≤ –і—Г—Е–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л, –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –∞-–ї—П –≤–∞–≤–Є–ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Ж–∞—А—О –Т–∞–ї—В–∞—Б–∞—А—Г, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–∞—П —А—Г–Ї–∞ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–ї–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Є—А—Г –Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ ¬Ђ–Љ–µ–љ–µ, —В–µ–Ї–µ–ї, –њ–µ—А–µ—Б¬ї вАФ ¬Ђ–≤–Ј–≤–µ—И–µ–љ–Њ, –њ–Њ–і—Б—З–Є—В–∞–љ–Њ, –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Њ¬ї. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –≤ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —З–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –±–Њ–є—Ж—Л 11 –∞—А–Љ–Є–Є –†–Ъ–Ъ–Р –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ-–Љ–∞—А—В–µ 1921 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ.¬†
–•–Њ—В—П, –і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, –≤ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—Л–±–Њ—А–µ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—П –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ–Љ—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–µ–ґ–Є–Љ—Г –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–љ—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –ЄвА¶ —Б–∞–Љ–Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Л! –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–≥—А—П–Ј—И–Є–µ –≤ ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞¬ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є–Є –Є –Ъ–Њ, вАФ –∞ —В–µ, –Ї—В–Њ —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л вАФ –°—В–∞–ї–Є–љ, –Ю—А–і–ґ–Њ–љ–Є–Ї–Є–і–Ј–µ –Є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—О—А–Њ –¶–Ъ –†–°–Ф–†–Я(–±). –Т–µ–і—М –Ы–µ–љ–Є–љ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –≤ –њ–∞—А—В–Є–Є, –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ, —Е–Љ, ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ¬ї –±–Њ–ї—М—И–µ ¬Ђ–њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є¬ї вАФ –Є ¬Ђ–њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є –і—А—Г–ґ–±–µ¬ї, –±—Г–і—Г—З–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ї –≤—Л–і–∞—З–µ –Є–Љ –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ —Й–µ–і—А—Л—Е –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є. –Р –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –°—В–∞–ї–Є–љ, –Ї—Г–і–∞ –ї—Г—З—И–µ –Ј–љ–∞–ї–Є –Є—Б—В–Є–љ–љ—Г—О —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–њ—Л—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –љ–Є–Љ–Є. –Р –µ—Й–µ, –±—Г–і—Г—З–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є, –љ–Њ –Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–∞–Љ–Є, –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –і–∞–ґ–µ –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–≥–Њ —И–∞–љ—Б–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞–ї–Њ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є ¬Ђ–њ—А–Њ–Ї—Б–Є¬ї-—В–∞—А–∞–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°—В—А–∞–љ—Л –°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤. –°–і–µ–ї–∞–≤ –≤—Б–µ –Њ—В –љ–Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—А–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є.¬†
–Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –У—А—Г–Ј–Є–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —П–Ї–Њ–±—Л –±—Л–ї–Њ ¬Ђ–≤–Њ–њ–Є—О—Й–Є–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–ї–Є –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≥—А—Г–Ј–Є–љ¬ї, –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1924 –≥–Њ–і–∞ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П¬ї. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Ж–Є—В–∞—В–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В, вАФ –Ї—Б—В–∞—В–Є, –≤–Ј—П—В–∞—П –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –љ–∞ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ—А—Г–Љ–µ, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В—М –≤ ¬Ђ–њ—А–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—П—Е¬ї:
¬Ђ–Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ъ–Њ—В–µ –Р–љ–і—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 3 —В—Л—Б—П—З –±–Њ–є—Ж–Њ–≤. –Т –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є –Ъ–∞–Ї—Г—Ж–Њ –І–Њ–ї–Њ–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї –і–≤–Є–љ—Г—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є 600 –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –ґ–µ –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –У—А—Г–Ј–Є–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, –∞ —Г –І–Њ–ї–Њ–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ 600 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ 60 –±–∞–љ–і–Є—В–Њ–≤¬ї.
–Р–љ–і—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ–ѓ —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—Б—М —В–µ–њ–µ—А—М, –Љ—Л –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г (–Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–∞—П –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –У—А—Г–Ј–Є—П, –Є –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б –Љ–Њ–ї—З–∞–ї), —З—В–Њ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Є–ї–∞—Е –Є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –≤ –љ–∞—И—Г –њ–Њ–ї—М–Ј—Г¬ї. вАФ –Я–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ—Л 44 –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В–∞ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ 17 –±—Л–≤—И–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Є 18 —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±–∞–љ–і—Л –І–Њ–ї–Њ–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Є –≥—А–∞–±–µ–ґ–∞–Љ–Є.¬†
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –њ—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Ж–Є—Д—А–∞—Е –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Н—В–Њ—В –Љ—П—В–µ–ґ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ¬ї (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –і–∞–ґ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї—П—Й–µ–є –Ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –∞–Ї—Ж–Є—П–Љ –Т–Є–Ї–Є–њ–µ–і–Є–Є –і–ї–Є–ї—Б—П –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є, вАФ –∞ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Є–Ї —Б–Њ—И–µ–ї –Ј–∞ –њ–∞—А—Г –і–љ–µ–є) –љ–µ—В –љ–Є –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ь–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—Л вАФ –Њ–љ–Є –Є –µ—Б—В—М –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—Л. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Є—Е —В—А–µ—Е–ї–µ—В–љ–µ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Ї –≥–Њ–ї–Њ–і—Г –Є –ї–Є—И–µ–љ–Є—П–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј—А—Г—Е–Є, вАФ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Е–ї–∞–і–Є–≤ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г ¬Ђ–±—Л–≤—И–Є—Е¬ї.¬†
***
–Э–∞–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–Ї –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї —В–µ–Љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞ –љ–∞—Б—З–µ—В –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л —Д–ї–∞–≥–∞ –У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –њ—А–Є –°–∞–∞–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є, вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–∞–Ї –Є –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є –µ–≥–Њ –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є–Ј ¬Ђ–У—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—З—В—Л¬ї. –Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Н—В–Њ –љ–µ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г ¬Ђ—Б–∞–∞–Ї–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є¬ї –Є —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–Љ –Ц–Њ—А–і–∞–љ–Є–Є –≤ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –њ–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –У—А—Г–Ј–Є–Є –≤ –∞–љ—В–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–њ—А–Њ–Ї—Б–Є¬ї –Ч–∞–њ–∞–і–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Л –љ–µ—В. –Э–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ-—А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ—А–µ–љ–Є–є –Њ ¬Ђ–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ 1918вАФ21 –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤ 1990 –≥–Њ–і—Г¬ї, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ —Д–ї–∞–≥ –Њ–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–∞—Е (–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ) —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ ¬Ђ—Ж–∞—А—М –Ь–Є—И–Є–Ї–Њ¬ї –њ—А–∞–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї вАФ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є –±—Л –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є.
–Э—Г, –∞ –і–ї—П –µ–≥–Њ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–≤–Њ—О —Б—В—А–∞–љ—Г –Њ—В –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ –∞–љ—В–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —В–∞—А–∞–љ, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–є —А–∞–Ј–±–Є—В—М—Б—П –≤–і—А–µ–±–µ–Ј–≥–Є –≤–Њ –Є–Љ—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Ч–∞–њ–∞–і–∞, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В –њ—А–∞-—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –±—Л–ї –љ—Г–ґ–µ–љ –µ—Й–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ —Г–ґ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Д–ї–∞–≥ —В–∞–Љ–њ–ї–Є–µ—А–Њ–≤, вАФ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1 —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П. –Р ¬Ђ–Ї–Њ—Б–њ–ї–µ–Є—В—М¬ї –∞—Г—В—Б–∞–є–і–µ—А–Њ–≤ –≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є вАФ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –і–ї—П –Љ–∞–Ј–Њ—Е–Є—Б—В–Њ–≤, –∞ –љ–µ –і–ї—П —В—А–µ–Ј–≤–Њ–Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–євА¶
![]() вАЛ
вАЛ