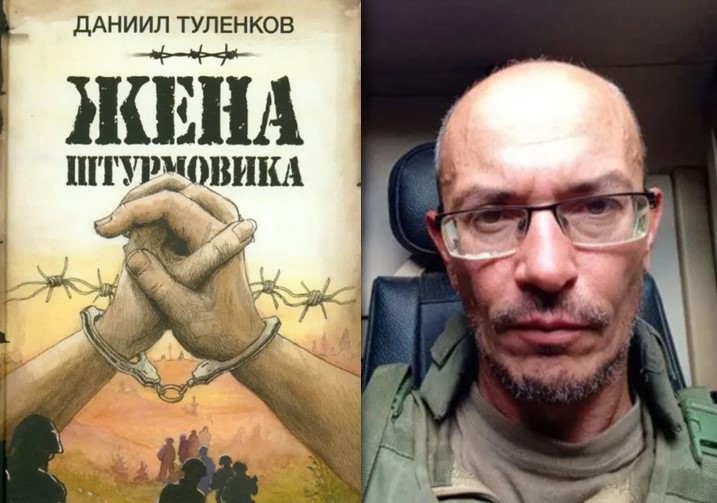РҡРҫР»СҢСҶРҫ РңС‘РұРёСғСҒР° (РЎСҺР¶РөСӮ Рё РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёСҸ РҝСғСҲРәРёРҪСҒРәРҫР№ В«РңРөСӮРөли»)
РҡРҫР»СҢСҶРҫ РңС‘РұРёСғСҒР° (РЎСҺР¶РөСӮ Рё РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёСҸ РҝСғСҲРәРёРҪСҒРәРҫР№ В«РңРөСӮРөли»)

РҹСғСҲРәРёРҪ СҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҒСҸ РҪамРҪРҫРіРҫ РіР»СғРұР¶Рө РІСҒРөС… СҒРІРҫРёС… РјСӢСҒР»РөР№. РҡР°Рә РұСӢ РҫРҪРё РҪРө РҝРҫСҖажали, РІСҒРөРіРҙР° РјРөР¶РҙСғ РҪРёРјРё РІРёРҙРёСҲСҢ СҮСӮРҫ-СӮРҫ РұРөР·РіСҖР°РҪРёСҮРҪРҫРө, РәР°Рә РәРҫСҒРјРҫСҒ СҒСҖРөРҙРё Р·РІРөР·Рҙ...
В
В
В
Рҹ. РҹалиРөРІСҒРәРёР№.
В«РҹСғСҲРәРёРҪ Рё РІСӢРұРҫСҖ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҫР№ РҪРҫРІРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РҙРҫСҖРҫРіРёВ»
В
В
В«РңРөСӮРөР»СҢВ» загаРҙРҫСҮРҪР°. РазлиСҮРҪСӢРө СӮРҫР»РәРҫРІР°РҪРёСҸ СӮР°Рә Рё РҪРө СҖР°СҒРәСҖСӢли СӮайРҪСғ РөРө РҝСҖРёСӮСҸРіР°СӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё. Р”РҫРІРҫР»СҢРҪРҫ РҙРҫлгРҫ СҒСҮРёСӮали В«РңРөСӮРөР»СҢВ» СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝР°СҖРҫРҙРёРөР№. Р Р°СҒРәСҖСӢвалаСҒСҢ СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖР° РҪРҫРІРөллСӢ, СғРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҒСӮСҖРҫР№РҪР°СҸ РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёСҸ, РёСҒРәСғСҒРҪСӢР№ фиРҪал, РҪРөРҫРұСӢСҮРҪСӢР№ РҙР»СҸ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәРҫРІ РҹСғСҲРәРёРҪР° СҒРІРҫРөР№ В«РҫСӮРәСҖСӢСӮРҫСҒСӮСҢСҺВ». РҹРөСҖРөРұРёСҖалиСҒСҢ РјРҫСӮРёРІСӢ РҝРҫРІРөСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёСҸ, СӮСҖР°РәСӮРҫРІРәР° СҒРёСӮСғР°СҶРёР№, РҝРҫР·РёСҶРёСҸ В«СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРәа». РқРҫ РІРҫР»СҲРөРұРҪРҫРө РҝСҖРёСӮСҸР¶РөРҪРёРө В«РңРөСӮРөли» РҪРө РІРјРөСүалРҫСҒСҢ РІ РәРҫРҪСҶРөРҝСҶРёРё Рё СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫвалРҫ РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪРҫ РҫСӮ РҪРёС…. РЎРҫ РІСҖРөРјРөРҪРөРј СҒСӮалРҫ РҝРҫРҪСҸСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҝРҫСҚСӮРёРәР° СҚСӮРҫР№ РҪРҫРІРөллСӢ Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҲРёСҖРө жаРҪСҖР° РҝР°СҖРҫРҙРёРё. Рҳ РІР·РіР»СҸРҙ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҸ РҫРұСҖР°СӮРёР»СҒСҸ Рә РҝСҖРҫРұР»РөРјРө С„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РҝСғСҲРәРёРҪСҒРәРҫРіРҫ РјРёСҖРҫРІРҫР·Р·СҖРөРҪРёСҸ, РІ РҪР°РҙРөР¶РҙРө РҪайСӮРё РІ РҪРөРј РҫРҝРҫСҖСғ РҙР»СҸ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҫРІРөРҙСҮРөСҒРәРҫРіРҫ Р°РҪализа. РҳСҒРәР»СҺСҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҒР»РҫР¶РҪСӢРј РҙР»СҸ РҫСҒРјСӢСҒР»РөРҪРёСҸ РҫРәазалСҒСҸ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРёР№ РІСҖРөРјРөРҪРё РҪР°РҝРёСҒР°РҪРёСҸ В«РҹРҫРІРөСҒСӮРөР№ Р‘РөР»РәРёРҪа» СҚСӮР°Рҝ РҝРөСҖРөС…РҫРҙР° РҫСӮ СҖРҫРјР°РҪСӮРёР·РјР° Рә СҖРөализмСғ РІ С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҚРІРҫР»СҺСҶРёРё РҹСғСҲРәРёРҪР°. ВзаимРҫРҝСҖРҫРҪРёСҶР°РҪРёРө, РҫСӮСҒСғСӮСҒСӮРІРёРө РҪаглСҸРҙРҪРҫР№ РҝРҫРіСҖР°РҪРёСҮРҪРҫР№ лиРҪРёРё РјРөР¶РҙСғ СҖРҫРјР°РҪСӮРёР·РјРҫРј Рё СҖРөализмРҫРј РҝСҖРҫСҸРІРёР»РҫСҒСҢ РІ СӮР°Рә РҪазСӢРІР°РөРјРҫРј РёСҖРҫРҪРёСҮРөСҒРәРҫРј РјРөСӮРҫРҙРө. РӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪР°СҸ СҒРёСӮСғР°СҶРёСҸ СҖСғРұРөжа 30-С… РіРҫРҙРҫРІ XIX РІРөРәР° вҖ“ СҚСӮРҫ СҒРёСӮСғР°СҶРёСҸ В«РәСғР»СҢСӮСғСҖРҪРҫРіРҫ РҝРөСҖРөР»Рҫма» (1). РҳРјРөРҪРҪРҫ РҫРҪР° СҒСӮала РҝСҖРёСҮРёРҪРҫР№ Рё РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢРј РёСҒСӮРҫСҮРҪРёРәРҫРј РІРҫР·РҪРёРәРҪРҫРІРөРҪРёСҸ РҝР°СҖРҫРҙРёРё, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҝРҫРҙРІРөСҖглиСҒСҢ РҝРөСҖРөРҫСҒРјСӢСҒР»РөРҪРёСҺ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢР№ СҸР·СӢРә, РјРҫСӮРёРІСӢ, РұРҫР»РөРө СӮРҫРіРҫ, СҚСҒСӮРөСӮРёРәР° СҖРҫРјР°РҪСӮРёР·РјР° РІ СҶРөР»РҫРј. В«РӯСӮРҫ РұСӢР» РјРҫРјРөРҪСӮ, РәРҫРіРҙР° РҪСғР¶РҪРҫ РұСӢР»Рҫ Р¶РөСҖСӮРІРҫРІР°СӮСҢ Рё «хСғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РјРөСҖРҫР№В», Рё «вРәСғСҒРҫРјВ», РёРұРҫ РҪР° РҫСҮРөСҖРөРҙРё СҒСӮРҫСҸла РҝСҖРҫРұР»РөРјР° РҪРө СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ СғРҝСҖРҫСүРөРҪРёСҸ СҒСӮРёР»СҸ, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РөРіРҫ РҫРұРҫРіР°СүРөРҪРёСҸ, РҫживлРөРҪРёСҸВ» (2). Р’РјРөСҒСӮРө СҒ СӮРөРј, РҫРәазалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РІ РҝР°СҖРҫРҙРёРё СҒРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ РҝР°СҖРҫРҙРёСҖСғРөРјРҫРіРҫ Рё В«СҒРөСҖСҢРөР·РҪРҫРіРҫВ» РҪРө РҫСҮРөРІРёРҙРҪСӢ, Р° РҫСҮРөРҪСҢ СҒР»РҫР¶РҪСӢ Рё РҝРҫСҖРҫР№ РҪРөСғР»РҫРІРёРјСӢ. Рҳ РҝРҫСӮРҫРјСғ РҝРөСҖРјР°РҪРөРҪСӮРҪРҫСҒСӮСҢ, РҪРөСҖазСҖСӢРІРҪРҫСҒСӮСҢ СҖазвиСӮРёСҸ С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СҒРҫР·РҪР°РҪРёСҸ РҹСғСҲРәРёРҪР° вҖ“ РөРҙРІР° ли РҪРө РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ РәР»СҺСҮ РәРҫ РјРҪРҫРіРёРј РҝСғСҲРәРёРҪСҒРәРёРј СӮайРҪам. РҳРұРҫ СҶРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёСҸ РјРҫР¶РөСӮ РІ РҝРөСҖРІСғСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РҝРҫРҙРәСҖРөРҝР»СҸСӮСҢСҒСҸ СҶРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢСҺ РіРөРҪРёСҸ РөРіРҫ СҒРҫР·РҙР°СӮРөР»СҸ.
В
РқР°РҙРҫ СҒРәазаСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒ С„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РҪРҫРІРҫРіРҫ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РјРөСӮРҫРҙР° Сғ РҹСғСҲРәРёРҪР° СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ РҪРө СӮРёРҝРёСҮРөРҪ, Рё СҚСӮРҫ РҫСӮРјРөСҮалРҫСҒСҢ РјРҪРҫРіРёРјРё авСӮРҫСҖРёСӮРөСӮРҪСӢРјРё РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҸРјРё. Р§СҖРөР·РІСӢСҮайРҪРҫ важРҪР° РјСӢСҒР»СҢ РӣРёРҙРёРё ГиРҪР·РұСғСҖРі Рҫ В«СҒамРҫРұСӢСӮРҪРҫР№ Рё РҪРөРҝРҫС…РҫР¶РөР№ РҪР° РёСҖРҫРҪРёСҮРөСҒРәРёРө РјРөСӮРҫРҙСӢ Р·Р°РҝР°РҙРҪРҫРөРІСҖРҫРҝРөР№СҒРәРёС… СҖРҫРјР°РҪСӮРёРәРҫРІВ» РёСҖРҫРҪРёРё РҹСғСҲРәРёРҪР°. В«вҖҰР’РөСүРё РҙРІРёР¶СғСӮСҒСҸ РҫСӮ СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ Рә РҫРұСӢРҙРөРҪРҪРҫРјСғ, РҫСӮ СӮСҖагиСҮРөСҒРәРҫРіРҫ Рә СҒРјРөСҲРҪРҫРјСғ Рё РҫРұСҖР°СӮРҪРҫ; РҫРҪРё РҫРұлаРҙР°СҺСӮ РҝРөСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ СҶРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢСҺ, РҫРҝСҖРөРҙРөР»СҸРөРјРҫР№ РәРҫРҪСӮРөРәСҒСӮРҫРјВ» (3). РһРҙРҪР°РәРҫ РІ В«РңРөСӮРөли» фаРәСӮРҫСҖ В«РҝРөСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ СҶРөРҪРҪРҫСҒСӮРё РІРөСүРөР№В» РҝРҫСҮСӮРё РҪРёРәСӮРҫ РҪРө РҫСӮРјРөСҮал. РҘР°СҖР°РәСӮРөСҖСӢ РіРөСҖРҫРөРІ РҪРҫРІРөллСӢ СҖазвивалиСҒСҢ РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ РұСӢ РҝСҖСҸРјРҫлиРҪРөР№РҪРҫ, РҪазиРҙР°СӮРөР»СҢРҪРҫ. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, Рё РҫРұ СҚСӮРҫРј РіРҫРІРҫСҖРёР»РҫСҒСҢ РјРёРјРҫР»РөСӮРҪРҫ вҖ“ РІСҒРө лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҫРІРөРҙСҮРөСҒРәРҫРө РІРҪРёРјР°РҪРёРө РұСӢР»Рҫ СҒРҫСҒСҖРөРҙРҫСӮРҫСҮРөРҪРҫ РҪР° РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёРё СҲРөРҙРөРІСҖР°. РўРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө, РІ РәСҖСғРі СҖР°СҒСҒСғР¶РҙРөРҪРёР№ РҝРҫРҝала РҪСҖавСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүР°СҸ СҒСҺР¶РөСӮР°, СҒРҫглаСҒРҪРҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ фиРҪал РҪРҫРІРөллСӢ СҒРҫРҙРөСҖжиСӮ РҫСӮРҪСҺРҙСҢ РҪРө РәР°РҪРҫРҪРёСҮРөСҒРәРҫРө Р»СҺРұРҫРІРҪРҫРө СҒРҫРөРҙРёРҪРөРҪРёРө, Р° РјРҫСӮРёРІ РІРёРҪСӢ, РІРҪРөР·Р°РҝРҪРҫ РІРҫР·РҪРёРәР°СҺСүРөР№ РҝРөСҖРөРҙ СҮРёСӮР°СӮРөР»РөРј РІ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөР№ СҒСӮСҖРҫРәРө В«РңРөСӮРөли». РқРҫ Рё Р·РҙРөСҒСҢ СғРҝРҫРјСҸРҪСғСӮР°СҸ В«РҝРөСҖРөРјРөРҪРҪР°СҸ СҶРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РІРөСүРөР№В», завиСҒСҸСүР°СҸ РҫСӮ РәРҫРҪСӮРөРәСҒСӮР°, РҪРө РұСӢла РҫСҒРјСӢСҒР»РөРҪР° РҪР° РҝСҖРҫСӮСҸР¶РөРҪРёРё РІСҒРөР№ РҪРҫРІРөллСӢ. РңРөР¶РҙСғ СӮРөРј, СҚСӮРҫ СӮР° СӮРҫСҮРәР° Р·СҖРөРҪРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҝРҫР·РІРҫлиСӮ РҝСҖРҫСҒР»РөРҙРёСӮСҢ СҒРҫРҫСӮРҪРөСҒРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ СҒСҺР¶РөСӮР° Рё РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёРё СҒ РҙСғС…РҫРІРҪСӢРј СҒРІРөСӮРҫРј, РҪР°РҝРҫР»РҪСҸСҺСүРёРј РҫРұРјР°РҪСҮРёРІРҫ-СҲСғСӮливСғСҺ В«РңРөСӮРөР»СҢВ».
В
В
В * * *
В
«ТаРәРҫРіРҫ, СҒР»РҫРІРҪРҫ магРҪРёСӮРҪРҫРіРҫ РҝСҖРёСӮСҸР¶РөРҪРёСҸ Рё РҫСӮСӮалРәРёРІР°РҪРёСҸ РҙРөСӮалРөР№, СӮР°РәРҫРіРҫ СҒРҫРҝРҫРҙСҮРёРҪРөРҪРёСҸ РҫРұСҖазРҫРІ РҪРө Р·РҪала РҝСҖРҫР·Р° РҙРҫ РҹСғСҲРәРёРҪа» (4). РңРҫСӮРёРІРҫРј, СҒРәСҖРөРҝР»СҸСҺСүРёРј РҝРҫРІРөСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёРө, СҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҒСҸ РјРөСӮРөР»СҢ. РӯСӮР° СӮРІРҫСҖСҸСүР°СҸ жизРҪСҢ РіРөСҖРҫРөРІ РҪРҫРІРөллСӢ СҒСӮРёС…РёСҸ, СҖазСҠРөРҙРёРҪСҸРөСӮ РёС…, СҒРҪРҫРІР° СҒРІРҫРҙРёСӮ, РјРөРҪСҸРөСӮ РёС… РҙСғСҲСғ, РІСӢСҸРІР»СҸРөСӮ РҝРҫСҒСӮСғРҝРәРё. РһРҪР° РәРҫСҒРјРёСҮРҪР°, РҪРҫ РҪРө РҫСӮСҮСғР¶РҙРөРҪР° РҫСӮ РұСӢСӮРёСҸ СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫРіРҫ Рё РІ СӮРҫР№ или РёРҪРҫР№ РјРөСҖРө РҫРұСҖазРҪРҫ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёР·СғРөСӮ РұСӢСӮРёРө. ДлСҸ РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ «мРөСӮРөР»СҢВ» РҪР°СҮалаСҒСҢ СҒРҫ СҒРҪР° РІ РҪРҫСҮСҢ РҝРөСҖРөРҙ РҝРҫРұРөРіРҫРј, СҒ РҙРҪРөРІРҪРҫРіРҫ СҒРјСҸСӮРөРҪРёСҸ Рё РҙРҫСҒСӮигла Р°РҝРҫРіРөСҸ вҖ“ РІ РҝРөСҖРөРҙР°СҮРө В«СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРәа» вҖ“ РІ РјРёРҪСғСӮСӢ, РәРҫРіРҙР° РҙРҫ СҖРөСҲРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СҲага РҫСҒСӮавалРҫСҒСҢ РҝРҫР»СҮР°СҒР°: В«РқР° РҙРІРҫСҖРө РұСӢла РјРөСӮРөР»СҢ: РІРөСӮРөСҖ РІСӢР», СҒСӮавРҪРё СӮСҖСҸСҒлиСҒСҢ Рё СҒСӮСғСҮали...В». РўР°РәРҫРІРҫ РҝРөСҖРІРҫРө РҝРҫСҸРІР»РөРҪРёРө СҒР»РҫРІР° «мРөСӮРөР»СҢВ» РІ РҪРҫРІРөллРө. Р•РҙРІР° РҝСҖРҫР·РІСғСҮав, РҫРҪРҫ СғР¶Рө РҫРұСҖазРҪРҫ РҪазвалРҫ СӮСғ РұСғСҖСҺ, СҮСӮРҫ СӮРөСҖзала СҒРөСҖРҙСҶРө РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ. РӯСӮР° «мРөСӮРөР»СҢВ» РҫСҒСӮР°РҪРөСӮСҒСҸ РІ РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРөР№ жизРҪРё РіРөСҖРҫРёРҪРё РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РІСҒРө РҝРөСҖРёРҝРөСӮРёРё РҙалСҢРҪРөР№СҲРёС… СҒРҫРұСӢСӮРёР№, СҒРҫРҝСғСӮСҒСӮРІРҫвавСҲРёС… РҙСҖамаСӮРёСҮРҪРҫРјСғ СӮайРҪРҫРјСғ РІРөРҪСҮР°РҪРёСҺ. РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° РІСҖРөРјРөРҪРё РөРө Р·РҪР°РәРҫРјСҒСӮРІР° СҒ Р‘СғСҖРјРёРҪСӢРј вҖ“ РІРөСҒСҢРјР° СғСҖавРҪРҫРІРөСҲРөРҪРҪР°СҸ Рҙама, СҮСӮРҫ РҫСӮСҮРөСӮливРҫ РІСӢРҙРөР»СҸРөСӮСҒСҸ РҝСҖРё СҒРҫРҝРҫСҒСӮавлРөРҪРёРё СҒ РҫРұлиРәРҫРј РҝСҖРөР¶РҪРөР№ СҚРәзалСҢСӮРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫР№ «мРҫР»РҫРҙРҫР№ РҝСҖРөСҒСӮСғРҝРҪРёСҶСӢВ» СҒ В«РҙСҖРҫжаСүРёРј РіРҫР»РҫСҒРҫРјВ», «заливаСҺСүРөР№СҒСҸ СҒР»Рөзами». В«РңРөСӮРөР»СҢВ» РҝСҖРҫРёР·РҫСҲла, Рё РіРөСҖРҫРёРҪСҸ, РҝСҖРҫР№РҙСҸ СҒРәРІРҫР·СҢ РҪРөРө, СҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҒСҸ РҙСҖСғРіРёРј СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј, РҝРҫСҮСӮРё РҝРҫР»РҪРҫР№ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫР»РҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢСҺ СҒРөРұРө СҺРҪРҫР№. ДлСҸ ВлаРҙРёРјРёСҖР° «мРөСӮРөР»СҢВ» РҪР°СҮалаСҒСҢ, РәР°Рә СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫРҪ РІСӢРөхал Р·Р° РҫРәРҫлиСҶСғ. Р”Рҫ СӮРҫРіРҫ Р¶Рө РІ РҝСҖРёРҝРҫРҙРҪСҸСӮРҫРј РҪР°СҒСӮСҖРҫРөРҪРёРё РҫРҪ РёСүРөСӮ СҒРІРёРҙРөСӮРөР»РөР№, СҒРІСҸСүРөРҪРҪРёРәР°, РҙРҫРіРҫРІР°СҖРёРІР°РөСӮСҒСҸ СҒ РҪРёРјРё. РҘР»РҫРҝРҫСӮСӢ РөРіРҫ СҖР°РҙРҫСҒСӮРҪСӢ, С…РҫСӮСҸ Рё РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ лихРҫСҖР°РҙРҫСҮРҪСӢ. Рҳ РІРҫСӮ В«РҝРҫРҙРҪСҸР»СҒСҸ РІРөСӮРөСҖ Рё СҒРҙРөлалаСҒСҢ СӮР°РәР°СҸ РјРөСӮРөР»СҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РҪРёСҮРөРіРҫ РҪРө РІР·РІРёРҙРөл»вҖҰ РЎСӮРёС…РёСҸ СҒР»РҫРІРҪРҫ РёРіСҖР°РөСӮ СҒ ВлаРҙРёРјРёСҖРҫРј, Р·Р°СҒСӮавлСҸРөСӮ СҒСӮРҫР»РұРөРҪРөСӮСҢ РІ РјРёРҪСғСӮСғ СғжаСҒРҪРҫРіРҫ СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёСҸ: «ВлаРҙРёРјРёСҖ СҒС…РІР°СӮРёР» СҒРөРұСҸ Р·Р° РІРҫР»РҫСҒСӢ Рё РҫСҒСӮалСҒСҸ РҪРөРҙвижим, РәР°Рә СҮРөР»РҫРІРөРә, РҝСҖРёРіРҫРІРҫСҖРөРҪРҪСӢР№ Рә СҒРјРөСҖСӮРёВ». Р•РҙРёРҪРҫРұРҫСҖСҒСӮРІРҫ СҒ СҖРҫРәРҫРІРҫР№ «мРөСӮРөР»СҢСҺВ» ВлаРҙРёРјРёСҖ РҝСҖРҫРёРіСҖСӢРІР°РөСӮ. РҹРөСҖРөС…РҫРҙСӢ РөРіРҫ РҙСғСҲРөРІРҪРҫРіРҫ СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ РҫСӮ СҒРІРөСӮР»РҫРіРҫ Рә РјСҖР°СҮРҪРҫРјСғ РҪРөРёСҒСӮРҫРІСӢ, РҫРҪ СҒам СҸРІР»СҸРөСӮ СҒРҫРұРҫР№ РҫРұСҖазРҪСӢР№ СҒР»РөРҝРҫРә СҒ РјРөСӮРөли, Рё РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҪРөР№, СҒР»РҫРІРҪРҫ Р·Р°РәСҖСғСҮРөРҪРҪСӢР№ РІРёС…СҖРөРј Рё СғРҪРөСҒРөРҪРҪСӢР№ РёРј, РёСҒСҮРөР·Р°РөСӮ СҒРҫ СҒСӮСҖР°РҪРёСҶ РҝРҫРІРөСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёСҸ. ЕгРҫ РёРјСҸ РҝРҫСҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РөСүРө СҖаз, РІРҪРҫРІСҢ РҫРұСҖазРҪРҫ СҒРҫСҮРөСӮР°СҸСҒСҢ СҒ «мРөСӮРөР»СҢСҺВ» вҖ“ РІРҫР№РҪРҫР№ 1812 РіРҫРҙР°, Рё РІРҪРҫРІСҢ РҝСҖРҫРҝР°РҙР°СҸ РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҪРөСҺ. РқРө СҒР»СғСҮайРҪРҫ, СҮСӮРҫ РІСҒРө РҪРөРёСҒСӮРҫРІСҒСӮРІРҫ РјРөСӮРөли РҝРҫРәазаРҪРҫ глазами ВлаРҙРёРјРёСҖР°, СҒР»РҫРІРҪРҫ РҙРІР° РІРёС…СҖСҸ, РәСҖР°СӮРәРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢС… Рё РІРҪРөР·Р°РҝРҪСӢС…, РІСҒСӮСҖРөСӮилиСҒСҢ Рё РҝРҫРіР°СҒили РҙСҖСғРі РҙСҖСғРіР°.
В
Р‘СғСҖРјРёРҪ РҪРөРІРҫР·РјСғСӮРёРј РІРҫ РІСҖРөРјСҸ СҒРІРҫРөР№ Р»РөРіРәРҫРјСӢСҒР»РөРҪРҪРҫР№ РҝСҖРҫРҙРөР»РәРё РІ СҶРөСҖРәРІРё. РңРөСӮРөР»СҢ РҙР»СҸ РҪРөРіРҫ РҙРҫСҒР°РҙРҪР° РәР°Рә РҪРөРҙРҫСҖазСғРјРөРҪРёРө, РҪР°СҖСғСҲР°СҺСүРөРө РҝлаРҪСӢ: «ВРҙСҖСғРі РҝРҫРҙРҪСҸлаСҒСҢ СғжаСҒРҪР°СҸ РјРөСӮРөР»СҢВ»; «мРөСӮРөР»СҢ РҪРө СғРҪималаСҒСҢ... СҸ РҪРө РІСӢСӮРөСҖРҝРөР» Рё РҝРҫРөхал РІ СҒамСғСҺ РұСғСҖСҺВ». РҹРҫР·РҙРҪРөРө СҒРјСҸСӮРөРҪРёРө Р‘СғСҖРјРёРҪР°, СҮСғРІСҒСӮРІРҫ РіРҫСҖСҢРәРҫР№ РІРёРҪСӢ, СҒжимаСҺСүРөРө СҒРөСҖРҙСҶРө РІ РјРёРҪСғСӮСӢ, РәРҫРіРҙР° РҙРҫлжРҪР° РҫРәРҫРҪСҮР°СӮРөР»СҢРҪРҫ СҖРөСҲРёСӮСҢСҒСҸ РөРіРҫ СҒСғРҙСҢРұР°, СӮР°Рә СҒСӮСҖР°РҪРҪРҫ СҒРҫРҝСҖСҸР¶РөРҪРҪР°СҸ СҒ РҙавРҪРёРј СҒРҫРұСӢСӮРёРөРј, вҖ“ СӮР°РәРҫРІР° РҙР»СҸ РҪРөРіРҫ «мРөСӮРөР»СҢВ». РһРҪР° СҒР»РҫРІРҪРҫ Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪР° РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј РІ РҝР°СғР·Сғ, СҮСӮРҫ СҖазРұРёРІР°РөСӮ фиРҪалСҢРҪСғСҺ СҒСӮСҖРҫРәСғ РҪР° РҙРІРө СҮР°СҒСӮРё: «БСғСҖРјРёРҪ РҝРҫРұР»РөРҙРҪРөР»... Рё РұСҖРҫСҒРёР»СҒСҸ Рә РөРө РҪРҫгам...В». Рҳ РҝРҫРәазаРҪР° СҮРёСӮР°СӮРөР»СҺ СӮРҫР»СҢРәРҫ РәСҖР°РөСҲРәРҫРј: В«...Рё РұСҖРҫСҒРёР»СҒСҸ Рә РөРө РҪРҫгам...В». РқРҫ РІ РҪРҫРІРөллРө СҚСӮРҫ РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ «мРөСӮРөР»СҢВ» СҒРҫР·РёРҙР°СҺСүР°СҸ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҫСҮРёСүР°РөСӮ РҙСғСҲСғ РіРөСҖРҫСҸ СҖР°СҒРәР°СҸРҪРёРөРј, РІРҫР·РІСӢСҲР°РөСӮ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, Р° РҪРө РәалРөСҮРёСӮ, РҪРө СғРҪРёСҮСӮРҫжаРөСӮ РөРіРҫ. РўР°Рә РІ РҪРҫРІРөллРө РІРҫРҝР»РҫСүРөРҪСӢ СӮСҖРё Р·РҪР°РәР° «мРөСӮРөли»: РҝСҖРөРҙРІРөСҒСӮСҢРө РөРө; СҒама «мРөСӮРөР»СҢВ»; РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёРө Рҫ «мРөСӮРөли».
В
В«РңРөСӮРөР»СҢВ» РҝСҖРөРҙСҒСӮР°РөСӮ РәР°Рә СҚРҝРёСҶРөРҪСӮСҖ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ-РІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРіРҫ РІРҫР·РјСғСүРөРҪРёСҸ РҪРҫРІРөллСӢ. Р•Рө РІРҫР»РҪСӢ РҫРәР°СӮСӢРІР°СҺСӮ РәажРҙСғСҺ СҒСғРҙСҢРұСғ Рё РҝРҫРҙРҙРөСҖживаСҺСӮ СҖРёСӮРј РҝРҫРІРөСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёСҸ, РҝСҖРёРҙР°СҺСӮ РөРјСғ РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪСғСҺ СҒРёРјРјРөСӮСҖРёСҮРҪРҫСҒСӮСҢ. В«РһСӮРәСҖСӢСӮРҫСҒСӮСҢВ» фиРҪала, СҚРјРҫСҶРёРҫРҪалСҢРҪР°СҸ СҒила, СҒРәРҫРҪСҶРөРҪСӮСҖРёСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ РІ РҪРөРј, В«РҝРҫРҙРҙРөСҖживаРөСӮСҒСҸВ» РҙСғСҲРөРІРҪРҫР№ РұСғСҖРөР№ СҺРҪРҫР№ РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ РҪР°РәР°РҪСғРҪРө РҝРҫРұРөРіР°. РӯСӮР° РұСғСҖСҸ, РҫРҝРёСҒР°РҪРҪР°СҸ СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРәРҫРј РІ РҝРөСҖРІРҫР№ СҮР°СҒСӮРё РҪРҫРІРөллСӢ, Р·РөСҖРәалСҢРҪРҫ РҫСӮСҖажРөРҪР° РІ фиРҪал, РҪРҫ РҝРҫСҮСӮРё СҒРәСҖСӢСӮР° РІ РҝРҫРІРөРҙРөРҪРёРё Р‘СғСҖРјРёРҪР° РІ РјРҫРјРөРҪСӮ СғР·РҪаваРҪРёСҸ СӮайРҪСӢ. РҳСҒРәСғСҒСҒСӮРІРҫРј РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёРё РҫРҪР° РҝРөСҖРөРҪРөСҒРөРҪР° РІ РІРҫРҫРұСҖажРөРҪРёРө СҮРёСӮР°СӮРөР»СҸ: РҝСҖРөРҙРІР°СҖРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҒжаСӮР°СҸ РҝСҖСғжиРҪР° СҖР°СҒРҝСҖСҸРјР»СҸРөСӮСҒСҸ Р·Р° РҝСҖРөРҙРөлами СӮРөРәСҒСӮР°. «ВРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёРө Рҫ РјРөСӮРөли» РҫРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ СҒСҖавРҪРёРјСӢРј РҝРҫ СҒРІРҫРөРјСғ РҝРҫСӮСҖСҸСҒРөРҪРёСҺ СҒ В«РҝСҖРөРҙРІРөСҒСӮСҢРөРјВ» РөРө. Р’ РҪРҫРІРөллРө РөСҒСӮСҢ РөСүРө РҫРҙРёРҪ РҪРөСҸРІРҪСӢР№ РҫРұСҖаз «мРөСӮРөли» вҖ“ РІРҫР№РҪР° СҒ С„СҖР°РҪСҶСғзами. РҹРҫСҮСӮРё СҒРәРҫСҖРҫРіРҫРІРҫСҖРәРҫР№ СғРҝРҫРјСҸРҪСғСӮР°СҸ РІ СҒРІСҸР·Рё СҒ СҒСғРҙСҢРұРҫР№ ВлаРҙРёРјРёСҖР°, РҫРҪР° фигСғСҖРёСҖСғРөСӮ РІ СӮРөРәСҒСӮРө РІ РјРҫРјРөРҪСӮ РөРө РҝРҫРұРөРҙРҪРҫРіРҫ завРөСҖСҲРөРҪРёСҸ: В«РңРөР¶РҙСғ СӮРөРј, РІРҫР№РҪР° СҒРҫ СҒлавРҫСҺ РұСӢла РәРҫРҪСҮРөРҪа». Р’РҫР·РҪРёРәР°РөСӮ СҚС…Рҫ «мРөСӮРөли», РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ СҖазлСғСҮила СҖРҫРјР°РҪСӮРёСҮРөСҒРәРёС… РІР»СҺРұР»РөРҪРҪСӢС…, вҖ“ СӮРҫР№ РҝРөСҖРІРҫР№, СҖРөалСҢРҪРҫР№ СҒСӮРёС…РёРё, РҝСҖРёСҒСғСӮСҒСӮРІСғСҺСүРөР№ РІ РҝРҫРІРөСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёРё РұСғРәвалСҢРҪРҫ. Рҳ РіРҫСӮРҫРІРёСӮСҒСҸ РҝР°СҖаллРөР»СҢ СҒСӮРёС…РёРё РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРөР№, Сғ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҙРІР° РҫРұлиРәР°: СҒ РҫРҙРҪРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ вҖ“ РҝСҖРҫРұСғР¶РҙРөРҪРёРө СҒамРҫСҒРҫР·РҪР°РҪРёСҸ Сғ СҶРІРөСӮР° СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ РҫРұСүРөСҒСӮРІР° РІ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө РөРІСҖРҫРҝРөР№СҒРәРҫРіРҫ РҝРҫС…РҫРҙР°, СҮСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РҙР»СҸ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәРҫРІ РҹСғСҲРәРёРҪР° РҫСүСғСүРөРҪРёРөРј РұРөР·СғСҒР»РҫРІРҪСӢРј; СҒ РҙСҖСғРіРҫР№ вҖ“ РјРҫСӮРёРІ РҝРҫРҙлиРҪРҪРҫР№ Р·СҖРөР»РҫСҒСӮРё, СҒРҫРІРөСҒСӮливРҫСҒСӮРё Рё РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Р·Р° РҝСҖРҫСҲР»РҫРө Сғ Р‘СғСҖРјРёРҪР°.
В
СамРҫСғР·РҪаваРҪРёРө вҖ“ РІ РҫСҒРҪРҫРІРө СҚРІРҫР»СҺСҶРёРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРІ Рё РҙСҖСғРіРёС… РіРөСҖРҫРөРІ В«РңРөСӮРөли». РЎСӮРёС…РёСҸ РјРөРҪСҸРөСӮ РҙСғСҲРөРІРҪСӢР№ СҒСӮСҖРҫР№ РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ, СӮРҫРіРҙР° РәР°Рә РҙР»СҸ Р‘СғСҖРјРёРҪР° «мРөСӮРөР»СҢВ» вҖ“ лиСҲСҢ Р·Р°РҪСҸСӮРҪСӢР№ СҚРҝРёР·РҫРҙ. Р’РҫРөРҪРҪСӢРө СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ 1812 РіРҫРҙР° РҪРө Р·Р°СӮСҖагиваСҺСӮ РҪРөРҝРҫСҒСҖРөРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РңР°СҖСҢСҺ ГавСҖРёР»РҫРІРҪСғ, РҪРҫ Р‘СғСҖРјРёРҪ, РёС… СғСҮР°СҒСӮРҪРёРә, РјРөРҪСҸРөСӮСҒСҸ СҖазиСӮРөР»СҢРҪРҫ, РҝСҖРёСҮРөРј СӮСҖР°РҪСҒС„РҫСҖРјР°СҶРёСҸ СҚСӮР° РөРіРҫ РІРҫР·РІСӢСҲР°РөСӮ. ЗамРөСӮРёРј, РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ РҝРҫРҙРјРөРҪР° С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРІ Рё СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРёС… РҝРҫР·РёСҶРёР№ РіРөСҖРҫРөРІ РҪРҫРІРөллСӢ. РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° Рё Р‘СғСҖРјРёРҪ СҒСӮР°РҪРҫРІСҸСӮСҒСҸ фигСғСҖами алСҢСӮРөСҖРҪР°СӮРёРІРҪСӢРјРё РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫ СҒРІРҫРёРј СҖРҫР»СҸРј РІ СҖазвиСӮРёРё СҒСҺР¶РөСӮР°, РҪРҫ Рё РҝРҫ РҙСғСҲРөРІРҪСӢРј РәР°СҮРөСҒСӮвам, СҚРІРҫР»СҺСҶРёРҫРҪРёСҖСғСҺСүРёРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫР»РҫР¶РҪСӢРј РҫРұСҖазРҫРј. РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° вҖ“ РҫСӮ СҒРјСҸСӮРөРҪРҪРҫСҒСӮРё, СҚРәзалСҢСӮРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫСҒСӮРё Рә СғСҖавРҪРҫРІРөСҲРөРҪРҪРҫСҒСӮРё, РҙСғСҲРөРІРҪРҫР№ СғСҒРҝРҫРәРҫРөРҪРҪРҫСҒСӮРё (РөРө РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸ Рҫ «мРөСӮРөли» РҝСҖРёРҫРұСҖРөСӮР°СҺСӮ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖ РҝСҖРёРІСӢСҮРәРё). Р‘СғСҖРјРёРҪ вҖ“ РҫСӮ РҪРөРІРҫР·РјСғСӮРёРјРҫСҒСӮРё Рё СҒРөСҖРҙРөСҮРҪРҫР№ РіР»СғС…РҫСӮСӢ Рә РёСҒРәСҖРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Рё РҪСҖавСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРјСғ РІР·СҖРҫСҒР»РөРҪРёСҺ. РҗРҪСӮРёРҪРҫРјРёСҸ СҚСӮРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРІ РҝРҫРҙСҮРөСҖРәРҪСғСӮР° РёС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРөРј Рә СӮайРҪРҫРјСғ РІРөРҪСҮР°РҪРёСҺ. РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° РҪРө СҒСҮРёСӮР°РөСӮ СҒРөРұСҸ СҒРІСҸР·Р°РҪРҪРҫР№ РҙавРҪРёРј «мРөСӮРөР»СҢРҪСӢРјВ» РұСҖР°РәРҫРј. РўРҫРіРҙР° РәР°Рә Р‘СғСҖРјРёРҪ РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРө СӮСҸРіРҫСӮРёСӮСҒСҸ РҪР° РҝРөСҖРІСӢР№ РІР·РіР»СҸРҙ СҒР»СғСҮайРҪСӢРјРё РҝСҖРҫСҲР»СӢРјРё РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮвами, РҙР»СҸ РҪРөРіРҫ РҫРҪРё РҝРөСҖРөСҖР°СҒСӮР°СҺСӮ РІ РҫСүСғСүРөРҪРёРө РҪРөСҒРІРҫРұРҫРҙСӢ.
В
В
В«вҖҰРҜ СҮСғРІСҒСӮРІСғСҺ, СҮСӮРҫ Р’СӢ РұСӢли РұСӢ РјРҫРөСҺ, РҪРҫ вҖ“ СҸ РҪРөСҒСҮР°СҒСӮРҪРөР№СҲРөРө СҒРҫР·РҙР°РҪРёРөвҖҰ СҸ Р¶РөРҪР°СӮ!В»
В
В«вҖҰСҸ РҪРө РёРјРөСҺ Рё РҪР°РҙРөР¶РҙСӢ РҫСӮСӢСҒРәР°СӮСҢ СӮСғ, РҪР°Рҙ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҝРҫРҙСҲСғСӮРёР» СҸ СӮР°Рә Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫ Рё РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ СӮР°Рә Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫ СӮРөРҝРөСҖСҢ РҫСӮРҫРјСүРөРҪР°.
В
- Р‘РҫР¶Рө РјРҫР№, Р‘РҫР¶Рө РјРҫР№! вҖ“ СҒРәазала РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР°, СҒС…РІР°СӮРёРІ РөРіРҫ Р·Р° СҖСғРәСғ, - СӮР°Рә СҚСӮРҫ РұСӢли Р’СӢ!..В»
В
В
В
Р Р°СҒСҒРәазСҮРёРәСғ РҝРҫР·РҙРҪРөРө РҝСҖРҫР·СҖРөРҪРёРө Р‘СғСҖРјРёРҪР° РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪРҫ РҙРҫСҖРҫР¶Рө РёРҪСӢС… СӮРөСҖР·Р°РҪРёР№ главРҪРҫР№ РіРөСҖРҫРёРҪРё. Р’ РјРёРҪСғСӮСғ РјСғСҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СҖР°СҒРәР°СҸРҪРёСҸ Р‘СғСҖРјРёРҪ РІСӢРіР»СҸРҙРёСӮ РҝСҖРёРІР»РөРәР°СӮРөР»СҢРҪРөРө РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ, РёРұРҫ РёРҪСӮРҫРҪР°СҶРёРё РөРіРҫ СҒР»РҫРІ РҝРҫ-РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРјСғ РёСҒРәСҖРөРҪРҪРё. Рҳ Рә Р»РөР№СӮРјРҫСӮРёРІСғ РјРөСӮРөли-СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ РҝСҖРёРұавлСҸРөСӮСҒСҸ РјРҫСӮРёРІ РјРөСӮРөли-РҫСҒРјСӢСҒР»РөРҪРёСҸ РҝСҖРҫРёСҒСҲРөРҙСҲРөРіРҫ. РҡРҫСҒРјРёР·Рј РІРҪРөСҲРҪРөР№ СҒСӮРёС…РёРё РҝР°СҖР°РҙРҫРәСҒалСҢРҪРҫ СҒРҫСҮРөСӮР°РөСӮСҒСҸ СҒ РәРҫСҒРјРҫСҒРҫРј СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫР№ РҙСғСҲРё. Р–РёР·РҪСҢ РјРҫР¶РөСӮ РҝРҫРІРөСҖРҪСғСӮСҢ СҒСғРҙСҢРұСғ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, РҪРҫ Рё СҮРөР»РҫРІРөРә СҒСӮРҫР»СҢ Р¶Рө СҖазиСӮРөР»СҢРҪРҫ РјРҫР¶РөСӮ РёР·РјРөРҪРёСӮСҢ СҒРөРұСҸ, РөСҒли СӮРҫР»СҢРәРҫ Р·Р°РҙСғРјР°РөСӮСҒСҸ РҪР°Рҙ СӮРөРј, СҮСӮРҫ Р¶Рө СҒ РҪРёРј РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ... РһРұСҖаз ВлаРҙРёРјРёСҖР° РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РІ РҪРҫРІРөллРө РәР°Рә РұСӢ лиРҪРёРөР№ СҒРёРјРјРөСӮСҖРёРё, РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ СҖазвиваСҺСӮСҒСҸ РҫРұСҖазСӢ РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ Рё Р‘СғСҖРјРёРҪР°. Р’РҫР»РөР№ СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРәР° ВлаРҙРёРјРёСҖСғ РҪРө РҙР°РҪРҫ СҖазмСӢСҲР»СҸСӮСҢ, РҫРҪ РІРөСҒСҢ вҖ“ РІ РҙРөР№СҒСӮРІРёРё, РІ РұРҫСҖРөРҪРёРё СҒ РІРҪРөСҲРҪРёРјРё, РІСҖажРҙРөРұРҪСӢРјРё РөРјСғ СҒилами: СҒ РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮвами, СҒ РјРөСӮРөР»СҢСҺ, СҒ РҪРөРҝСҖРёСҸСӮРөР»РөРј РҪР° РІРҫР№РҪРө... РҹРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪСӢРө РҝРҫСҖажРөРҪРёСҸ РөРіРҫ РҪРө СҒРјРёСҖСҸСҺСӮ, РҫРҪ РёСүРөСӮ РҪРҫРІРҫР№ СҒС…РІР°СӮРәРё. РһРҙРҪР°РәРҫ ВлаРҙРёРјРёСҖСғ РҪРө РҝСҖРёС…РҫРҙРёСӮ РІ РіРҫР»РҫРІСғ РҫРіР»СҸРҪСғСӮСҢСҒСҸ РҪР° РҝСҖРҫР№РҙРөРҪРҪСӢР№ РҝСғСӮСҢ, Рё РІ СҚСӮРҫРј вҖ“ РөРіРҫ РҫРіСҖР°РҪРёСҮРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ. РЎРәР»РҫРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РәРҫ РІСҒРөРјСғ РіРөСҖРҫРёСҮРөСҒРәРҫРјСғ, РҫСӮважРҪРҫРјСғ РҝСҖРёРІРҫРҙРёСӮ ВлаРҙРёРјРёСҖР° РҪР° РҝРҫР»Рө РұСҖР°РҪРё, Рё РөРіРҫ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РҫРұСҖРөСӮР°РөСӮ РҙРҫСҒСӮРҫР№РҪРҫРө завРөСҖСҲРөРҪРёРө: В«... РёРјСҸ РөРіРҫ РІ СҮРёСҒР»Рө РҫСӮлиСҮРёРІСҲРёС…СҒСҸ Рё СӮСҸР¶РөР»РҫСҖР°РҪРөРҪСӢС… РҝРҫРҙ Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪРҫРј... РҫРҪ СғРјРөСҖ РІ РңРҫСҒРәРІРө, РҪР°РәР°РҪСғРҪРө РІСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёСҸ С„СҖР°РҪСҶСғР·РҫРІВ». РҘР°СҖР°РәСӮРөСҖ ВлаРҙРёРјРёСҖР° вҖ“ СӮСҖР°РҙРёСҶРёРҫРҪРҪРҫ СҖРҫРјР°РҪСӮРёСҮРөСҒРәРёР№. РазвиСӮРёРө Р¶Рө РҫРұСҖазРҫРІ РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ Рё Р‘СғСҖРјРёРҪР° РҫРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ РІСӢС…РҫРҙРҫРј Р·Р° СҖамРәРё СҖРҫРјР°РҪСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РІРёРҙРөРҪРёСҸ РјРёСҖР°. Р’ РјРҫРјРөРҪСӮ СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ-РјРөСӮРөли РіСҖР°РҪРё СҖРҫРјР°РҪСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РјРёСҖРҫРІРҫСҒРҝСҖРёСҸСӮРёСҸ СҖР°СҒРҝСҖРөРҙРөР»СҸлиСҒСҢ СӮР°Рә:
В
- РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° вҖ“ РІРҫСҒСӮРҫСҖР¶РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ Рё СҒРјСҸСӮРөРҪРёРө;
В
- ВлаРҙРёРјРёСҖ вҖ“ РұРҫСҖРөРҪРёРө СҒ РҪРөРҫРҙРҫлимСӢРјРё РІРҪРөСҲРҪРёРјРё СҒилами;
В
- Р‘СғСҖРјРёРҪ вҖ“ С…РҫР»РҫРҙРҪСӢР№ СҚРіРҫРёР·Рј.
В
Рҗ РІРҫСӮ РёСӮРҫРі СҖазвиСӮРёСҸ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРІ:
В
- РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° вҖ“ РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪСҸСҸ РҝСҖР°РәСӮРёСҮРҪРҫСҒСӮСҢ;
В
- ВлаРҙРёРјРёСҖ вҖ“ РіРөСҖРҫРёСҮРөСҒРәР°СҸ СҒРјРөСҖСӮСҢ;
В
- Р‘СғСҖРјРёРҪ вҖ“ СҒамРҫРҝРҫР·РҪР°РҪРёРө, РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРҪРҫРө РҪР° РҪСҖавСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҫСҶРөРҪРәРө СҒРІРҫРёС… РҝРҫСҒСӮСғРҝРәРҫРІ.
В
Рҳ Р·РҙРөСҒСҢ СҒСӮРҫРёСӮ РІСҒРҝРҫРјРҪРёСӮСҢ СӮРҫ, СҮСӮРҫ РіРҫРІРҫСҖРёР»РҫСҒСҢ РҫРұ РёСҖРҫРҪРёСҮРөСҒРәРҫРј РјРөСӮРҫРҙРө РҹСғСҲРәРёРҪР° РәР°Рә Рҫ РҝРөСҖРөС…РҫРҙРҪРҫРј РҫСӮ СҖРҫРјР°РҪСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫР·РҪР°РҪРёСҸ Рә СҖРөалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫРјСғ. РҹСҖРҫСҖСӢРІ РІ СҖазвиСӮРёРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРІ главРҪСӢС… РіРөСҖРҫРөРІ В«РңРөСӮРөли» РёР· СҖРҫРјР°РҪСӮРёР·РјР° вҖ“ РІ СҖРөалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәСғСҺ СҚСҒСӮРөСӮРёРәСғ РІРҫРҝР»РҫСүРөРҪ РІ РҪРөСҸРІРҪРҫРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫСҒСӮавлРөРҪРёРё РҫРұСҖазРҫРІ РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ Рё Р‘СғСҖРјРёРҪР°. РһРұСҖаз ВлаРҙРёРјРёСҖР° вҖ“ СӮР° РҝРҫРіСҖР°РҪРёСҮРҪР°СҸ СҮРөСҖСӮР°, СҮСӮРҫ СҖазРҙРөР»СҸРөСӮ РҙРІРө РҝРҫСҚСӮРёРәРё РІ РҪРҫРІРөллРө, СҒСӮР°СҖСғСҺ Рё РҪРҫРІСғСҺ. РӯСӮРҫСӮ РҫРұСҖаз РұСғРҙСӮРҫ «лРөжиСӮ РІ РҝР»РҫСҒРәРҫСҒСӮРёВ», СӮРҫРіРҙР° РәР°Рә Р‘СғСҖРјРёРҪ Рё РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° вҖ“ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖСӢ РҫРұСҠРөРјРҪСӢРө, РҝРҫР·РІРҫР»СҸСҺСүРёРө СҒРҫРІРјРөСҒСӮРёСӮСҢ РІ СҒРөРұРө РҝСҖРёР·РҪР°РәРё, СҒРҫглаСҒРҪРҫ СҚСҒСӮРөСӮРёРәРө СҖРҫРјР°РҪСӮРёР·РјР° РёРөСҖР°СҖС…РёСҮРөСҒРәРё Р·Р°РәСҖРөРҝР»РөРҪРҪСӢРө. Р‘РҫСҖРёСҒ РӯР№С…РөРҪРұР°СғРј РІ «БРҫР»РҙРёРҪСҒРәРёС… РҝРҫРұР°СҒРөРҪРәах РҹСғСҲРәРёРҪа» СӮР°Рә РҝРёСҒал Рҫ В«СҒРҫРұСӢСӮРёСҸС…, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢС… СҒ РҝРҫРұРөРіРҫРјВ»: В«РҝСҖРҫРІРҫРҙСҸСӮСҒСҸ РҙРІРө лиРҪРёРё РёР· СҖазРҪСӢС… СӮРҫСҮРөРә, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒСӮСҖРөРјСҸСӮСҒСҸ РІСҒСӮСҖРөСӮРёСӮСҢСҒСҸ, вҖ“ РңР°СҲР° Рё ВлаРҙРёРјРёСҖ, РәажРҙСӢР№ РёР· СҒРІРҫРөРіРҫ РҙРҫРјР°, РөРҙСғСӮ РІ Р–Р°РҙСҖРёРҪРҫВ». РўРҫРіРҙР° РәР°Рә РІ РҪР°СҲРөРј СҒР»СғСҮР°Рө РәажРөСӮСҒСҸ СғРјРөСҒСӮРҪСӢРј РҫРұСҖаз РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРІ РІ РҪРҫРІРөллРө, РІ РҫСҒРҪРҫРІСғ РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҝРҫР»РҫР¶РөРҪСӢ СӮСҖРё СҖР°СҒС…РҫРҙСҸСүРёРөСҒСҸ лиРҪРёРё, РҙРІРө РёР· РҪРёС… РёРјРөСҺСӮ РІРөСҖСӮРёРәалСҢРҪРҫРө РёР·РјРөСҖРөРҪРёРө. РқР° СҶРөРҪРҪРҫСҒСӮРҪРҫР№ СҲРәалРө СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРёС… РәР°СҮРөСҒСӮРІ лиРҪРёСҸ ВлаРҙРёРјРёСҖР° РҙРІРёР¶РөСӮСҒСҸ РҝР°СҖаллРөР»СҢРҪРҫ СҒРІРҫРөР№ РҫСӮРјРөСӮРәРө (СӮРҫР№, СҮСӮРҫ СғСҒР»РҫРІРҪРҫ РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪР° РІ РҪР°СҮалРө РҪРҫРІРөллСӢ); лиРҪРёСҸ РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ СҒРҪижаРөСӮСҒСҸ; лиРҪРёСҸ Р‘СғСҖРјРёРҪР° РёРҙРөСӮ РІРІРөСҖС….
В В
Р’ РҙР°РҪРҪРҫР№ РјРҫРҙРөли СҲРәала СҖРҫРјР°РҪСӮРёР·РјР° РҝРҫРҪРёРјР°РөСӮСҒСҸ РәР°Рә РёРөСҖР°СҖС…РёСҸ РҝСҖРёРәСҖРөРҝР»РөРҪРҪРҫСҒСӮРё РІРөСүРөР№, РҪРө-СҒРјРөСҲРёРІР°РөРјРҫСҒСӮРё РІСӢСҒРҫРәРёС… Рё РҪРёР·РәРёС… РҝСҖРёР·РҪР°РәРҫРІ РІ РҫРҙРҪРҫРј СҮРөР»РҫРІРөРәРө, РҝСғСҒСӮСҢ РҙажРө РҪР° РҙлиСӮРөР»СҢРҪРҫРј РІСҖРөРјРөРҪРҪРҫРј РҫСӮСҖРөР·РәРө. РўР°РәР°СҸ РёРөСҖР°СҖС…РёСҸ РҝСҖРөРҙРҝРҫлагаРөСӮ РіРҫСҖРёР·РҫРҪСӮалСҢРҪРҫРө СҖазвиСӮРёРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҫРІ РҝСғСӮРөРј РёС… РҙРөСӮализаСҶРёРё, РҪРҫ РҪРё РІ РәРҫРөРј СҒР»СғСҮР°Рө вҖ“ РҪРө РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫСҒСӮавлРөРҪРёСҸ РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРөРіРҫ РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРөРјСғ РІ РІРёРҙРө РәРҫРҪфлиРәСӮР°. РқРөСӮ СҒРјСӢСҒла РҙРөСӮализиСҖРҫРІР°СӮСҢ Р·РҙРөСҒСҢ СҚСӮСғ РјСӢСҒР»СҢ, СҒРҫСҲР»РөРјСҒСҸ лиСҲСҢ РҪР° РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪСғСҺ СҒСӮР°СӮСҢСҺ Рӣ. ГиРҪР·РұСғСҖРі В«РҹСғСҲРәРёРҪ Рё РҝСҖРҫРұР»РөРјР° СҖРөализма». РўРөРҝРөСҖСҢ СҒСӮРҫРёСӮ СҖР°СҒСҒРјРҫСӮСҖРөСӮСҢ РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫСҒСӮРё РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёРё, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҫСӮСҖажРөРҪР° РҝР°СҖРҫРҙРёР№РҪРҫСҒСӮСҢ РҪРҫРІРөллСӢ. РҡажСғСүРөРөСҒСҸ замРөРҙР»РөРҪРёРө СҖазвиСӮРёСҸ СҒСҺР¶РөСӮР° РІ РјРҫРјРөРҪСӮ Р°РәСӮРёРІРҪРҫРіРҫ РІСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёСҸ РіРҫР»РҫСҒР° СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРәР° (В«РҫРұСҖР°СӮРёРјСҒСҸ Рә РјРҫР»РҫРҙРҫРјСғ РҪР°СҲРөРјСғ Р»СҺРұРҫРІРҪРёРәСғВ»; «вРҫР·РІСҖР°СӮРёРјСҒСҸ Рә РҙРҫРұСҖСӢРј РҪРөРҪР°СҖР°РҙРҫРІСҒРәРёРј РҝРҫРјРөСүРёРәам») РҪРөСҒРөСӮ РҪР° СҒРөРұРө РөСүРө Рё С„СғРҪРәСҶРёСҺ СҒРҪРёР¶РөРҪРёСҸ РҙСҖамаСӮРёР·РјР° РҫРҝРёСҒСӢРІР°РөРјРҫРіРҫ РјРҫРјРөРҪСӮР°. РўСҖСғРҙРҪРҫСҒСӮРё Рё РҝСҖРөРҝСҸСӮСҒСӮРІРёСҸ, РІСҒСӮСҖРөСҮР°РөРјСӢРө РіРөСҖРҫСҸРјРё, СҒРҫСҒРөРҙСҒСӮРІСғСҺСӮ СҒ СҮСғРҙРөСҒРҪРҫР№ Р»РөРіРәРҫСҒСӮСҢСҺ «вСҒРөРІРёРҙСҸСүРөРіРҫВ» РҝРҫРІРөСҒСӮРІРҫРІР°СӮРөР»СҸ, РәР°Рә РҝРҫ РјР°РҪРҫРІРөРҪРёСҺ СҖСғРәРё РҝРөСҖРөРҪРҫСҒСҸСүРөРіРҫСҒСҸ РёР· РҫРҙРҪРҫР№ СӮРҫСҮРәРё РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІР° РІ РҙСҖСғРіСғСҺ. Рҳ СҚСӮРҫ вҖ“ РҝСҖРё СҒР»РҫР¶РҪРҫСҒСӮРё РҝСҖРөРҫРҙРҫР»РөРҪРёСҸ РёРјРөРҪРҪРҫ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІР° РңР°СҖСҢРөР№ ГавСҖРёР»РҫРІРҪРҫР№ Рё ВлаРҙРёРјРёСҖРҫРј РІ РјРҫРјРөРҪСӮ СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ-РјРөСӮРөли. РЎРҪРёР¶РөРҪРёСҺ СҖРҫРәРҫРІРҫРіРҫ РҫСҖРөРҫла РІРҫРәСҖСғРі СӮайРҪСӢ РІРөРҪСҮР°РҪРёСҸ СҒРҝРҫСҒРҫРұСҒСӮРІСғРөСӮ Рё РҫСӮРәСҖСӢСӮР°СҸ РёРіСҖР° авСӮРҫСҖР° СҒ СҮРёСӮР°СӮРөР»РөРј РІ СғРјРҫР»СҮР°РҪРёРө. РЎРәазРҫРІР°СҸ РёРҪСӮРҫРҪР°СҶРёСҸ РіРҫР»РҫСҒР° СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРәР° вҖ“ РІ СҒРҫРІРҫРәСғРҝРҪРҫСҒСӮРё СҒ РҙСғРұлиСҖРҫРІР°РҪРёРөРј РҙРөСӮалРөР№ РұСӢСӮР°, РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮРІ, СҒРёСӮСғР°СҶРёР№ РҙРҫ Рё РҝРҫСҒР»Рө РјРөСӮРөли вҖ“ РҝРҫРјРҫРіР°РөСӮ СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҺ РҝР°СҖРҫРҙРёР№РҪРҫР№ РҙРёСҒСӮР°РҪСҶРёРё, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ, РІ СҒРІРҫСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ, РІРәР»СҺСҮР°РөСӮСҒСҸ РІ СҒРҫСҒСӮав В«СҒРөСҖСҢРөР·РҪРҫРіРҫВ» РҝРҫСҚСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РјРёСҖР°. Р’ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө РІРҫР·РҪРёРәР°РөСӮ СӮРөРәСҒСӮ В«РҙРІСғСҒРјСӢСҒР»РөРҪРҪСӢР№ РҝРҫ СҒРІРҫРөР№ РҝСҖРёСҖРҫРҙРө РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҙР»СҸ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәРҫРІ, РҪРҫ Рё РҙР»СҸ РҪСӢРҪРөСҲРҪРөРіРҫ СҮРёСӮР°СӮРөР»СҸВ» (5).
В
РҹСҖРёРІРөРҙРөРј СӮРөРәСҒСӮСғалСҢРҪСӢРө РҝРҫРҙСӮРІРөСҖР¶РҙРөРҪРёСҸ СҚСӮРҫР№ РҙРІСғСҒРјСӢСҒР»РөРҪРҪРҫСҒСӮРё:
В
- В«РҹСҖРөРҙРјРөСӮ, РёР·РұСҖР°РҪРҪСӢР№ РөСҺ, РұСӢР» РұР»РөРҙРҪСӢР№ Р°СҖРјРөР№СҒРәРёР№ РҝСҖР°РҝРҫСҖСүРёРә, РҪахРҫРҙРёРІСҲРёР№СҒСҸ РІ РҫСӮРҝСғСҒРәСғ РІ СҒРІРҫРөР№ РҙРөСҖРөРІРҪРөвҖҰВ».
В
- «РаРҪРөРҪСӢР№ РіСғСҒР°СҖСҒРәРёР№ РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРә Р‘СғСҖРјРёРҪвҖҰРҝСҖРёРөхал РІ РҫСӮРҝСғСҒРә РІ СҒРІРҫРё РҝРҫРјРөСҒСӮСҢСҸ, РҪахРҫРҙРёРІСҲРёРөСҒСҸ РҝРҫ СҒРҫСҒРөРҙСҒСӮРІСғ РҙРөСҖРөРІРҪРё РңР°СҖСҢРё ГавСҖРёР»РҫРІРҪСӢ. РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° РҫСҮРөРҪСҢ РөРіРҫ РҫСӮлиСҮала».
В
В - В«вҖҰ РІРөРҪСҮР°СӮСҢСҒСҸ СӮайРҪРҫ, СҒРәСҖСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё, РұСҖРҫСҒРёСӮСҢСҒСҸ Рә РҪРҫгам СҖРҫРҙРёСӮРөР»РөР№, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РұСғРҙСғСӮ СӮСҖРҫРҪСғСӮСӢ РҪР°РәРҫРҪРөСҶ РіРөСҖРҫРёСҮРөСҒРәРёРј РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪСҒСӮРІРҫРј Рё РҪРөСҒСҮР°СҒСӮРёРөРј Р»СҺРұРҫРІРҪРёРәРҫРІвҖҰВ».
В
- В«вҖҰ РҪРө Р·РҪР°СҺ, РәР°Рә Р·РҫРІСғСӮ РҙРөСҖРөРІРҪСҺ, РіРҙРө СҸ РІРөРҪСҮалСҒСҸвҖҰ РҪРө РёРјРөСҺ РҪР°РҙРөР¶РҙСӢ РҫСӮСӢСҒРәР°СӮСҢ СӮСғ, РҪР°Рҙ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҝРҫРҙСҲСғСӮРёР» СҸ СӮР°Рә Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫвҖҰ Р‘СғСҖРјРёРҪ РҝРҫРұР»РөРҙРҪРөР»вҖҰ Рё РұСҖРҫСҒРёР»СҒСҸ Рә РөРө РҪРҫгамвҖҰВ».
В
- В«РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° РұСӢла РІРҫСҒРҝРёСӮР°РҪР° РҪР° С„СҖР°РҪСҶСғР·СҒРәРёС… СҖРҫРјР°РҪах Рё, СҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ, РұСӢла РІР»СҺРұР»РөРҪР°вҖҰ Р»СҺРұРҫРІРҪРёРәРё РұСӢли РІ РҝРөСҖРөРҝРёСҒРәРө, Рё РІСҒСҸРәРёР№ РҙРөРҪСҢ РІРёРҙалиСҒСҢ РҪР°РөРҙРёРҪРөвҖҰ РәР»СҸлиСҒСҢ РҙСҖСғРі РҙСҖСғРіСғ РІ РІРөСҮРҪРҫР№ Р»СҺРұРІРё, СҒРөСӮРҫвали РҪР° СҒСғРҙСҢРұСғвҖҰВ».
В
- В«РҜ РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РҪРөРҫСҒСӮРҫСҖРҫР¶РҪРҫ, РҝСҖРөРҙаваСҸСҒСҢ РјРёР»РҫР№ РҝСҖРёРІСӢСҮРәРө РІРёРҙРөСӮСҢ Рё СҒР»СӢСҲР°СӮСҢ Р’Р°СҒ РөР¶РөРҙРҪРөРІРҪРҫвҖҰ (РңР°СҖСҢСҸ ГавСҖРёР»РҫРІРҪР° РІСҒРҝРҫРјРҪила РҝРөСҖРІРҫРө РҝРёСҒСҢРјРҫ). РўРөРҝРөСҖСҢ СғР¶ РҝРҫР·РҙРҪРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРёСӮСҢСҒСҸ СҒСғРҙСҢРұРө РјРҫРөР№вҖҰВ».
В
Р”РҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РҫСҮРөРІРёРҙРҪР° СӮР°РәР¶Рө СҒС…РҫРҙРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫСҒСӮавлРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢС… СҒРёСӮСғР°СҶРёР№ Рё РјРҫРјРөРҪСӮРҫРІ РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ РҪРҫРІРөллСӢ.
В
В
В
РҹРөСҖРөРҙ глазами СҮРёСӮР°СӮРөР»СҸ РҙРІРө РёСҒСӮРҫСҖРёРё, РҙРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ РҝРҫС…РҫжиРө РҫРҙРҪР° РҪР° РҙСҖСғРіСғСҺ. РҹСҖРёСҒСӮСғРҝР°СҸ РәРҫ РІСӮРҫСҖРҫР№, СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРә РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ: РҝРҫРҝСҖРҫРұСғРөРј-РәР° РҪР°СҮР°СӮСҢ РІСҒРө СҒРҪР°СҮала. Р§СӮРҫ РјРөСҲалРҫ РҪР°СҲРёРј РіРөСҖРҫСҸРј? РҹСғСҒСӮСҢ Р¶Рө СҚСӮРҫР№ РҝРҫРјРөС…Рё СӮРөРҝРөСҖСҢ РҪРө РұСғРҙРөСӮ. РҡР°Рә-СӮРҫ РІР»СҺРұР»РөРҪРҪСӢРө СҖР°СҒРҝРҫСҖСҸРҙСҸСӮСҒСҸ СҒРІРҫРөР№ СҒСғРҙСҢРұРҫР№, РөСҒли Рё РҫРҪРё СҒСӮР°РҪСғСӮ СҮСғСӮСҢ-СҮСғСӮСҢ РёРҪСӢРјРё... Р’Рҫ РІСӮРҫСҖРҫР№ СҮР°СҒСӮРё РҪРҫРІРөллСӢ РІСҒРө РҝРҫСҮСӮРё СӮР°РәРҫРө Р¶Рө, СҮСӮРҫ Рё РҝСҖРөР¶РҙРө вҖ“ РҪРҫ Рё РҙСҖСғРіРҫРө, РІ СӮРҫРј СҒРјСӢСҒР»Рө, СҮСӮРҫ РҝРөСҖРІР°СҸ СҮР°СҒСӮСҢ вҖ“ СҚСӮРҫ Р°РәСҶРөРҪСӮ РҪР° РҝРҫСҒСӮСғРҝРәах РіРөСҖРҫРөРІ, РҪР° РҝРөСҖРөРјРөСүРөРҪРёРё РІР»СҺРұР»РөРҪРҪСӢС… РІРҫ РІРҪРөСҲРҪРөРј РјРёСҖРө; РІСӮРҫСҖР°СҸ Р¶Рө СҮР°СҒСӮСҢ вҖ“ СҚСӮРҫ Р°РәСҶРөРҪСӮ РҪР° СҖазмСӢСҲР»РөРҪРёРё, СғР·РҪаваРҪРёРё, СҒ РҝСҖРөРҫРұлаРҙР°РҪРёРөРј РҝСҒРёС…РҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫР№ СғСҒСӮР°РҪРҫРІРәРё авСӮРҫСҖР°.
В
Р“РҫРІРҫСҖСҸ Рҫ РҙРІСғСҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё СҒСӮСҖРҫРөРҪРёСҸ В«РңРөСӮРөли», РҫСӮРјРөСӮРёРј, СҮСӮРҫ РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪСҸСҸ СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖР° РәажРҙРҫР№ РёР· СҮР°СҒСӮРөР№ СғРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝРҫР»РҪР°. Рҡ СӮРҫРјСғ Р¶Рө СҚСӮРё СҮР°СҒСӮРё взаимРҪРҫ СҒРёРјРјРөСӮСҖРёСҮРҪСӢ РҝРҫ РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёРё Рё СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢ РјРөР¶РҙСғ СҒРҫРұРҫР№ лиСҖРёСҮРөСҒРәРёРј РҫСӮСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёРөРј СҖР°СҒСҒРәазСҮРёРәР° РҪР° СӮРөРјСғ РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёСҸ РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ РҝРҫРұРөРҙРёСӮРөР»РөР№. РһРұРө СҮР°СҒСӮРё лиСҲРөРҪСӢ СҖазвСҸР·РәРё. РҡСғР»СҢРјРёРҪР°СҶРёСҸ РёСҒСӮРҫСҖРёРё Рҫ РңР°СҖСҢРө ГавСҖРёР»РҫРІРҪРө Рё Р‘СғСҖРјРёРҪРө СҒР»РҫРІРҪРҫ РұСӢ СҒСӮавиСӮ РҪРөРҙРҫСҒСӮР°СҺСүСғСҺ СӮРҫСҮРәСғ РІ СҖР°СҒСҒРәазРө Рҫ СӮайРҪРҫРј РІРөРҪСҮР°РҪРёРё, РІРҫР·РІСҖР°СүР°СҸ РҝРҫСӮРөСҖСҸРҪРҪРҫРө Р·РІРөРҪРҫ РІ РёСҒСӮРҫСҖРёСҺ Рҫ РңР°СҖСҢРө ГавСҖРёР»РҫРІРҪРө Рё ВлаРҙРёРјРёСҖРө. РқРҫ РҪРө РҝСҖРҫСҸСҒРҪСҸРөСӮ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ фиРҪала В«РңРөСӮРөли», РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ РҫСӮРәСҖСӢСӮСӢРј. ТайРҪР° СҒРІСҸР·Рё РҙСғСҲ СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРёС… РҝРҫ-РҝСҖРөР¶РҪРөРјСғ РҪРө РІСӢСҒРәазаРҪР°... В«РңРөСӮРөР»СҢВ» СҸРІР»СҸРөСӮ, СӮР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј, замРөСҮР°СӮРөР»СҢРҪСӢР№ СҒРҝлав-СҒРҝРҫСҖ РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ Рё СҖазмСӢСҲР»РөРҪРёСҸ, РҙР°РҪРҪСӢР№ РІ СҖазвиСӮРёРё РҫСӮ РҝРөСҖРІРҫРіРҫ РәРҫ РІСӮРҫСҖРҫРјСғ, РҝРҫРҙСҮРөСҖРәРҪСғСӮРҫ СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҢСҒСӮРІСғСҸ РІ РҝРҫР»СҢР·Сғ СҖазмСӢСҲР»РөРҪРёСҸ. РҹРҫР·Р¶Рө, Сғ РӣРөСҖРјРҫРҪСӮРҫРІР°, СҚСӮРҫ РҝСҖРҫР·РІСғСҮРёСӮ Р¶РөСҒСӮСҮРө: В«вҖҰРёСҒСӮРҫСҖРёСҸ РҙСғСҲРё СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫР№, С…РҫСӮСҸ РұСӢ СҒамРҫР№ РјРөР»РәРҫР№ РҙСғСҲРё, РөРҙРІР° ли РҪРө Р»СҺРұРҫРҝСӢСӮРҪРөРө Рё РҪРө РҝРҫР»РөР·РҪРөРө РёСҒСӮРҫСҖРёРё СҶРөР»РҫРіРҫ РҪР°СҖРҫРҙР°, РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РәРҫРіРҙР° РҫРҪР° вҖ“ СҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРө РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёР№ СғРјР° Р·СҖРөР»РҫРіРҫ РҪР°Рҙ СҒамим СҒРҫРұРҫСҺ...В». Рҗ РІ В«РңРөСӮРөли» вҖ“ «игСҖР° СҒ РёРҙРөРөР№ Рё РјР°СӮРөСҖиалРҫРј, СҒ РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёРөРј Рё авСӮРҫСҖРҫРј, СҒ РұСӢСӮРҫРј Рё лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРҫР№, СҒРҫ Р·СҖРёСӮРөР»РөРј Рё Р°РәСӮРөСҖРҫРјВ» (6). Р—РҙРөСҒСҢ В«РҙРІРҫР№РҪРҫР№ СғРіРҫР» Р·СҖРөРҪРёСҸ РәР°Рә СҶРөРҪСӮСҖ РәРҫРјРҝРҫР·РёСҶРёРё Рё РҙРІРҫР№РҪРҫР№ СҒРјСӢСҒР»РҫРІРҫР№ РҫСӮСӮРөРҪРҫРә РІСҒРөС… РҙРөСӮалРөР№ РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёСҸВ» (7). РҹР°СҖРҫРҙРёР№РҪСӢР№ РҫСӮСӮРөРҪРҫРә В«РңРөСӮРөли», РёСҖРҫРҪРёСҸ, СҒРјРөС… СғРҪРёСҮСӮРҫжаСҺСӮ В«РҝРёРөСӮРөСӮ РҝРөСҖРөРҙ РҝСҖРөРҙРјРөСӮРҫРј, РҝРөСҖРөРҙ РјРёСҖРҫРјВ», РҝРҫРҙРіРҫСӮавливаСҺСӮ «аРұСҒРҫР»СҺСӮРҪРҫ СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫРө РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёРө РөРіРҫВ» (8). Р’ 1830-С… РіРҫРҙах РҹСғСҲРәРёРҪ В«РҝРөСҖРөСҒСӮСғРҝРёР» СҮРөСҖРөР· РёСҖРҫРҪРёСҺ; РІ РҝСҖРҫР·Рө, РІ В«РңРөРҙРҪРҫРј РІСҒР°РҙРҪРёРәРөВ», РІ РҝРҫР·РҙРҪРөР№ лиСҖРёРәРө РҫРҪ РҪР°СҲРөР» СҒРҝРҫСҒРҫРұ РҝСҖСҸРјРҫРіРҫ СҖР°СҒСҒРјРҫСӮСҖРөРҪРёСҸ РІРөСүРөР№В» (9).
В
* * *
В
РҡРҫР»СҢСҶРҫ РңС‘РұРёСғСҒР° вҖ“ СҚСӮРҫ Р»РөРҪСӮР°, СҒРІРөСҖРҪСғСӮР°СҸ СӮР°Рә, СҮСӮРҫ, РҙРІРёРіР°СҸСҒСҢ РҝРҫ РөРө РІРҪРөСҲРҪРөР№ РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮРё, Рә РәРҫРҪСҶСғ РҫРҙРҪРҫРіРҫ РҫРұРҫСҖРҫСӮР° РјСӢ РҫРәажРөРјСҒСҸ РҪР° РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРөР№ РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮРё РәРҫР»СҢСҶР° вҖ“ РҝРҫРҙ СӮРҫР№ СӮРҫСҮРәРҫР№, СҒ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РјСӢ РҪР°СҮали РҙРІРёР¶РөРҪРёРө. Р•СүРө РҫРҙРёРҪ РҫРұРҫСҖРҫСӮ вҖ“ Рё РјСӢ РҫРҝСҸСӮСҢ РҪР° РІРҪРөСҲРҪРөР№ РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮРё, РІ СҒСӮР°СҖСӮРҫРІРҫР№ СӮРҫСҮРәРө. РЈ СҚСӮРҫРіРҫ РәРҫР»СҢСҶР° РҝР°СҖР°РҙРҫРәСҒалСҢРҪРҫ РҫРҙРҪР° РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮСҢ: РәажРөСӮСҒСҸ лиСҲСҢ, СҮСӮРҫ РҙРІРө вҖ“ РҪРҫ РҫРҙРҪР° РҝРөСҖРөС…РҫРҙРёСӮ РІ РҙСҖСғРіСғСҺ:
В
В
РҹРҫРјРөСӮРёРј СӮРҫСҮРәСғ СҒСӮСӢРәР° РұСғРәРІРҫР№ В«РңВ» Рё СҒРәажРөРј, СҮСӮРҫ СӮР°РәРҫРІР° РҪР°СҲР° РјРҫРҙРөР»СҢ СҖазвиСӮРёСҸ СҒСҺР¶РөСӮР° РҝСғСҲРәРёРҪСҒРәРҫР№ В«РңРөСӮРөли». Рҗ СӮРҫСҮРәР° В«РңВ» вҖҰ
В
РқСғ, РҙР° вҖ“ «вРҙСҖСғРі РҝРҫРҙРҪСҸлаСҒСҢ РјРөСӮРөР»СҢВ»...
В
РӣСҺСӮСӢР№ Р’СҸСҮРөСҒлав ДмиСӮСҖРёРөРІРёСҮ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ РІ 1954 РіРҫРҙСғ РІ РіРҫСҖРҫРҙРө РӣРөРіРҪРёСҶР° РҹРҫР»СҢСҒРәРҫР№ РҪР°СҖРҫРҙРҪРҫР№ СҖРөСҒРҝСғРұлиРәРё.
РһРәРҫРҪСҮРёР» Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶СҒРәРёР№ РҝРҫлиСӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёР№ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ, РӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢР№ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ РёРј. Рҗ.Рң. Р“РҫСҖСҢРәРҫРіРҫ. РЎР»Сғжил РІ Р°СҖРјРёРё, СҖР°РұРҫСӮал СҖР°РҙРёРҫРёРҪР¶РөРҪРөСҖРҫРј, Р·РІСғРәРҫРҫРҝРөСҖР°СӮРҫСҖРҫРј, завРөРҙСғСҺСүРёРј лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮСҢСҺ СӮРөР°СӮСҖР°, РјРөРҪРөРҙР¶РөСҖРҫРј РәРҫРјРјРөСҖСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РұР°РҪРәР°, СҖР°РұРҫСӮал РІ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ СҖРөРҙР°РәСҶРёРё РёР·РҙаваРөРјРҫРіРҫ РІ ЕвСҖРҫРҝРө Р¶СғСҖРҪала В«РҡРҫРҪСӮРёРҪРөРҪСӮВ». Р’ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө РІСҖРөРјСҸ СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ СҮР»РөРҪРҫРј СҖРөРҙР°РәСҶРёРҫРҪРҪРҫР№ РәРҫллРөРіРёРё СҒСӮР°СҖРөР№СҲРөРіРҫ РІСҒРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫРіРҫ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫ-С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ Р¶СғСҖРҪала В«РҹРҫРҙСҠём», РёР·РҙаваРөРјРҫРіРҫ РІ Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶Рө. РӣР°СғСҖРөР°СӮ РҝСҖРөРјРёРё РһРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҹалаСӮСӢ Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶СҒРәРҫР№ РҫРұлаСҒСӮРё «ЖивСӢРө СҒРҫРәСҖРҫРІРёСүР° СҒлавСҸРҪСҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢВ». РӣР°СғСҖРөР°СӮ Р’СҒРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё «РСғСҒСҒРәР°СҸ СҖРөСҮСҢВ». ЧлРөРҪ РЎРҫСҺР·Р° РҝРёСҒР°СӮРөР»РөР№ Р РҫСҒСҒРёРё. Р–РёРІРөСӮ РІ Р’РҫСҖРҫРҪРөР¶Рө.
В
(1) Рң. РҹРҫР»СҸРәРҫРІ. Р’РҫРҝСҖРҫСҒСӢ РҝРҫСҚСӮРёРәРё Рё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҒРөРјР°РҪСӮРёРәРё. Рң., «СРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢВ», 1986. РЎ. 275.
(2) Р‘. РӯР№С…РөРҪРұР°СғРј. Рһ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө. Рң., «СРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢВ», 1987. РЎ. 347.
(3) Рӣ. ГиРҪР·РұСғСҖРі. РҹСғСҲРәРёРҪ Рё РҝСҖРҫРұР»РөРјР° СҖРөализма. вҖ“ Р’ РәРҪ.: Рӣ. ГиРҪР·РұСғСҖРі. РӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖР° РІ РҝРҫРёСҒРәах СҖРөалСҢРҪРҫСҒСӮРё. Рӣ., «СРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢВ», 1987. РЎ. 70.
(4) Р—. РҹР°РҝРөСҖРҪСӢР№. РЎСӮСҖРөР»РәР° РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІР°. Рң., «СРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәВ», 1986. РЎ. 93.
(5) Рң. РҹРҫР»СҸРәРҫРІ. Р’РҫРҝСҖРҫСҒСӢ СҚСҒСӮРөСӮРёРәРё Рё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҒРөРјР°РҪСӮРёРәРё. РЎ. 276.
(6) Рң. РҹРҫР»СҸРәРҫРІ Р’РҫРҝСҖРҫСҒСӢ СҚСҒСӮРөСӮРёРәРё Рё С…СғРҙРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҒРөРјР°РҪСӮРёРәРё. РЎ. 279.
(7) Там Р¶Рө. РЎ. 289.
(8) Рң. БахСӮРёРҪ. РӯРҝРҫСҒ Рё СҖРҫРјР°РҪ. РҰРёСӮ. РҝРҫ: Рң. РҹРҫР»СҸРәРҫРІ, СғРәаз. РёР·Рҙ. РЎ. 290.
(9) Рӣ. ГиРҪР·РұСғСҖРі. РҹСғСҲРәРёРҪ Рё РҝСҖРҫРұР»РөРјР° СҖРөализма. РЎ. 72.