РЎРәРІРҫР·СҢ РҝСҖРҫР·СҖР°СҮРҪСӢР№ РҙРөРҪСҢ. Р Р°СҒСҒРәаз
РЎРәРІРҫР·СҢ РҝСҖРҫР·СҖР°СҮРҪСӢР№ РҙРөРҪСҢ. Р Р°СҒСҒРәаз
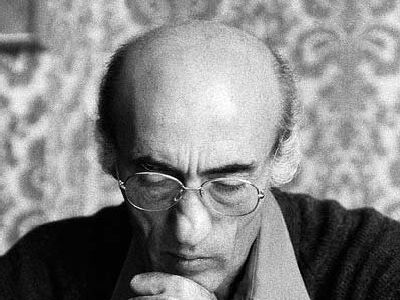
вҖ” РЎРҝР°СҒРёРұРҫ.
В
Рҳ РІРҫСӮ СҸ, РІСӢСҒРҫРәРёР№, РәСҖР°СҒРёРІСӢР№, РІРөСҒСҢ СӮР°РәРҫР№ СғС…РҫР¶РөРҪРҪСӢР№, РҪРөРұСҖРөР¶РҪРҫ СҒСғРҪСғРІ СҖСғРәСғ РІ РәР°СҖРјР°РҪ, РұРөСҖСғ РҙСҖСғРіРҫР№ СӮСҖСғРұРәСғ Рё СҖРҫРҪСҸСҺ РҪР° С„СҖР°РҪСҶСғР·СҒРәРёР№ РјР°РҪРөСҖ вҖңРҗР»РөРҫвҖқ. РЎРҫРұРҫР№ СҸ РҙРҫРІРҫР»РөРҪ: РІСҮРөСҖР°, РјРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ, РёР· РҙРөСҖРөРІРҪРё, РҪРҫ СғСҒРҝРөР» РҪавСҒРөРіРҙР° РёР·РұавиСӮСҢСҒСҸ РҫСӮ СғСҮР°СҒСӮРё РҝР°СҒСӮСғС…Р° вҖ” РјРҪРө РҪРө РҝСҖРёРҙРөСӮСҒСҸ РәРҫСҖСҮРёСӮСҢСҒСҸ РҝРҫРҙ С…Р»РөСҒСӮРәРёРј РіСҖР°РҙРҫРј Рё РјР°СҸСӮСҢСҒСҸ СҒСғСҒСӮавРҪСӢРјРё РұРҫР»СҸРјРё, Сғ РјРөРҪСҸ РәСҖСӢСҲР° РҪР°Рҙ РіРҫР»РҫРІРҫР№, Рё РІРҝРҫР»РҪРө РҪР°РҙРөР¶РҪР°СҸ, СҸ РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫСҮРҪРҫ РҪСғР¶РҪСӢР№ СҮРөР»РҫРІРөРә, СҮСӮРҫРұСӢ РёРјРөСӮСҢ СӮРөР»РөС„РҫРҪ, Рё РҙСҖСғР·СҢСҸ Сғ РјРөРҪСҸ, РәР°Рә РҪР° РҝРҫРҙРұРҫСҖ, Р»СҺРҙРё Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө, СҒСӮалРҫ РұСӢСӮСҢ, Рё СҸ РёР· Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪСӢС…. РҳСӮР°Рә: вҖңРҗР»РөРҫвҖқ.
В
вҖ” РўСӢ РІСҖРҫРҙРө С…РҫСӮРөР» РҝРҫРІРёРҙР°СӮСҢ РҗРҪРё?
В
вҖ” Рӯ, малРҫ ли СҮРөРіРҫ СҸ С…РҫСӮРөР».
В
вҖ” Р•РҙРөРј. РҜ, СӮСӢ, РңРёРҪР°СҒ, СҒРІРҫСҸСҮРөРҪРёСҶР°, РөСүРө РҙРІРҫРө Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖРҫРІ.
В
Р–Р°СҖРәРҫ; СҒРҪРөРіР° РҗСҖР°СҖР°СӮР° РҝРҫРҙРөСҖРҪСғСӮСӢ Р·РҪРҫР№РҪРҫР№ РҙСӢРјРәРҫР№; РҝРҫСҮСӮРё СҒР»СӢСҲРҪРҫ, РәР°Рә РҪаливаРөСӮСҒСҸ СҒлаРҙРәРёРј СҒРҫРәРҫРј РІРёРҪРҫРіСҖР°Рҙ; РіР»РҫСӮРҪРөРј-РәР° РәРҫРҪСҢСҸСҮРәСғ, РіСҖаммРҫРІ РҝРҫ РҝСҸСӮСҢРҙРөСҒСҸСӮ, РҪРө РұРҫР»СҢСҲРө; СҒРІРҫСҸСҮРөРҪРёСҶР° РҪР°РәРёРҙСӢРІР°РөСӮ РҪР° РіРҫР»РҫРІСғ РјРҫРҙРҪСғСҺ РәРҫСҒСӢРҪРәСғ, РҪР°РҪРҫСҒРёСӮ СҒСҖРөРҙСҒСӮРІРҫ РҫСӮ загаСҖР°, РҙСӢРјСҮР°СӮСӢРө РҫСҮРәРё Сғ РҪРөРө РёРјРҝРҫСҖСӮРҪСӢРө Рё РҫСҮРөРҪСҢ, РҫСҮРөРҪСҢ РҪРөРҙСғСҖРҪСӢ; РҙР°, РҝРҫжалСғР№, РҝРҫСҖР° РҝРёСӮСҢ РәРҫС„Рө. вҖңРӯСӮРҫСӮ СҒамСӢР№ ГаСҖСҒРёР° РӣРҫСҖРәР° вҖ” РІ СҒСғСүРҪРҫСҒСӮРё, РёСҒРҝР°РҪСҒРәРёР№ РІР°СҖРёР°РҪСӮ РҪР°СҲРөРіРҫ РҳСҒааРәСҸРҪР°вҖқ. вҖ” вҖңДа, РҝРҫСҚР·РёСҸ Сғ РҪР°СҒ РёР·СғРјРёСӮРөР»СҢРҪР°СҸвҖқ.
В
вҖ” РўСӢ СҮРөРіРҫ СғР»СӢРұР°РөСҲСҢСҒСҸ?
В
вҖ” РңРҫРө РҙРөР»Рҫ.
В
вҖ” РЎРәажи, РјСӢ СӮРҫР¶Рө РҝРҫСҒРјРөРөРјСҒСҸ.
В
вҖ” РазвРө СҚСӮРҫ РҫРұСҠСҸСҒРҪРёСҲСҢ...
В
РңРҪРө РҪРө РҪР°РҙРҫ СғРҝСҖавлСҸСӮСҢСҒСҸ СҒ Р°СҖРұРҫР№, Рё РјРҫР№ РІРҫР» РҪРө СҒР»РҫРјР°РөСӮ РҪРҫРіСғ РҪР° СӮСҖРҫРҝРёРҪРәах РҙалСҢРҪРёС… РҙРҫСҖРҫРі, Рё РұСҖРёРіР°РҙРёСҖ РҪРө СҒСӮР°РҪРөСӮ СҖР°СҒРҝРөРәР°СӮСҢ РјРөРҪСҸ, Рё РІРјРөСҒСӮРҫ СӮР°РәРҫРіРҫ РҙалРөРәРҫРіРҫ, РҪРөСҖРөалСҢРҪРҫРіРҫ РҝСҖРөР¶РҙРө СҒР»РҫРІР° вҖңР°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖвҖқ СҸ РёРјРөСҺ РҙРөР»Рҫ СҒ СҖРөалСҢРҪСӢРјРё Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖами; Сғ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәР° РңРёРҪР°СҒР° РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝРҫР»РҫСӮРҪР° РҫСҮРөРҪСҢ С…РҫСҖРҫСҲРё, Р° РәРҫРө-СҮСӮРҫ СҸ РҪРө РҝСҖРёРҪРёРјР°СҺ; РәРҫРіРҙР° РіРҫРІРҫСҖРёСҲСҢ СҒ С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРј РңРёРҪР°СҒРҫРј, РІСҒСҸ РјРёСҖРҫРІР°СҸ РәСғР»СҢСӮСғСҖР° РәР°Рә РұСӢ РҝРөСҖРөливаРөСӮСҒСҸ РІ РҪР°СҲ СҸР·СӢРә РІ Р»СғСҮСҲРёС… СҒРІРҫРёС… РҝСҖРҫСҸРІР»РөРҪРёСҸС…. Р•СҒСӮСҢ РҪР° СҒРІРөСӮРө РЎРөР·Р°РҪРҪ, РөСҒСӮСҢ РңР°РҪРө, РІСҖРҫРҙРө РөСҒСӮСҢ РөСүРө Рё РңРҫРҪРө; РјРҪРө РұСӢ РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРҫ РҝСҖРҫ РіСҖР°Рұли или РұРҫСҖРҫРҪСғ, Р° СҸ вҖ” РҝСҖРҫ РЎРөР·Р°РҪРҪР°, РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРҫ РҝСҖРҫ СҒСӢСҖРҫРјСҸСӮРҪСӢРө СҲРәСғСҖСӢ, Р° СҸ вҖ” вҖңСҮСӮРҫ СҚСӮРҫ Р·Р° СҮРөС…Рё РұСӢли РІСҮРөСҖР° Сғ СӮРөРұСҸ РІ РјР°СҒСӮРөСҖСҒРәРҫР№?вҖқ; РәСҖРёРә вҖңР’РҫР»РәРё!вҖқ, СӮСҖРөРІРҫРіР° СҒСӮРҫСҖРҫР¶РөРІСӢС… РҝСҒРҫРІ Рё РҝР°СҒСӮСғС…Р° РІ РөРіРҫ СӮРөРјРҪРҫР№ РҝалаСӮРәРө вҖ” РІСҒРө СҚСӮРҫ РҙР»СҸ РјРөРҪСҸ РҙалСҢРҪРёР№ Рё РҙавРҪРёР№ СҒРҫРҪ, Р° РҝСҖРөРҙСҒРәазаРҪРёРө РҙРҫР¶РҙСҸ РҝРҫ Р»РҫРјРҫСӮРө РІ РәРҫСҒСӮСҸС… вҖ” РҝРҫСҚСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РІСӢРјСӢСҒРөР», РјРёС„, РІСҖРҫРҙРө РәР°Рә СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСӢРө СӮСғСҮРё СҒР°СҖР°РҪСҮРё РҙР»СҸ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸСҲРҪРөРіРҫ РәСҖРөСҒСӮСҢСҸРҪРёРҪР°. РқРөРәР°СҸ РҪР° РҙРёРІРҫ Р·Р°РұРҫСӮливаСҸ СҖСғРәР° РҝРҫРҙС…РІР°СӮила РјРөРҪСҸ РІ РҝРҫР»Рө Рё РҝРөСҖРөРҪРөСҒла РІ РіРҫСҖРҫРҙ, РІ РјСҸРіРәРҫРө РәСҖРөСҒР»Рҫ. Рҳ РҫСӮ СҖР°РҙРҫСҒСӮРё, СҮСӮРҫ СҒамРҫРјСғ РұРҫР»СҢСҲРө РәРҫСҒРёСӮСҢ РҪРө РҪР°РҙРҫ, СҸ РҪРө РҝСҖРҫСҮСҢ Рё РҝРҫРәСҖРёСӮРёРәРҫРІР°СӮСҢ СҚСӮРёС… СҒамСӢС… РәРҫСҒР°СҖРөР№. Да Рё РҝР°СҒСӮСғС…РҫРІ. Рҳ РҪР°СҮалСҢСҒСӮРІРҫ. Рҳ, СҒРәажРөРј, РңР°Рҫ РҰР·СҚРҙСғРҪР°. вҖңРӯСӮРҫСӮ РјРҫСҒСӮ, вҖ” РёР·СҖРөРә РңР°Рҫ, вҖ” СҒРҫРөРҙРёРҪСҸРөСӮ РҫРҙРёРҪ РұРөСҖРөРі СҖРөРәРё СҒ РҙСҖСғРіРёРјвҖқ, вҖ” Рё СҒР»РҫРІР° РөРіРҫ РІСӢСҒРөРәли РҪР° РјРҫСҒСӮСғ Р·РҫР»РҫСӮСӢРјРё РұСғРәвами. Рҳ РІРҫСӮ СҸ, СҒСӢРҪ РҝР°СҒСӮСғС…Р°, СҒам СҮСғРҙРҫРј РҪРө РҝР°СҒСӮСғС…, РёСҖРҫРҪРёСҮРөСҒРәРё РҝРҫСҒРјРөРёРІР°СҺСҒСҢ, РІСҒРҝРҫРјРёРҪР°СҸ Рҫ РәРёСӮайСҒРәРҫРј РұРҫР¶РәРө. РҜ, РәСҖРөСҒСӮСҢСҸРҪРёРҪ Рё СҒСӢРҪ РәСҖРөСҒСӮСҢСҸРҪРёРҪР°, РҙавРҪРҫ РҫСҒРІРҫРёР» Р°СҒфалСҢСӮ Рё СғР¶Рө РҝРҫлагаСҺ, СҮСӮРҫ РҪР° Р°СҒфалСҢСӮРө РҪРө РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ СғС…Р°РұРҫРІ. РңРҫРё Рё СҚСӮР° вҖңР’РҫлгавҖқ, Рё СҒСӮРҫРәРёР»РҫРјРөСӮСҖРҫРІР°СҸ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢ, Рё СҚСӮР° РјРҫРҙРҪР°СҸ РәРҫСҒСӢРҪРәР°, Рё СӮРөСҖРјРҫСҒ СҒ СҶРІРөСӮРәРҫРј, Рё РәРҫС„Рө РІ СӮРөСҖРјРҫСҒРө, Рё РёСҒСӮРҫРјР° РІСӢРҪР°СҲРёРІР°СҺСүРёС… РҝР»РҫРҙСӢ СҒР°РҙРҫРІ, Рё СҚСӮРё СҒРөла, РҪРө РҫСӮлиСҮРёРјСӢРө РҫСӮ РіРҫСҖРҫРҙРҫРІ, Рё СҒР»РҫРІРҪРҫ СҒРҫСҲРөРҙСҲРёР№ СҒ РәР°СҖСӮРёРҪСӢ РҗСҖагаСҶ, Рё СҖРҫРҙРҪРёРә Сғ РҙРҫСҖРҫРіРё, Рё СҒСӮР°СҖРёРҪРҪСӢР№ РҝРҫСҒСӮРҫСҸР»СӢР№ РҙРІРҫСҖ, Рё СҒСӮР°РҙР° РҪР° СҒРәР»РҫРҪах, РҝРҫС…РҫжиРө РҪР° РҫРұлаРәР°, Рё РІРөСҺСүР°СҸ Р°СҖРҫРјР°СӮРҫРј СҶРІРөСӮРҫРІ РҝСҖРҫхлаРҙР°. Рҳ РјРҫСҖРө РҪРёРІ, Рё РіРҫСҖРҫРҙ Р“СҺРјСҖРё. Рҳ СҖСғСҒСҒРәРёР№ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РҝРҫРіСҖР°РҪРёСҮРҪРёРәРҫРІ, СҖРҫРҙРҫРј РёР· Р РҫСҒСӮРҫРІР°, Рё РөРіРҫ СҒРҙРөСҖжаРҪРҪР°СҸ РҝСҖРөРҙСғРҝСҖРөРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ: РҙР°, РҫРҪ РҝСҖРҫРІРөРҙРөСӮ РҪР°СҒ Рә СҒамРҫР№ РіСҖР°РҪРёСҶРө. Рҳ РҫСүСғСүРөРҪРёРө, СҮСӮРҫ РјРҫСҸ СҒСӮСҖР°РҪР° РҪР°СҮРёРҪР°РөСӮСҒСҸ СҒ СҚСӮРёС… РҙРІСғС… РҗСҖР°СҖР°СӮРҫРІ Рё РҝСҖРҫСҒСӮРёСҖР°РөСӮСҒСҸ РҙРҫ Р§СғРәРҫСӮРәРё. Рҳ СҸ РҝРҫСҖРҫСҺ РҪРө СҖазлиСҮР°СҺ РЁРёСҖР°Рә Рё РҡСғРұР°РҪСҢ, РәР°Рә СҖСғСҒСҒРәРёР№ вҖ” РІРёРҪРҫРіСҖР°Рҙ РҡСҖСӢРјР° Рё РІРёРҪРҫРіСҖР°Рҙ РҗСҖР°СҖР°СӮСҒРәРҫР№ РҙРҫлиРҪСӢ.
В
Рҳ РІРҫСӮ, СӮР°РәРҫР№ СҒСҮР°СҒСӮливСӢР№ Рё СӮР°РәРҫР№ СҒРёР»СҢРҪСӢР№, СҒСӮРҫСҺ СҒСҖРөРҙРё СҒРІРҫРёС… РҙСҖСғР·РөР№, СӮР°РәРёС… Р¶Рө СҒСҮР°СҒСӮливСӢС… Рё СҒРёР»СҢРҪСӢС…, РҪР° СҒРјРҫСӮСҖРҫРІРҫР№ РІСӢСҲРәРө, Сғ РҝРҫРҙР·РҫСҖРҪРҫР№ СӮСҖСғРұСӢ, Рё РҝСҖРөРҙРҫ РјРҪРҫР№ СҒСҖРөРҙРё Р·РөР»РөРҪРҫРіРҫ Р·Р°РҝСғСҒСӮРөРҪРёСҸ РәРҫР»СӢСҲСғСӮСҒСҸ РІ СҒСӮСҖСғСҸСүРөРјСҒСҸ РІРҫР·РҙСғС…Рө РҫРұРөзглавлРөРҪРҪСӢРө СӮРІРҫСҖРөРҪРёСҸ, РҝСҖРөР¶РҙРө РІРҫР·РҪРөСҒРөРҪРҪСӢРө Рә РҪРөРұСғ. Р’ РәРёРҪРҫ СҒР»СғСҮалРҫСҒСҢ РІРёРҙРөСӮСҢ Рё РҝРҫР»СғСҮСҲРө, РҙР° Рё СҖазглСҸРҙРөСӮСҢ РҝРҫРҙРөСӮалСҢРҪРөРө. Рҳ Р•СҖРөРІР°РҪ СҒСӮРҫРёСӮ РҪРө РҫРҙРҪРҫРіРҫ, Р° СҒРөРјРё РҗРҪРё, Р° СҸ СӮРөРҝРөСҖСҢ вҖ” жиСӮРөР»СҢ Р•СҖРөРІР°РҪР°.
В
вҖ” РўР°Рә СҮРөРіРҫ Р¶Рө СӮСӢ РҝлаСҮРөСҲСҢ?
В
РЈ РҪР°СҒ РІ РіРҫСҖах РұСӢли СӮСғСҖРөСҶРәРёРө РәРҫСҮРөРІСҢСҸ. РўСғСҖРәРё РҝРҫРҙРҪималиСҒСҢ РёР· СҒРІРҫРёС… Р¶РөР»СӮСӢС… РҙРҫлиРҪ, лиСҶР° РёС… РҪР° РіРҫСҖРҪРҫРј СҒРҫР»РҪСҶРө РұСғСҖРөли, РҫРұРІРөСӮСҖивалиСҒСҢ, РҙажРө СҖР°СҒСӮСҖРөСҒРәивалиСҒСҢ, СҒР»РҫРІРҪРҫ РәРҫР¶СғСҖР° РіСҖР°РҪР°СӮР°, Р° РҫСҒРөРҪСҢСҺ РҝСҖРёСҲРөР»СҢСҶСӢ СҒРҪРҫРІР° РҪагСҖСғжали СҒРІРҫР№ СҒРәР°СҖРұ РҪР° РІРҫР»РҫРІ Рё вҖ” С…РҫРҝ-С…РҫРҝ-С…РҫРҝ! вҖ” РІРҫР·РІСҖР°СүалиСҒСҢ РҫРұСҖР°СӮРҪРҫ Рә СҒРөРұРө, РІ Р¶РөР»СӮСӢРө РҙРҫлиРҪСӢ.
В
Рҳ РІРҫСӮ РјСӢ вҖ” РҙСҸРҙСҸ РјРҫР№, СҒСӮР°СҖСҲРёР№ РұСҖР°СӮ РҫСӮСҶР°, Рё СҸ вҖ” РҝРҫРөхали Рә РҪРёРј РҝРҫРәСғРҝР°СӮСҢ СӮРҫРҝР»РөРҪРҫРө РјР°СҒР»Рҫ. Р’РҝРөСҖРІСӢРө СғСҒР»СӢСҲал СҸ СҮСғР¶СғСҺ СҖРөСҮСҢ, Рё РјРҪРө СҒСӮалРҫ СҒСӮСҖР°СҲРҪРҫ. Рҳ РөСүРө РёС… РҙРөСӮРё... СӮР°Рә Рё РІСҢСҺСӮСҒСҸ РІРҫРәСҖСғРі, РіРҫСҖлаРҪСҸСӮ, СҒРәРІРөСҖРҪРҫСҒР»РҫРІСҸСӮ, РҫСӮРІРөСҖРҪРөСҲСҢСҒСҸ вҖ” РҪРҫСҖРҫРІСҸСӮ РҙР°СӮСҢ СӮСӢСҮРәР°, РҝРҫРІРөСҖРҪРөСҲСҢСҒСҸ вҖ” СғР»СӢРұР°СҺСӮСҒСҸ; РҙСҢСҸРІРҫР»СҢСҒРәРҫРө РҫСӮСҖРҫРҙСҢРө, РҫРҙРҪРҫ СҒР»РҫРІРҫ; Рё глаза РұРөР·РҙСғРјРҪСӢРө, РҝСғСҒСӮСӢРө. ДваРҙСҶР°СӮСҢ Р»РөСӮ СҒРҝСғСҒСӮСҸ СҸ СғРІРёРҙРөР» РёС… РөСүРө СҖаз, СғР¶Рө РІРҫ СҒРҪРө: РұСғРҙСӮРҫ СҚСӮРҫ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢ РҡР°СҖРёРҪ, глиРҪРҫРұРёСӮРҪСӢРө СҒСӮРөРҪСӢ Рё СӮРө РҙРөСӮРё... Рё РјРҪРө вҖ” СӮСҖРёРҙСҶР°СӮРёР»РөСӮРҪРөРјСғ, РІРҫ СҒРҪРө вҖ” СҒРҪРҫРІР° СҒСӮалРҫ СҒСӮСҖР°СҲРҪРҫ.
В
Рҳ СҒСҖРөРҙРё СҚСӮРёС… малСҢСҮРёСҲРөРә РұСӢР» РҫРҙРёРҪ вҖ” РҫРҪ СҒРёРҙРөР», РҫРұС…РІР°СӮРёРІ РәРҫР»РөРҪРё, Рё РұРҫР»СҢСҲРёРјРё, РәР°РәРёРјРё-СӮРҫ РҫСӮСҖРөСҲРөРҪРҪСӢРјРё глазами СҒРјРҫСӮСҖРөР» СӮРҫ ли РҪР° РҪР°СҒ, СӮРҫ ли СҒРәРІРҫР·СҢ РҪР°СҒ. Р–РөРҪСүРёРҪР° РҫРәлиРәРҪСғла РөРіРҫ; РҫРҪ СҒРҙРөлал РҙРІРёР¶РөРҪРёРө, РұСғРҙСӮРҫ РІСҒСӮР°РөСӮ, РІСҖРҫРҙРө РҙажРө Рё РҝРҫСҲРөР» РҪР° Р·РҫРІ, РҪРҫ Р¶РөРҪСүРёРҪР° РҫРәлиРәРҪСғла РөСүРө СҖаз вҖ” СҒСӮалРҫ РұСӢСӮСҢ, РІСҒРө-СӮР°РәРё РҪРө РҝРҫСҲРөР». РҡРҫР»СӢС…Р°СҸ СҺРұРәами, РҫРҪР° РҝРҫРҙРҫСҲла, СҮСӮРҫРұСӢ РІР·РҙСғСӮСҢ РөРіРҫ. РңалРөСҶ РІСҒРәРҫСҮРёР», РҙажРө РІСҖРҫРҙРө РҫСӮРұРөжал СҲага РҪР° РҙРІР°, РҪРҫ РҝРҫСӮРҫРј СӮРҫ ли Р»РөРҪСҢ РөРјСғ СҒСӮалРҫ, СӮРҫ ли Р·Р°РұСӢР», СҮСӮРҫ СҒРҫРұРёСҖалСҒСҸ СғРҙСҖР°СӮСҢ.
В
Р”СҸРҙСҸ РјРҫР№, Р»СӢСҒРөСҺСүРёР№, РіРҫСҖРұРҫРҪРҫСҒСӢР№, СҒ СӮСҖРөСғРіРҫР»СҢРҪСӢРјРё глазами, СӮРҫСҖРіРҫвалСҒСҸ азаСҖСӮРҪРҫ: СҶРөРҪР° РөРіРҫ вҖ” РҪРөСӮ! вҖ” РҪСғ РҪРёРәР°Рә РҪРө СғСҒСӮСҖаивала; РІСҖРҫРҙРө СҖазРҫРұРёР¶РөРҪРҪСӢР№ РёС… СҒРәР°СҖРөРҙРҪРҫСҒСӮСҢСҺ, РҫРҪ РҝРҫСҖСӢвалСҒСҸ СғР№СӮРё Рё, РұСғРҙСӮРҫ СҚСӮРҫ СғР¶Рө РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөРө СҒР»РҫРІРҫ, РіРҫРІРҫСҖРёР» Рё РјРҪРө: вҖңР’СҒСӮавай, РҝРҫСҲли РҫСӮСҒСҺРҙР°вҖқ, Р° СҒам РҝРҫРҙмигивал. Р”СҸРҙСҸ РөСүРө РҙРҫРјР° РҝРҫхвалСҸР»СҒСҸ РҪР°СҲРёРј, Р° РҝРҫ РҙРҫСҖРҫРіРө Рё РјРҪРө СӮРҫР¶Рө: вҖңРЈРІРёРҙРёСӮРө, РәР°Рә РҙСҸРҙСҺСҲРәР° РІР°СҲ СӮСғСҖРҫРә РҫРұСҒСӮавиСӮвҖқ, Рё СӮРөРҝРөСҖСҢ РҙРҫРәазСӢвал РјРҪРө, РҙР° Рё СҒамРҫРјСғ СҒРөРұРө, СҮСӮРҫ РҙРөР»Рҫ РҪР° мази. РўСғСҖРәРё Рё РІРҝСҖСҸРјСҢ СҒРәР»РҫРҪСҸлиСҒСҢ Рә РҙСҸРҙРёРҪРҫР№ СҶРөРҪРө, РҪРҫ СӮСғСӮ РҫРҪ СҒам вҖ” СӮРҫ ли Р»РөРҪСҢ СҒСӮалРҫ СӮРҫСҖРіРҫРІР°СӮСҢСҒСҸ, СӮРҫ ли Р·Р°РұСӢР», СҮСӮРҫ СҒРҫРұРёСҖалСҒСҸ РёС… РҫРұСҒСӮавиСӮСҢ: вҖңРӣР°РҙРҪРҫ, РҙавайСӮРө Р·Р° СҒРәРҫР»СҢРәРҫ С…РҫСӮРёСӮРөвҖқ. РқСғ, РҫРҪРё Рё РҝСҖРҫРҙали Р·Р° СҒРәРҫР»СҢРәРҫ С…РҫСӮРөли, РҙР° РөСүРө Рё РҝРҫРҙРјРөСҲали жиСҖСғ СҒРәРҫР»СҢРәРҫ С…РҫСӮРөли (РҫСӮ РҪРөРІРөСҒСӮРҫРә РҙСҸРҙРө Р·Р° СҚСӮРҫ РҙРҫРјР° РҙРҫСҒСӮалРҫСҒСҢ РҫСҒРҫРұРҫ), РҪРҫ РөРјСғ СғР¶Рө РұСӢР»Рҫ РҪРө РҙРҫ СҚСӮРҫРіРҫ, РҫРҪ РұСӢР» РҝРҫРіР»РҫСүРөРҪ РҙСҖСғРіРёРј: РҙСҸРҙСҸ замРөСӮРёР» СӮРҫРіРҫ малСҢСҮРёСҲРәСғ, СҒРёРҙРөРІСҲРөРіРҫ, РҫРұС…РІР°СӮРёРІ РәРҫР»РөРҪРё. Р—Р°РұСӢР» РҝСҖРҫ РІРөСҒСӢ, Р·Р°РұСӢР» РҝСҖРҫ РҙРөР»Рҫ вҖ” Рё РҫРәлиРәРҪСғР» РөРіРҫ:
В
вҖ” РҹРҫРҙРё СҒСҺРҙР°, Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРёР№ СҒСӢРҪ.
В
РҹСҖРёСҒР»СғСҲРёРІР°СҸСҒСҢ Рә РІРөСҮРөСҖРҪРёРј Р·РІСғРәам Рё СҲРҫСҖРҫхам, СҖРөРұРөРҪРҫРә СҒРјРҫСӮСҖРөР» РІ СҒСғРјРөСҖРәРё СғСүРөлий СҲРёСҖРҫРәРҫ СҖР°СҒРҝахРҪСғСӮСӢРјРё, СҮСғСӮСҢ РәРҫСҒСҸСүРёРјРё глазами; СҒРёРҙРөР», РҪРөРҝРҫРҙРІРёР¶РҪСӢР№ Рё РұРөР·СғСҮР°СҒСӮРҪСӢР№.
В
вҖ” РһРҪ СҮСӮРҫ, РҪРө Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРҫР№ РәСҖРҫРІРё? вҖ” СҒРјРөСҲалСҒСҸ РҙСҸРҙСҸ.
В
вҖ” РҗСҖРјСҸРҪСҒРәРҫР№, Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРҫР№, вҖ” РҫСӮРІРөСӮили РөРјСғ. вҖ” Р—Р° РјР°СҒР»РҫРј СҒРІРҫРёРј РҝСҖРёРіР»СҸРҙСӢвай, Р° СӮРҫ СҒРәажРөСҲСҢ РҝРҫСӮРҫРј, СҮСӮРҫ РҫРұРјР°РҪСғли.
В
вҖ” РўРҫ-СӮРҫ! вҖ” РіРҫСҖРҙРҫ СҒРәазал РҙСҸРҙСҸ. вҖ” РҳР· СӮСӢСҒСҸСҮРё СҖРҫРҙРҪСғСҺ РәСҖРҫРІСҢ СғР·РҪР°СҺ.
В
РңалСҢСҮРёСҲРәР° СӮРөРј РІСҖРөРјРөРҪРөРј РІР·СҸР» С…РІРҫСҖРҫСҒСӮРёРҪСғ Рё РҪР°СҮал РҪахлРөСҒСӮСӢРІР°СӮСҢ РұСӢРәР°. РЎСӮРөгал РҝРҫ РјРҫСҖРҙРө, РҝРҫ глазам, РҝРҫ РҪРҫгам, РҝСҖавРҙР°, РІСҖСҸРҙ ли РҝСҖРёСҮРёРҪСҸСҸ РҫСҒРҫРұСғСҺ РұРҫР»СҢ. РЎРҙРөлай РұСӢРә СӮРҫР»СҢРәРҫ СҲаг РІРҝРөСҖРөРҙ вҖ” РІ Р·РөРјР»СҺ РұСӢ РІСӮРҫРҝСӮал РәРҫР·СҸРІРәСғ; РҪРҫ малСҢСҮРёСҲРәР° РҝРҫРҙР»РөР· РҝРҫРҙ РјРҫСҖРҙСғ Рё СӮР°Рә Рё Рҫхаживал РөРіРҫ, СӮРҫСҖРҫРҝливРҫ, СҒРөСҖРҙРёСӮРҫ, РҝР°РҙР°СҸ Рё СӮСғСӮ Р¶Рө РІСҒРәР°РәРёРІР°СҸ, РҪРҫ РәР°Рә-СӮРҫ РҪРөСҖРҫРІРҪРҫ, СҒР»РҫРІРҪРҫ РәажРҙСғСҺ РјРёРҪСғСӮСғ СҒам жалРөРөСӮ, СҮСӮРҫ РұСҢРөСӮ. Р‘СӢРә РҝРҫРІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ Рё РҝСғСҒСӮРёР»СҒСҸ РҪР°СғСӮРөРә, РҙСҖСғРіРёРө малСҢСҮРёСҲРәРё, Р° Р·Р° РҪРёРјРё Рё СҒРҫРұР°РәРё РәРёРҪСғлиСҒСҢ РІРҙРҫРіРҫРҪРәСғ, Р° СҚСӮРҫСӮ РҫРҝСҸСӮСҢ СҒРөР», РҫРұС…РІР°СӮРёР» СҖСғРәами РәРҫР»РөРҪРё Рё Р·Р°СҒСӮСӢР», РҪРө РҫСӮРІРҫРҙСҸ глаз РҫСӮ СғСүРөлий, СғР¶Рө РҪалиСӮСӢС… СӮСҢРјРҫР№.
В
вҖ” РЎСҖРөРҙРё СӮСӢСҒСҸСҮРё СҒРІРҫСҺ РәСҖРҫРІСҢ СҖР°СҒРҝРҫР·РҪР°СҺ, вҖ” РҫРҝСҸСӮСҢ РҝСҖРҫРұРҫСҖРјРҫСӮал РҙСҸРҙСҸ, СҒР»РҫРІРҪРҫ СҚСӮРҫ РҪРөРІРөСҒСӮСҢ РәР°РәРҫРө РұРҫР»СҢСҲРҫРө РҙРөР»Рҫ. вҖ” РҳР· СӮСӢСҒСҸСҮРё РҫСӮлиСҮСғ, вҖ” РҝРҫРҙРІРөР» РҫРҪ РёСӮРҫРі, СғСҒСӮСҖаиваСҸ РјРөРҪСҸ РІ СҒРөРҙР»Рө, РҝРҫСҒСҖРөРҙРё РҝРҫРәлажи.
В
Р’ СӮРө СғР¶Рө РҙалРөРәРёРө РіРҫРҙСӢ РҫРҙРёРҪ СҮРөР»РҫРІРөРә, С…РҫСҖРҫСҲРҫ РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ РІ Р—Р°РҪРіРөР·СғСҖРө вҖ” СҒам РұРёСӮСӢР№-РҝРөСҖРөРұРёСӮСӢР№ Рё РҙСҖСғРіРёС… РҪРө СҖаз РұРёРІСҲРёР№ Рё РІ Р“СҖажРҙР°РҪСҒРәСғСҺ РІРҫР№РҪСғ, Рё РІ РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢС… СҒСӮСӢСҮРәах, вҖ” С…РҫСӮСҢ Рё РұСӢР» РІСҒРөРіРҙР° РІ СҶРөРҪСӮСҖРө СҒРҫРұСӢСӮРёР№, СҖазРҫРұСҖР°СӮСҢСҒСҸ РІ РҪРёС… СӮРҫР»РәРҫРј СӮР°Рә Рё РҪРө СҒСғРјРөР», РҝРөСҖРөСҲРөР» РІ РәРҫРҪСҶРө РәРҫРҪСҶРҫРІ РҗСҖР°РәСҒ Рё РҝРҫРҙалСҒСҸ РІ ТавСҖРёР·. Р’ ТавСҖРёР·Рө РҫСҒРөР», Р·Р°РҪСҸР»СҒСҸ СӮРҫСҖРіРҫРІР»РөР№; РҝРҫРәРҫР№ Рё РҙРҫСҒСӮР°СӮРҫРә СғРұР°СҺРәРёРІР°СҺСӮ, Рё Р·Р°Рҝах РҝРҫСҖРҫС…РҫРІРҫР№ РіР°СҖРё СӮР°Рә Р¶Рө СҒСӮРёСҖР°РөСӮСҒСҸ РёР· РҫРұРҫРҪСҸРҪРёСҸ, РәР°Рә СҒР»РөРҙСӢ РІСҮРөСҖР°СҲРҪРөР№ СҒСӮСғжи или Р·РҪРҫСҸ РҪР° СӮСҖРҫРҝРёРҪРәах РҝамСҸСӮРё. Р’РҫСӮ РјРҫРё РІРҫСҖРҫСӮР°, РІРҫСӮ РјРҫР№ РҙРҫРј, РІРҫСӮ РјРҫСҸ РјСҸРіРәР°СҸ РҝРҫРҙСғСҲРәР°, РІРҫСӮ РјРҫРё Р¶РөРҪР° Рё РҙРөСӮРё вҖ” Рё РІСҒРө.
В
вҖ” РқСғ, Р° РҗСҖРјРөРҪРёСҸ РөСҒСӮСҢ РөСүРө или РәР°Рә? РһРҪР°-СӮРҫ РҪР° РјРөСҒСӮРө?
В
РҗСҖРјРөРҪРёСҸ РұСӢла, РҙажРө РҫРұСҸР·Р°РҪР° РұСӢла РұСӢСӮСҢ, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ СҒСӢРҪР° РөРіРҫ СғРіРҫСҖазРҙРёР»Рҫ Р·Р°РұРҫР»РөСӮСҢ РҪРҫСҒСӮалСҢРіРёРөР№ вҖ” СӮРҫСҒРәРҫР№ РҝРҫ СҖРҫРҙРёРҪРө. Р‘РҫР¶Рө РҝСҖавСӢР№... РҪР° СҒРІРөСӮРө СӮСӢСҒСҸСҮРё С…РІРҫСҖРөР№ вҖ” РҪРҫ РІРөРҙСҢ Рё СӮСӢСҒСҸСҮРё Р»РөРәР°СҖСҒСӮРІ РҫСӮ РҪРёС…, Р° СҚСӮРҫСӮ РҝР°СҖСҲРёРІРөСҶ СғС…РёСӮСҖРёР»СҒСҸ РҝРҫРҙС…РІР°СӮРёСӮСҢ РҪРҫСҒСӮалСҢРіРёСҺ. Р”РҫРәСӮРҫСҖ СҒРәазал, СҚСӮРҫ, РјРҫР», РұРҫР»РөР·РҪСҢ живРҫСӮРҪСӢС…, Р° РҪРө СҮРөР»РҫРІРөРәР°: РҝРөСҖСҒРёРҙСҒРәРёР№ СӮРёРіСҖ, Рә РҝСҖРёРјРөСҖСғ, РҪРө РІСӢживРөСӮ РІ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё или РөСүРө РіРҙРө; РҝСҖРҫРҝРёСҒал Р»РөРәР°СҖСҒСӮРІР°, РҪРҫ РҙРҫРұавил, СҮСӮРҫ РҝСҖРҫРәСғ РҫСӮ РҪРёС… РҪРө РұСғРҙРөСӮ: СҖРөРұРөРҪРәР° РёР·Р»РөСҮРёСӮ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҖРҫРҙРёРҪР°.
В
вҖ” Р“РҙРө РҫРҪ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ?
В
вҖ” Р’ СҚСӮРҫРј, РәР°Рә РөРіРҫ... Р—Р°РҪРіРөР·СғСҖ, СҮСӮРҫ ли... Р’ РҡафаРҪРө.
В
вҖ” Рҗ РіРҙРө СҚСӮРҫ?
В
вҖ” Р—Р° СҖРөРәРҫР№... РәР°Рә РөРө... РҗСҖР°РәСҒ. РҹРҫ СӮСғ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ. Р’ Р РҫСҒСҒРёРё, СҒР»РҫРІРҫРј.
В
вҖ” РқРө Р·РҪР°СҺ, вҖ” СҒРәазал РІСҖР°СҮ. вҖ” РқРҫ РөСҒли СҖРөРұРөРҪРҫРә СӮРөРұРө РҙРҫСҖРҫРі вҖ” РҙРҫРІРөР·РөСҲСҢ Рё СӮСғРҙР°.
Рҗ РҪРө СҒРјРҫР¶РөСҲСҢ вҖ” РјРөРҙРёСҶРёРҪР° СӮСғСӮ РұРөСҒСҒРёР»СҢРҪР°.
В
Р‘РҫР¶Рө, РұРҫР¶Рө РҝСҖавСӢР№... РўР°РәРҫРө РјРҫРіР»Рҫ СҖазвРө СҮСӮРҫ РҝСҖРёРіСҖРөР·РёСӮСҢСҒСҸ РІ РҫРҝРёСғРјРҪРҫРј РҙСӢРјСғ СҒСӮР°СҖСӢС… РәР°Рә РјРёСҖ РҝРөСҖСҒРёРҙСҒРәРёС… СҒРәазРҫРә, РҙРөСҒСҸСӮСҢ СӮСӢСҒСҸСҮ Р»РөСӮ РҪазаРҙ, Р° СӮРөРҝРөСҖСҢ вҖ” РҪР°РҙРҫ Р¶Рө! вҖ” Рё РІРҝСҖСҸРјСҢ СҒР»СғСҮРёР»РҫСҒСҢ РІ ТавСҖРёР·Рө, РІ СҒРөРјСҢРө Р“РөСҖР°СҒРёРјР° РҗСӮР°РҙжаРҪСҸРҪР°, РІ 1927 РіРҫРҙСғ.
В
Рҳ РІРҫСӮ Р“РөСҖР°СҒРёРј РҗСӮР°РҙжаРҪСҸРҪ, РІ РҝСҖРҫСҲР»РҫРј Р°РҪСӮРёРәРҫРјРјСғРҪРёСҒСӮ, РҝСҖРёСҒСӮРөРіРҪСғР» Рә РҝРҫСҸСҒСғ РјР°СғР·РөСҖ, РҝРҫРҙС…РІР°СӮРёР» СҒСӢРҪРёСҲРәСғ РҪР° Р·Р°РәРҫСҖРәРё, РҝРөСҖРөСҲРөР» РҪРҫСҮСҢСҺ РҗСҖР°РәСҒ Рё РҝРҫРҙРҪСҸР»СҒСҸ РІ РіРҫСҖСӢ.
В
РЎРҫР»РҪСҶРө РҝРҫРҙалРҫ Р·РҪР°Рә, Рё РҪР°СҒСӮСғРҝРёР»Рҫ СғСӮСҖРҫ, СғСӮСҖРҫ СҒРёРҪРёС… СғСүРөлий Рё Р¶РөР»СӮСӢС… РіРҫСҖ; Рә РҪРөРұСғ РҝРҫРҙРҪималиСҒСҢ РҙСӢРјРәРё РәРҫСҮРөРІРёР№ вҖ” СӮСғСӮ РҗСҖСҶРІР°РҪРёРәР°, СӮам Р“РөС…Р°РҪСғСҲР°, Р° РІРҫРҪ СӮам ДавиРҙ-РұРөРәР° Рё РҰава. Р“РҫР»СғРұСӢРј СӮСғРјР°РҪРҫРј РәСғСҖилиСҒСҢ РҙалСҢРҪРёРө Р»РөСҒР°, СғСүРөР»СҢСҸ Рё РҝСҖРҫРҝР°СҒСӮРё РІ СғСүРөР»СҢСҸС…, Р·РҫР»РҫСӮСӢРјРё РәР»СғРұами СӮСғРјР°РҪРҪРҫР№ РҝСӢР»СҢСҶСӢ РәСғСҖилиСҒСҢ РіРҫСҖРҪСӢРө РІРөСҖСҲРёРҪСӢ Рё главСӢ РІРөСҖСҲРёРҪ.
Рҳ Р“РөСҖР°СҒРёРј РҝРҫРҪСҸР», СҮСӮРҫ РҫРәР°СҸРҪРҪРҫР№ живРҫСӮРҪРҫР№ С…РІРҫСҖСҢСҺ РјРҫР¶РөСӮ Р·Р°РұРҫР»РөСӮСҢ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҖРөРұРөРҪРҫРә.
В
РқР°СҒСӮСғРҝРёР»Рҫ СғСӮСҖРҫ вҖ” Рё РҫСӮСҖСҸРҙ РәСҖР°СҒРҪРҫР№ милиСҶРёРё РІСӢСҒСӮСҖРҫРёР»СҒСҸ РІРҫ РҙРІРҫСҖРө Р“РҫСҖРёСҒСҒРәРҫРіРҫ СҖРөРІРәРҫРјР° Рё РҝРҫ РәРҫРјР°РҪРҙРө вҖңРңР°СҖСҲ!вҖқ РҫСӮРҝСҖавилСҒСҸ РұСҖР°СӮСҢ РҪР°СҖСғСҲРёСӮРөР»СҸ РіСҖР°РҪРёСҶСӢ Р“РөСҖР°СҒРёРјР° РҗСӮР°РҙжаРҪСҸРҪР°.
В
вҖ” Р“СҸРҪРҙР¶СғРҪСҶ РЎРёРјРҫРҪ! вҖ” РәСҖРёРәРҪСғР» Р“РөСҖР°СҒРёРј, Р·Р°СҒРөРІСҲРёР№ РІ СҖР°СҒСүРөлиРҪРө СҒРәалСӢ. вҖ” Р“СҸРҪРҙР¶СғРҪСҶ РЎРёРјРҫРҪ, РұСғРҙСҢ СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј Рё РҝРҫСҒСӮСғРҝай РәР°Рә СҮРөР»РҫРІРөРә. Р РөРұРөРҪРҫРә РұРҫР»РөРҪ, РҝРҫРҪСҸР»?
В
вҖ” РҗСӮР°РҙжаРҪСҸРҪ Р“РөСҖР°СҒРёРј! вҖ” РәСҖРёРәРҪСғР» РІ РҫСӮРІРөСӮ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РәСҖР°СҒРҪРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР°. вҖ” Р”СғРјР°РөСҲСҢ, СғРҙСҖал РІ ТавСҖРёР·, СӮР°Рә Рё РҫСӮ СҖР°СҒРҝлаСӮСӢ СғСҲРөР»? Р’СӢС…РҫРҙРё, СҒРҙавайСҒСҸ!
В
вҖ” Р“СҸРҪРҙР¶СғРҪСҶ РЎРёРјРҫРҪ! РҹРҫРәР° РәСҖРҫРІСҢ СӮРІРҫСҸ РҪРө РҝСҖРҫлилаСҒСҢ, РІ СӮРөРұРө СӮРөСҮРөСӮ, РёРҙРё-РәР° СӮСӢ СҒРІРҫРөР№ РҙРҫСҖРҫРіРҫР№.
В
Слава РјРөСӮРәРҫРіРҫ СҒСӮСҖРөР»РәР°, СҖРөРұРөРҪРҫРә, СғРҙР°СҮРҪРҫРө СғРәСҖСӢСӮРёРө Рё РјСӢСҒР»СҢ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ СҚСӮРё РіРҫСҖСӢ СҖРҫРҙРҪСӢРө РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҙР»СҸ РҪРёС…, РҪРҫ Рё РҙР»СҸ Р“РөСҖР°СҒРёРјР°, вҖ” РІСҒРө СҚСӮРҫ Р·Р°СҒСӮавилРҫ РәСҖР°СҒРҪСӢР№ РҫСӮСҖСҸРҙ РҝРҫРІРөСҖРҪСғСӮСҢ РҪазаРҙ РұРөР· РҪРөРіРҫ; РјРёСҖРҪРҫ РұРөСҒРөРҙСғСҸ, милиСҶРёРҫРҪРөСҖСӢ СҒРҝСғСҒСӮилиСҒСҢ СҒ РіРҫСҖ, РҝРөСҖРөвалили РөСүРө СҮРөСҖРөР· РҫРҙРҪРё РіРҫСҖСӢ, СҒРҪРҫРІР° СҒРҝСғСҒСӮилиСҒСҢ, СғР¶Рө РІ Р“РҫСҖРёСҒ, Рё РҙРҫР»Рҫжили, СҮСӮРҫ РҪР°СҖСғСҲРёСӮРөР»СҸ РіСҖР°РҪРёСҶСӢ РҪРө РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРҫ. Рҗ РҪР°СҖСғСҲРёСӮРөР»СҢ РұСҖРҫРҙРёР» РІРІРөСҖС… Рё РІРҪРёР· РҝРҫ СӮСҖРҫРҝам СҒРІРҫРөРіРҫ РҙРөСӮСҒСӮРІР°, СғСӮРҫР»СҸР» жажРҙСғ, РҝСҖРёРҝР°РҙР°СҸ Рә Р»РөРҙСҸРҪСӢРј СҖРҫРҙРҪРёРәам СҒРІРҫРөРіРҫ РҙРөСӮСҒСӮРІР°, Рё РіРҫРІРҫСҖРёР» СҒСӢРҪСғ:
В
вҖ” Р’РҫСӮ СҚСӮРҫСӮ СҖРҫРҙРҪРёРә вҖ” РЎСӮСғРҙРөРҪСӢР№ РәР»СҺСҮ, СҚСӮРҫСӮ вҖ” РЎР»РөРҝРҫРө РҫРәРҫ. Р—Р°РҝРҫРјРёРҪай! РўСғСӮ РІРҫСӮ вҖ” РңРөРҙРІРөжий Р»РҫРі. Рҗ СҚСӮРҫ вҖ” РҙСғРұ. РқРө Р·РҫР»РҫСӮРҫР№, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҙСғРұРҫРІ РҪР° СҒРІРөСӮРө РІРёРҙРёРјРҫ-РҪРөРІРёРҙРёРјРҫ, РҪРҫ СҚСӮРҫСӮ РҙСғРұ вҖ” РҫСҒРҫРұРөРҪРҪСӢР№. РӯСӮРҫ РҙРөСҖРөРІРҫ СҖРҫСҒР»Рҫ СҖСҸРҙРҫРј СҒ РҪР°СҲРёРј РҙРөРҙРҫРј, Р° СӮРөРҝРөСҖСҢ РІРҫСӮ РҫРҪРҫ, СҖСҸРҙРҫРј СҒ РҪами. РҳР· ТавСҖРёР·Р° РөСүРө РҙалСҢСҲРө РҝРҫРҙР°СҲСҢСҒСҸ вҖ” РІ ЕгиРҝРөСӮ или С…РҫСӮСҢ РІ РҗРјРөСҖРёРәСғ, вҖ” СҚСӮРҫ СӮРІРҫРө РҙРөСҖРөРІРҫ, РҫРҪРҫ СҒ СӮРҫРұРҫР№ РұСғРҙРөСӮ. Р—Р°РұРҫР»РөРөСҲСҢ, СҒРҝСҖРҫСҒСҸСӮ, СҮРөРіРҫ РҙСғСҲР° С…РҫСҮРөСӮ, СҒРәажРөСҲСҢ: СӮРҫСӮ РҙСғРұ, СҮСӮРҫ СҖСҸРҙРҫРј СҒ РҙРөРҙами жил.
В
Рҳ СҒРјРҫСӮСҖРөР» Р“РөСҖР°СҒРёРј, Рё РІРёРҙРөР» СҒРІРҫРөРіРҫ РҙРөРҙР°; СҒ СӮРҫРҝРҫСҖРҫРј Р·Р° РҝРҫСҸСҒРҫРј СӮРҫСӮ РјРөРҙР»РөРҪРҪРҫ СҲРөР» РІРІРөСҖС… РҝРҫ СҒРәР»РҫРҪСғ, Р° Р·Р° РҪРёРј СӮР°Рә Р¶Рө РјРөРҙР»РөРҪРҪРҫ СҲРөР» РөРіРҫ СҮалСӢР№, СӮРҫР¶Рө РәСҖРөРҝРәРҫ СӮСҖРҫРҪСғСӮСӢР№ СҒРөРҙРёРҪРҫР№ РҝРөСҒ. Р“РөСҖР°СҒРёРј РҝРҫРјРҪРёР» РөРіРҫ: СӮРҫ РұСӢР» РҙРІРөСҒСӮРё РҙРІР°РҙСҶР°СӮСӢР№ РёР· СҒРөРјРёСҒРҫСӮ РІРҫР»РәРҫРҙавРҫРІ, СҒР»СғживСҲРёС… СҖРҫРҙСғ РҗСӮР°РҙжаРҪСҸРҪРҫРІ, Рё СӮРөРҝРөСҖСҢ РҪР°СҒСӮала РөРіРҫ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РұРөР· РҫСҒСӮР°СӮРәР° РҝРөСҖРөРҙР°СӮСҢ РҝРҫСӮРҫРјРәам Рё РёРҪСҒСӮРёРҪРәСӮСӢ, Рё СғРј СҒРІРҫРёС… РҝСҖРөРҙРәРҫРІ вҖ” РҫРІСҮР°СҖРҫРә.
В
Рҳ СҒРјРҫСӮСҖРөР» Р“РөСҖР°СҒРёРј, Рё РІРёРҙРөР» СҖСғРјСҸРҪРҫРіРҫ малСӢСҲР° Р“РөСҖР°СҒРёРјР°, Рё РҝРҫРҙСҖРҫСҒСӮРәР° Р“РөСҖР°СҒРёРјР° СҒ РәР°РҝР»СҸРјРё РҝРҫСӮР° РҪР° РҫРҝСғСҲРөРҪРҪРҫР№ РІРөСҖС…РҪРөР№ РіСғРұРө, Рё СҺРҪРҫСҲСғ Р“РөСҖР°СҒРёРјР° СҒ РІСӢРіРҪСғСӮРҫР№ РҙСғРіРҫР№ РұСҖРҫРІСҢСҺ вҖ” Рё РІСҒРө РҫРҪРё, СӮРҫ РҫСӮСҒСӮаваСҸ, СӮРҫ РІСӢСҖСӢРІР°СҸСҒСҢ РІРҝРөСҖРөРҙ, РҝРҫРҙРҪималиСҒСҢ Рә СҖРҫРҙРҪРёРәСғ. Рҳ РҝСҖРёСҒР»СғСҲивалСҒСҸ Р“РөСҖР°СҒРёРј, Рё СҒР»СӢСҲал РіРҫР»РҫСҒР° РІСҒРөС… СҒРІРҫРёС… РІРҫР·СҖР°СҒСӮРҫРІ РҪР° РҫРҙРҪРёС… Рё СӮРөС… Р¶Рө РІРөСҮРҪСӢС… СҒРәР»РҫРҪах, Рё РіРҫР»РҫСҒР° СӮРөС…, Рҫ РәРҫРј Р·РҪал РҝРҫРҪР°СҒР»СӢСҲРәРө. Рҳ РҝРҫР»СӢхалРҫ РІРҫРәСҖСғРі РјРҫСҖРө РәСҖР°СҒРҪСӢС… РјР°РәРҫРІ, Рё Р·РөР»РөРҪРөРө Р·РөР»РөРҪРҫРіРҫ РұСӢли Р»СғРіР°, Рё Р·РІРөРҪРөР» РІ РІСӢСҲРёРҪРө С…РҫСҖ жавРҫСҖРҫРҪРәРҫРІ, Рё РІСҒРө СҚСӮРҫ РјРҪРҫжилРҫСҒСҢ Рё РҝСҖРёСғРјРҪРҫжалРҫСҒСҢ РјРҪРҫРіРҫРәСҖР°СӮРҪРҫ, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РҙР»СҸ Р“РөСҖР°СҒРёРјР° РәСҖР°СҒРҪРөли, Р·РөР»РөРҪРөли Рё Р·РІРөРҪРөли РјР°РәРё, Р»СғРіР° Рё жавРҫСҖРҫРҪРәРё РІСҒРөС… РөРіРҫ РІРҫР·СҖР°СҒСӮРҫРІ.
В
Р’СҒРө Р»РөСӮРҫ РҙРҫ СҒамСӢС… С…РҫР»РҫРҙРҫРІ Рё РөСүРө РҙРІР° РҝРҫР»РҪСӢС… Р»РөСӮР° РҙРҫ РіР»СғРұРҫРәРҫР№ РҫСҒРөРҪРё, РәРҫРіРҙР° РіРҫСҖРҪР°СҸ РҝСҖРҫхлаРҙР° СғР¶Рө РҝСҖРҫРұРёСҖР°РөСӮ РҙРҫ РәРҫСҒСӮРөР№, Рё РҝСғСҒСӮРөСҺСӮ РәРҫСҮРөРІСҢСҸ, Рё РҪРө РәСғСҖСҸСӮСҒСҸ РҙСӢРјРәРё РёС… РҫСҮагРҫРІ, Рё РіРҫСҖСӢ РІ РҫРҙРёРҪРҫСҮРөСҒСӮРІРө Р·РөР»РөРҪРөСҺСӮ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөР№ СҒРІРҫРөР№ СӮСҖавРҫР№, Р“РөСҖР°СҒРёРј РҗСӮР°РҙжаРҪСҸРҪ СӮР°Рә Рё жил СҒ СҒСӢРҪРҫРј РІ РіРҫСҖах, Р° РҝРҫСӮРҫРј, РІСҒРө РҫРұРҫСҖР°СҮРёРІР°СҸСҒСҢ РҪазаРҙ, СҒРҝСғСҒСӮРёР»СҒСҸ СҒ РіРҫСҖ РІ ТавСҖРёР·. РЎСӢРҪ РөРіРҫ РІСӢР·РҙРҫСҖРҫРІРөР». РқРҫ СӮРөРҝРөСҖСҢ СҒРәСҖСғСӮРёР»Рҫ РөРіРҫ СҒамРҫРіРҫ. ЕмСғ РҪСғР¶РҪСӢ РұСӢли РөРіРҫ РіРҫСҖСӢ, Р° РҫРҪРё РҫСҒСӮалиСҒСҢ Р·Р° РҗСҖР°РәСҒРҫРј, Рё СӮам Р¶Рө, Р·Р° РҗСҖР°РәСҒРҫРј, РҫСҒСӮалРҫСҒСҢ РөРіРҫ РҝСҖРҫСҲР»РҫРө.
В
РҡРҫРіРҙР° РҝРёСҒР°СӮРөР»СҺ РҗРҪСӮРҫРҪСғ Р§РөС…РҫРІСғ РҪР°СҒРәСғСҮила РөРіРҫ РңРҫСҒРәРІР°, РҫРҪ РҝСҖРҫРөхал РҝРҫ СҒРІРҫРөР№ Р’РҫлгРө РҙРҫ СҒРІРҫРөРіРҫ РЈСҖала, РҝРҫ РЈСҖалСғ РІ Р—Р°РҝР°РҙРҪСғСҺ РЎРёРұРёСҖСҢ, РҝРҫСӮРҫРј РІ Р’РҫСҒСӮРҫСҮРҪСғСҺ РЎРёРұРёСҖСҢ, РІ СҒРІРҫСҺ РҳСҖРәСғСӮРёСҺ, РІ СҒРІРҫСҺ РҜРәСғСӮРёСҺ, РҪР° СҒРІРҫР№ ДалСҢРҪРёР№ Р’РҫСҒСӮРҫРә Рё РҝРҫ СҒРІРҫРөРјСғ РҗРјСғСҖСғ вҖ” РҙРҫ СҒРІРҫРөРіРҫ СахалиРҪР°. РҳР·СҠРөР·РҙРёР» РІРөСҒСҢ РҫСҒСӮСҖРҫРІ Рё СҒ РәРҪРёРіРҫР№ РҝСғСӮРөРІСӢС… РҫСҮРөСҖРәРҫРІ вҖңСахалиРҪвҖқ РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ РІ СҒРІРҫСҺ РңРҫСҒРәРІСғ.
В
РҡРҫРіРҙР° РҝРёСҒР°СӮРөР»СҺ Р”РөСҖРөРҪРёРәСғ Р”РөРјРёСҖСҮСҸРҪСғ РҪР°СҒРәСғСҮРёР» РөРіРҫ Р•СҖРөРІР°РҪ, РҫРҪ РІСӢРөхал РІ РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРө РҙРҫ СҒРІРҫРөРіРҫ вҖңСахалиРҪР°вҖқ. РӯСӮРҫ СҒРҫСҒСӮавилРҫ РҙРІР° СҮР°СҒР° РҪР° РјР°СҲРёРҪРө: РҝРөСҖРөвалил СҮРөСҖРөР· РіРҫСҖСӢ Р·Р° РЎРөРІР°РҪРҫРј, СҒРҝСғСҒСӮРёР»СҒСҸ РІ ДилижаРҪСҒРәРҫРө СғСүРөР»СҢРө, Рё СӮам, РіРҙРө РҫРҪРҫ РҝРөСҖРөС…РҫРҙРёР»Рҫ РІ РҙРҫлиРҪСғ, Р”РөРјРёСҖСҮСҸРҪ СҒРәазал:
В
вҖ” Р—РҙРөСҒСҢ Р’Р°СҖРҙР°РҪ РңамиРәРҫРҪСҸРҪ1 Рҙал РәРҫСҖРҫСӮРәРёР№ РұРҫР№. вҖ” Рҳ РҫРәлиРәРҪСғР» РҫРіРҫСҖРҫРҙРҪРёРәР°-азРөСҖРұайРҙжаРҪСҶР° РҪР° РөРіРҫ СҸР·СӢРәРө: вҖ” РҡР°Рә РҙРөла, РҙСҖСғРі, РәР°Рә живРөСӮРө-РјРҫР¶РөСӮРө?
В
Рҳ РҝРҫРІРөСҖРҪСғР» РјР°СҲРёРҪСғ Рә РҙСҖСғРіРҫРјСғ РәРҫРҪСҶСғ Р·Рөмли Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРҫР№ вҖ” Рё РұСӢР»Рҫ РҙРҫ РҪРөРіРҫ СҮРөСӮСӢСҖРө СҮР°СҒР° РөР·РҙСӢ. Рҳ РҫРҝСҸСӮСҢ: вҖңРҡР°Рә РҙРөла, РҙСҖСғРі, РәР°Рә живРөСӮРө-РјРҫР¶РөСӮРө?вҖқ Р—Р° СҮРөСӮСӢСҖРө СҮР°СҒР° РҝР»РҫС…РҫР№ СғСҮРөРҪРёРә РјРҫР¶РөСӮ СҒС…РІР°СӮРёСӮСҢ РөСүРө СҮРөСӮСӢСҖРө РҙРІРҫР№РәРё, С…РҫСҖРҫСҲРёР№ вҖ” РөСүРө СҮРөСӮСӢСҖРө РҝСҸСӮРөСҖРәРё, СҖР°РәРөСӮР° РөСүРө РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РҝСҖРёРұлизиСӮСҒСҸ Рә РӣСғРҪРө, РјРҫСҖРө РөСүРө РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РҝРҫРәРҫР»СӢСҲРөСӮСҒСҸ РІ СҒРІРҫРёС… РұРөСҖРөгах, РіРҫР»СғРұРҫРІР°СӮСӢР№ РәамРөРҪСҢ РңР°СӮРөРҪР°РҙР°СҖР°РҪР° СҸРІРёСӮ глазСғ РөСүРө РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҫСӮСӮРөРҪРәРҫРІ, РҪРҫ СҮРөСӮСӢСҖРө СҮР°СҒР° РҪРө РјРҫРіСғСӮ, РҪРёРәР°Рә РҪРө РјРҫРіСғСӮ СҒСӮР°СӮСҢ РәРҪРёРіРҫР№ РҝСғСӮРөРІСӢС… РҫСҮРөСҖРәРҫРІ.
В
Р§РөСҖРөР· РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҮР°СҒРҫРІ Р”РөСҖРөРҪРёРә Р”РөРјРёСҖСҮСҸРҪ РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ РҙРҫРјРҫР№.
В
вҖ” РқСғ, РёСҒРәРҫР»РөСҒили РјСӢ РІСҒСҺ СҒСӮСҖР°РҪСғ Р°СҖРјСҸРҪСҒРәСғСҺ. РҹРҫРұСӢвали Рё РІ РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІРө Р“СғРіР°СҖРә, Рё РІ РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІРө РҡРҫСӮайРә, Рё РІ РҫРұлаСҒСӮРё РҰахРәРҫСӮРҪ, Рё РІ РІРҫСӮСҮРёРҪРө РҙСҖРөРІРҪРёС… СҶР°СҖРөР№ вҖ” РІРөлиРәРҫРј РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІРө РҗР№СҖР°СҖР°СӮ, Рё РІ РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІРө РЎСҺРҪРёРә, Рё РІ РҫРұлаСҒСӮРё РЎРёСҒР°РәР°РҪ, Рё РІ РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІРө РЁРёСҖР°Рә.
В
Рҳ СҮСӮРҫ РұСӢ РқР°РҝРҫР»РөРҫРҪСғ РұСӢСӮСҢ РҝРҫСғРҙР°СҮливРөРө... Р’РөРҙСҢ РҪРө Р РҫСҒСҒРёСҸ РұСӢла РөРіРҫ СҶРөР»СҢСҺ, РҫРҪ РҙРІРёРҪСғР»СҒСҸ РұСӢ РҪР° РҳРҪРҙРёСҺ вҖ” СҒамРҫ СҒРҫРұРҫР№, СҮРөСҖРөР· РҡавРәаз, РҝРҫ РҝСғСӮРё СҒРҫРәСҖСғСҲРёР» РұСӢ РһСҒРјР°РҪСҒРәСғСҺ РёРјРҝРөСҖРёСҺ вҖ” Рё СҒРҫР·Рҙал РұСӢ РҗСҖРјСҸРҪСҒРәРҫРө СҶР°СҖСҒСӮРІРҫ. Рҳ СҒРәазал РұСӢ СҒРІРҫРөРјСғ РјР°СҖСҲалСғ-Р°СҖРјСҸРҪРёРҪСғ РҳРҫР°РәРёРјСғ РңСҺСҖР°СӮСғ, СӮРҫ РұРёСҲСҢ РһРІР°РәРёРјСғ РңСғСҖР°РҙСҸРҪСғ: вҖңРҹРҫР»СғСҮай, РңСҺСҖР°СӮ, СҒРІРҫСҺ СғСӮСҖР°СҮРөРҪРҪСғСҺ СҖРҫРҙРёРҪСғ!вҖқ Да СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫСҒР»Рө Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪР° РІСҒРө Сғ РқР°РҝРҫР»РөРҫРҪР° РҝРҫСҲР»Рҫ РҝСҖахРҫРј вҖ” РёР·-Р·Р° РҪР°СҒРјРҫСҖРәР°, РәР°Рә СҒСҮРёСӮР°СҺСӮ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөли.
В
РңРёР»СӢРө РјРҫРё, РҪаивРҪСӢРө, СҒлаРұСӢРө, СҒлиСҲРәРҫРј РҙРҫРІРөСҖСҮРёРІСӢРө... РқР°РҙРҫ РұСӢ С…РҫСҖРҫСҲРөРҪСҢРәРҫ РҝРҫРәРҫРҝР°СӮСҢСҒСҸ РІ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ СҚРҪСҶРёРәР»РҫРҝРөРҙРёРё: РҪавРөСҖРҪСҸРәР° РҫСӮСӢСүРөСӮСҒСҸ РәР°РәРҫР№-РҪРёРұСғРҙСҢ РҙРҫРәР° РІ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёРё, СҚСӮР°РәРёР№ СӮСҖавлРөРҪСӢР№ РІРҫР»Рә, Р°СҖРјСҸРҪРёРҪ СҖРҫРҙРҫРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РұРөР· СӮСҖСғРҙР° РҫРҙСғСҖР°СҮРёРІР°РөСӮ РҙСҖСғРіРёС… Р·РҪР°СӮРҫРәРҫРІ СҖР°РҙРё СҒРІРҫРөР№, СҒРәажРөРј, РҗРҪглии Рё, РәР°Рә РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёР№ РҪРөСҒРјСӢСҲР»РөРҪСӢСҲ, РҝРҫР·РІРҫР»СҸРөСӮ РҙСғСҖР°СҮРёСӮСҢ СҒРөРұСҸ Р»РөРіРөРҪРҙРҫР№ Рҫ РҪР°СҒРјРҫСҖРәРө.
В
РҡРҫРіРҙР° РјСӢ РұСӢли РІР°СҖРІР°СҖами, Р° Р“СҖРөСҶРёСҸ СғР¶Рө Р·РҪала РІРөлиРәСғСҺ СӮайРҪСғ, РәР°Рә СҒРҫР·РҙаваСӮСҢ РёР· РәРҫРҝРёР№ Рё Р»СҺРҙРөР№ СҒРҝР»РҫСҮРөРҪРҪСғСҺ РІРҫРёРҪСҒРәСғСҺ РөРҙРёРҪРёСҶСғ (вҖңРўР°Рә РёР· РҝалСҢСҶРөРІ СҒжимаСҺСӮ РәСғлаРәвҖқ, вҖ” РіРҫРІРҫСҖРёСӮ РіСҖРөСҮРөСҒРәРёР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРҫРіСҖаф), Р“СҖРөСҶРёСҸ, СҸСҒРҪРҫРө РҙРөР»Рҫ, РҪРө РҫСҒСӮавила РҪР°СҒ Рё РҙалСҢСҲРө РҝСҖРҫР·СҸРұР°СӮСҢ РІ РҙРёРәРҫСҒСӮРё: РІРөРҙСҢ СҒРёР»СҢРҪСӢРө РјРёСҖР° СҒРөРіРҫ РІСҒРөРіРҙР° Рё РІСҒСҺРҙСғ СҒСӮСҖажРҙСғСӮ РҫСӮ СҒРІРҫРёС… Рұлагих РҪамРөСҖРөРҪРёР№; Рё РІРҫСӮ РіСҖРөСҮРөСҒРәРёРө фалаРҪРіРё РҝСҖРёСҲли РІ СҒСӮСҖР°РҪСғ Р°СҖРјСҸРҪ Рё РҝСҖРҫСҲли РөРө СҒ Р·Р°РҝР°РҙР° РҙРҫ РІРҫСҒСӮРҫРәР°, Рё СҒ РІРҫСҒСӮРҫРәР° РҙРҫ СҒРөРІРөСҖР°, Рё СҒ СҒРөРІРөСҖР° РҙРҫ СҺРіР°, Рё СҖР°СҒСӮРҫРҝСӮали РөРө Рё СҒСӮали лагРөСҖРөРј РІ РіРҫР»СғРұРҫР№ РҙРҫлиРҪРө РңСғСҲР°. ДалРҫСҒСҢ СҚСӮРҫ Р»РөРіРәРҫ, РәР°Рә РҪР° СғСҮРөРҪРёСҸС…: РҪРө РҫРәазалРҫСҒСҢ фалаРҪРіРё РҝСҖРҫСӮРёРІ РёС… фалаРҪРіРё Рё РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРҪСӢС… СҒСӮРөРҪ РҝСҖРҫСӮРёРІ РёС… РәР°СӮР°РҝСғР»СҢСӮСӢ. Рҳ РөСүРө РҪРө РҫРұжигали РҪР°СҲРё глиРҪСғ, Рё РјРөРҙСҢ РұСӢла СҒама РҝРҫ СҒРөРұРө, Р° РұСҖРҫРҪР·Р° вҖ” СҒама РҝРҫ СҒРөРұРө: РІРөРҙСҢ РҪР°СҲРё РіРҫРҪСҮР°СҖСӢ РјРөСҒили глиРҪСғ, Р° РәСғР·РҪРөСҶСӢ РәРҫвали РјРөСҮРё РҪРө РҙР»СҸ СҒРөРұСҸ, Р° РҙР»СҸ Р’РөлиРәРҫР№ РҹРөСҖСҒРёРё.
В
Рҳ РІРҫСӮ РҪР° СҖавРҪРёРҪРө РңСғСҲР°, РіРҙРө РұСӢР» СҖазРұРёСӮ лагРөСҖСҢ, РҪРҫСҮРҪРҫР№ РҙРҫР·РҫСҖ СҒС…РІР°СӮРёР» РҫРҙРҪРҫРіРҫ РёР· РІР°СҖРІР°СҖРҫРІ: СҒ РјРөРҙРҪСӢРј РҪРҫР¶РҫРј СӮРҫСӮ РәСҖалСҒСҸ Рә СҲР°СӮСҖСғ РҝРҫР»РәРҫРІРҫРҙСҶР°. Р§РөРіРҫ РҫРҪ С…РҫСӮРөР»? Р“РҫРІРҫСҖРёСӮСҢ РҝРҫ-РіСҖРөСҮРөСҒРәРё РҪРө СғРјРөР». РҹРҫРҙРәСҖР°РҙСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ СӮРҫР»РәРҫРј вҖ” РҪРө СғРјРөР». РЎ РҪРҫР¶РҫРј СғРҝСҖавлСҸСӮСҢСҒСҸ СӮРҫР»РәРҫРј РҪРө СғРјРөР». Били вҖ” РҝРҫСҒРәСғливал, С…РҫСӮСҢ РұСӢ Р·Р°СҖСӢСҮал, СҮСӮРҫ ли, вҖ” Рё СӮРҫРіРҫ СӮРҫР»РәРҫРј РҪРө СғРјРөР». РҘСҖР°РұСҖРөСҶ? РқРөСӮ, Рё С…СҖР°РұСҖРөСҶРҫРј РҪРө РұСӢР»: РәРҫРіРҙР° СғРұивали вҖ” извивалСҒСҸ Рё РІ РәРҫРҪСҶРө РІР·РІСӢР», вҖ” РҝРҫРІРөСҒСӮРІСғРөСӮ РіСҖРөСҮРөСҒРәРёР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРҫРіСҖаф.
В
РўР°РәРҫР№ РҪРөРҝРҫРҪСҸСӮРҪСӢР№, СӮР°РәРҫР№ СҒлаРұСӢР№, СӮР°РәРҫР№ РҪРөСҖавРҪСӢР№ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәСғ, РҫРҪ РІСӢСҒСӮСғРҝРёР» РҪавСҒСӮСҖРөСҮСғ РјРҪРө РёР· СӮСғРјР°РҪРҪРҫР№ Рҙали РҙРІСғС… СҒ РҝРҫР»РҫРІРёРҪРҫР№ СӮСӢСҒСҸСҮРөР»РөСӮРёР№ вҖ” Рё СҸ СғР·РҪал РІ РҪРөРј СҒРөРұСҸ. Рҳ РІСҒСӮал РҪР° Р·Р°СүРёСӮСғ СҒРІРҫРөРіРҫ РұРөСҒСҒилиСҸ, РҪРөСӮРІРөСҖРҙРҫРіРҫ РҪРҫжа Рё РҪРөСӮРІРөСҖРҙРҫР№ СҖСғРәРё.
В
вҖ” РўСӢ РІ РҡСҖСӢРјСғ РұСӢвал?
В
вҖ” РқРө РҙРҫРІРөР»РҫСҒСҢ.
В
вҖ” ЖалСҢ. РӯСӮРҫ РҪР°РҙРҫ РІРёРҙРөСӮСҢ. РңРҫСҖРө, СҒСӮалРҫ РұСӢСӮСҢ. РҜР·СӢРә РҪРө РҝРҫРІРҫСҖР°СҮРёРІР°РөСӮСҒСҸ СҒРәазаСӮСҢ: РҹРҫРҪСӮ. РҹРҫРҪСӮ вҖ” СҚСӮРҫ РіСҖРҫР·РҪР°СҸ РұСғСҲСғСҺСүР°СҸ РҝСғСҮРёРҪР° РұРөР· РҙРҪР° Рё РұРөР· РәСҖР°СҸ, Р·Р°СӮРөСҖСҸРҪРҪСӢРө СҒСҖРөРҙРё валРҫРІ СҒСғРҙРөРҪСӢСҲРәРё Рё РҝламРөРҪРҪР°СҸ РјРҫР»СҢРұР°, РҫРұСҖР°СүРөРҪРҪР°СҸ Рә РұРҫРіСғ РјРҫСҖСҸ. Рҗ СӮСғСӮ вҖ” РҙажРө РҪРө РјРҫСҖРө, Р° СӮР°Рә, Р»РҫС…Р°РҪСҢ СҒ СӮРөРҝР»РҫР№ РІРҫРҙРёСҶРөР№ Рё РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫРө СҒРҫР·РҪР°РҪРёРө, СҮСӮРҫ РјРҫСҖСҒРәРёРө РәСғРҝР°РҪРёСҸ,
РІР·РјРҫСҖСҢРө вҖ” СҚСӮРҫ РҫСҮРөРҪСҢ РҝРҫР»РөР·РҪРҫ, РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РҙР»СҸ СҒСғСҒСӮавРҫРІ. РқСғ Рё РҝРҫСӮРҫРј вҖ” Р¶РөР»СӮСӢР№ РҝРөСҒРҫСҮРөРә, Р° РҪР° РҪРөРј СҖР°СҒРҝлаСҒСӮР°РҪСӢ РҝСҸСӮСҢ, РҙРөСҒСҸСӮСҢ, СҒСӮРҫ СӮСӢСҒСҸСҮ СӮРөР». РЎСӮРҫРёСӮ РіСҖСғР·РҫРІРёРә, РҪР° РҪРөРј РҝРёР°РҪРёРҪРҫ, РҪР° РҝРёР°РҪРёРҪРҫ РұСҖРөРҪСҮРёСӮ РәР°РәРҫР№-СӮРҫ СӮРёРҝ, Рё РҝРҫРҙ СҚСӮСғ РјСғР·СӢРәСғ РІСӢРҙРөР»СӢРІР°СҺСӮ РҝРҫР»РөР·РҪСӢРө СӮРөР»РҫРҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ СҒСӮР°СҖРөСҺСүРёРө Р°РәСӮСҖРёСҒСӢ, РұСғхгалСӮРөСҖСҲРё, РІСҖР°СҮРёС…Рё. РЎРәРІРҫР·СҢ СӮРөРјРҪСӢРө РҫСҮРәРё РҪР° РҪРёС… РҝРҫРіР»СҸРҙСӢРІР°СҺСӮ РҙРөРІСғСҲРәРё Рё РҝР°СҖРҪРё СҒ РәСҖРөРҝРәРёРјРё РјРҫР»РҫРҙСӢРјРё СӮРөлами, РөРҙСҸСӮ РјРҫСҖРҫР¶РөРҪРҫРө, РұРҫР»СӮР°СҺСӮ РҙСҖСғРі СҒ РҙСҖСғРіРҫРј РҝРҫ-СҖСғСҒСҒРәРё, РҝРҫ-РәазахСҒРәРё, РҝРҫ-РјРҫР»РҙавСҒРәРё, Р° СӮРҫ РІРҙСҖСғРі Рё РҝРҫ-РҪРөРјРөСҶРәРё. Р•РҙСҸСӮ, флиСҖСӮСғСҺСӮ, СҲСғСӮСҸСӮ, РҝРөСҖРөСҒСҮРёСӮСӢРІР°СҺСӮ СҒРІРҫРё РҙРөРҪРөР¶РәРё... Р° СҖСҸРҙРҫРј РҪР°СҲРё, СҒР»РҫРІРҪРҫ РҝСҖРёРҝРҫСҖРҫСҲРөРҪРҪСӢРө РҝСӢР»СҢСҺ, РҪР°СҲРё РұРөРҙРҪСӢРө, РҪР°СҲРё СҒРәСҖРҫРјРҪСӢРө, РҪР°СҲРё РҝРҫСӮРөСҖСҸРҪРҪСӢРө РҝСҲР°СӮРҫРІСӢРө РҙРөСҖРөРІСҶР°. РҳС… РІ СҒСӮР°СҖРёРҪСғ завРөзли Р°СҖРјСҸРҪРө. РҗСҖРјСҸРҪ СӮСғСӮ РұРҫР»СҢСҲРө РҪРөСӮ, Р° РҙРөСҖРөРІСҢСҸ РҫСҒСӮалиСҒСҢ. РқРҫ Рё РІРёРҙ Сғ РҪРёС… СғР¶Рө РҪРө СӮРҫСӮ, Рё Р°СҖРҫРјР°СӮ РҪРө СӮРҫСӮ.
В
Р‘РөРҙРҪСӢРө, РұРөРҙРҪСӢРө РјРҫРё РҙРөСҖРөРІСҶР°, СҖРҫРұРәРҫ РұлагРҫСғС…Р°СҺСүРёРө РІ СҮСғР¶РҫРј РҡСҖСӢРјСғ... Рҳ РҪР°СҲ Р‘РҫРі, РңРөСҒСҖРҫРҝ РңР°СҲСӮРҫСҶ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҒРәазал: вҖңДа РұСғРҙРөСӮ СҒРІРөСӮ!вҖқ вҖ” Рё СҒСӮал СҒРІРөСӮ.
В
Рҳ СӮРҫСӮ РҪР°СҲ РұРөР·СғРјРөСҶ РёР· РңСғСҲР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІ СҮРөСҖРҪРҫРө Р»РөСӮРҫ 1915-РіРҫ взвалил РҪР° СҒРҝРёРҪСғ РҪРө Р¶РөРҪСғ, РҪРө РҙРөСӮРөР№, РҪРө РәРҫСӮРҫРјРәСғ СҒ С…Р»РөРұРҫРј РҪР°СҒСғСүРҪСӢРј, Р° СҒСӮРІРҫСҖРәСғ РІРҫСҖРҫСӮ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ РҗСҖР°РәРөР»РҫСҶ Рё, РҝРҫСҲР°СӮСӢРІР°СҸСҒСҢ, РҝРҫРұСҖРөР» РҝРҫ РІСӢРіРҫСҖРөРІСҲРёРј РҙРҫРұРөла РҙРҫСҖРҫгам РІ СҒРІСҸСӮРҫР№ РӯСҮРјРёР°РҙР·РёРҪ.
В
Рҳ СӮРө РҪР°СҲРё Р»РөСӮРҫРҝРёСҒСҶСӢ, СҮСӮРҫ СҒРҫСҖРҫРә, СҒСӮРҫ СҒРҫСҖРҫРә, СӮСӢСҒСҸСҮСғ СҒРҫСҖРҫРә Р»РөСӮ РҪРө СҖазгиРұалиСҒСҢ РҪР°Рҙ РҝРөСҖгамРөРҪСӮРҫРј РІ СҒРІРҫРөР№ РҝРөСүРөСҖРө, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪРҫР№ СҒ СҲРёСҖРҫРәРҫР№ РҙРҫСҖРҫРіРҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё лиСҲСҢ СғР·РәРҫР№ СӮСҖРҫРҝРҫР№, РІРөРәами РҝРҫСҖР°СҒСӮавСҲРөР№ СӮСҖавРҫР№ Р·Р°РұРІРөРҪРёСҸ, Рё РҝРҫРІРөСҒСӮРІРҫвали РҫРұРҫ РІСҒРөРј, СҮСӮРҫ РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёР»Рҫ СҒ СҚСӮРёРј РәР»РҫСҮРәРҫРј Р·Рөмли. Рҳ РҪР°СҲРө СҒРҫР»РҪСҶРө РІ СҮРөСҖРҪРҫР№ СҖСҸСҒРө вҖ” РҪР°СҲ РҡРҫРјРёСӮР°СҒ. Рҳ РҪР°СҲ РҝРҫСҒСӮР°СҖРөРІСҲРёР№ Р·Р° РіРҫРҙ РҪР° РІСҒРө СҒСӮРҫ Р»РөСӮ РўСғРјР°РҪСҸРҪ. Рҳ СӮРҫСӮ РұРөРҙРҪСӢР№ РјРөСҮСӮР°СӮРөР»СҢ, СҮСӮРҫ РІ РҙалРөРәРҫР№ ЕвСҖРҫРҝРө РҫСӮливал РҝСғСҲРәСғ РІ РҪР°РҙРөР¶РҙРө РіСҖСҸРҪСғСӮСҢ РҝРҫ РІСҖагСғ СҒ РіРҫСҖРҪСӢС… РІСӢСҒРҫСӮ РЎСҺРҪРёРәР°.
В
Рҳ СӮРө СҒРҫСӮРҪРё РјРҫР»РҫРҙСӢС… СҖРөРұСҸСӮ, СҮСӮРҫ, РІРҫРҫСҖСғживСҲРёСҒСҢ РәРҪигами Рё РҝРҫСҖРҫС…РҫРј, СҲли РІРҫРҙСҖСғжаСӮСҢ РәСҖР°СҒРҪРҫРө Р·РҪамСҸ РҪР°Рҙ РҪР°СҲРөР№ РіРёРұРҪСғСүРөР№ РіРҫР»СғРұРҫР№ СҒСӮСҖР°РҪРҫР№ Рё РёС…, РәР°Рә СҒР»РөРҝСӢС… РәРҫСӮСҸСӮ, СҖР°СҒСҒСӮСҖРөливали РҪР° РіСҖР°РҪРёСҶРө Рё РІ Р»РҫРұ, Рё РІ СҒРҝРёРҪСғ вҖ” СҒ РҫРұРөРёС… СҒСӮРҫСҖРҫРҪ.
В
Рҳ 1915 РіРҫРҙ вҖ” Рё Р»СҺРұРҫРІСҢ СҒСҖРөРҙРё РөРіРҫ СғжаСҒРҫРІ, Рё СҒР»СғР¶РұСӢ РІ СҶРөСҖРәвах, Рё СҒСҠРөРҙРөРҪРҪСӢР№ С…Р»РөРұ, Рё РұСҖРҫСҲРөРҪРҪРҫРө СҒРөРјСҸ, Рё СҖРҫР¶РҙРөРҪРҪСӢРө РҙРөСӮРё, Рё СҒР»РҫР¶РөРҪРҪСӢРө РҝРөСҒРҪРё.
В
Рҳ РІРҫСӮ РІРөРҙСҢ СҮСӮРҫ СҒамРҫРө СғРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө: СҒРҪРҫРІР° зазРөР»РөРҪРөли РҝРҫР»СҸ Рё РІРөСӮРөСҖ завРөР» СҒРІРҫРё РёРіСҖСӢ СҒ РәРҫР»РҫСҒСҸСүРөР№СҒСҸ РҪРёРІРҫР№, СҒРҪРҫРІР° заалРөли РјР°РәРё Рё СҖРҫСҒСҒСӢРҝСҢСҺ РәРҫР»РҫРәРҫР»СҢСҮРёРәРҫРІ зазвРөРҪРөР» СҒРјРөС… РҪР° РҪР°СҲРёС… Р·РөР»РөРҪСӢС… Р»Сғгах. Рҳ РңР°СҒСӮРөСҖ СҒРҪРҫРІР° РІРҫСҒСҒРөР» РҪР° РҝСҖРөСҒСӮРҫР»Рө Рё РҝРҫРіСҖСғР·РёР»СҒСҸ РІ СҖазРҙСғРјСҢСҸ РҫРұ СҚСӮРҫРј РҪРөРІСӢРҪРҫСҒРёРјРҫ Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫРј Рё РҪРөРҫРҙРҫлимРҫ РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪРҫРј РјРёСҖРө, Рё лиСҲСҢ РёР·СҖРөРҙРәР° СҖРҫРҪСҸР» СҒР»РҫРІР°, РҪРҫ РұСӢли СӮРө СҒР»РҫРІР° вҖ” алмазСӢ: РёРұРҫ Р·Р° РҝСҸСӮСҢРҙРөСҒСҸСӮ Р»РөСӮ РҫРҪРё РІРҫРұСҖали РІ СҒРөРұСҸ Рё СғР»СӢРұРәСғ СҒРҫР»РҪСҶР°, Рё СҒР»РөР·СӢ РҙРҫР¶РҙСҸ, РҪР°РәРҫРҝР»РөРҪРҪСӢРө Р·Р° СӮСӢСҒСҸСҮРөР»РөСӮРёСҸ.
В
вҖ” РўР°Рә Рҫ СҮРөРј СӮСӢ РҝлаСҮРөСҲСҢ? Рҳ СҮРөРјСғ СғР»СӢРұР°РөСҲСҢСҒСҸ?
В
1965
В
В
________________________________
(1) Р’Р°СҖРҙР°РҪ РңамиРәРҫРҪСҸРҪ вҖ” РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»СҢ РҝСҖРҫСҒлавлРөРҪРҪРҫРіРҫ РІ Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё СҖРҫРҙР° РңамиРәРҫРҪСҸРҪРҫРІ, РІРҫзглавивСҲРёР№ РІ V РІРөРәРө РІСҒРөРҪР°СҖРҫРҙРҪСғСҺ РІРҫР№РҪСғ РҝСҖРҫСӮРёРІ РҹРөСҖСҒРёРё, РҪазваРҪРҪСғСҺ Р’Р°СҖРҙР°РҪР°РҪРә, СӮ.Рө. РІРҫР№РҪРҫР№ Р’Р°СҖРҙР°РҪР° Рё РөРіРҫ СҒРҝРҫРҙРІРёР¶РҪРёРәРҫРІ. РҹРҫРіРёРұ РІ РјР°Рө 451 Рі. РІ РұРёСӮРІРө РҪР° РҗРІР°СҖайСҖСҒРәРҫРј РҝРҫР»Рө (РҪСӢРҪРө РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РҳСҖР°РҪР°), РҝСҖРёСҮРёСҒР»РөРҪ Рә лиРәСғ СҒРІСҸСӮСӢС…. РһРұСҖаз Р’Р°СҖРҙР°РҪР° РҪРө СҖаз РІРҙРҫС…РҪРҫРІР»СҸР» РҙРөСҸСӮРөР»РөР№ Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ. РЁРёСҖРҫРәРҫ РёР·РІРөСҒСӮРөРҪ СҖРҫРјР°РҪ Р”.Р”РөРјРёСҖСҮСҸРҪР° вҖңР’Р°СҖРҙР°РҪР°РҪРәвҖқ.
В
В
РҹРөСҖРөРІРҫРҙ СҒ Р°СҖРјСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ РқРөлли РҘР°СҮР°СӮСҖСҸРҪ
Р’РҝРөСҖРІСӢРө РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪРҫ РІ Р¶СғСҖРҪалРө: «ДСҖСғР¶РұР° РқР°СҖРҫРҙРҫРІВ» 2005, в„–2 (РҳР· лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫРіРҫ РҪР°СҒР»РөРҙРёСҸ)



