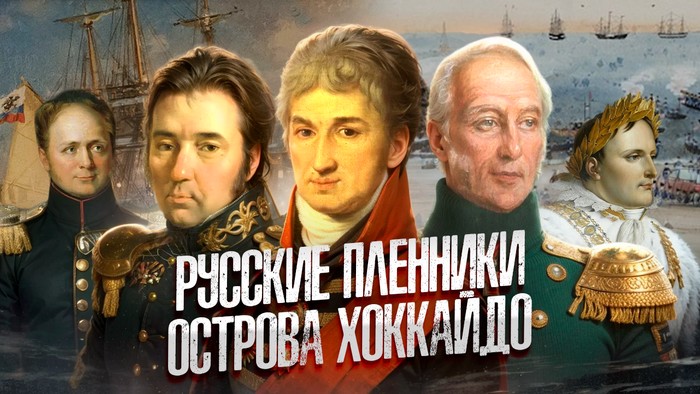«А он, мятежный, просит бури…»
«А он, мятежный, просит бури…»

27 июля – 180 лет со дня гибели Михаил Юрьевича Лермонтова
«…Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова, – отмечал Александр Иванович Герцен в 1856 году. – Он написал элегическую оду, в которой заклеймил низкие интриги, предшествовавшие дуэли, – интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами».
…Всего 13 лет творчества отвела судьба Лермонтову – одному из самых юных классиков в истории русской и мировой литературы. За свою недолгую жизнь он написал около четырехсот стихотворений, двадцать пять поэм, пять драм, три романа и семь повестей.
В 10 лет Лермонтов сочинял пьесы для домашнего театра, в подлиннике читал французских, немецких и английских классиков, прекрасно рисовал. В 15 лет он написал первую редакцию поэмы «Демон». В 20 – драму в стихах «Маскарад». В 24 – роман «Герой нашего времени». А в 26 с небольшим лет Лермонтов погиб, как и Пушкин, на дуэли.
Единственным прижизненным сборником Лермонтова стали «Стихотворения М. Лермонтова», опубликованные в 1840 году тиражом 1000 экземпляров. В сборник вошли всего две поэмы автора и 26 стихотворений.
¬´‚Ķ–ú–µ–∂–¥—É –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–æ–º –Ω–∞ –ß—ë—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ—á–∫–µ –∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–æ–º —É –≥–æ—Ä—ã –ú–∞—à—É–∫ –ø—Ä–æ–π–¥—ë—Ç –≤—Å–µ–≥–æ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –≥–æ–¥–∞, ‚Äì –æ—Ç–º–µ—á–∞–µ—Ç –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è-–∑–∞–ø–æ–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–∞ ¬´–¢–∞—Ä—Ö–∞–Ω—ã¬ª –¢–∞–º–∞—Ä–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–Ω–∞ –ú–µ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤–∞. ‚Äì –ò –≤ —ç—Ç–æ—Ç –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–π —Å—Ä–æ–∫ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ —Å–æ–∑–¥–∞–ª –ª—É—á—à–∏–µ —Å–≤–æ–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø–æ –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Ä–∞–∑–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏—é, –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤—É –≤–æ–ø–ª–æ—â–µ–Ω–∏—è –∏ –±–µ–∑–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω–æ–π –º–æ—â–∏ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–∞.¬Ý
–¢—Ä—É–¥–Ω–æ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å, –Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏–µ –≥–æ—Ä–¥–æ—Å—Ç—å —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –∏ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ –≤ –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–Ω–æ–π —Ç–∏—à–∏–Ω–µ, –∞ –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–ª—ã—Ö –¥–≤–æ—Ä–∞—Ö, –≤ –∫–æ—Ä–¥–µ–≥–∞—Ä–¥–∏–∏, –ø–æ—Å–ª–µ —Å–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞—É—Ç–∞, –≤ –ø–µ—Ä–µ—Ä—ã–≤–µ –º–µ–∂–¥—É –±–æ—è–º–∏.¬Ý
Когда посещал «демон поэзии», поэту нужнее всего были хорошие перья и бумага, а о таком уютном кабинете, какой остался в родном доме в Тарханах, оставалось только вспоминать…».
–ö–∞–∫ –Ω–µ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏—Ç—å—Å—è —Å–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ –ò—Ä–∞–∫–ª–∏—è –õ—É–∞—Ä—Å–∞–±–æ–≤–∏—á–∞ –ê–Ω–¥—Ä–æ–Ω–∏–∫–æ–≤–∞, –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–≤—à–µ–º—É –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≥–æ–¥—ã –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—é —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞, –µ–≥–æ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å—É–¥—å–±—ã:¬Ý
«И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека – грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей, проницательным и беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого».
–î–µ–Ω—å –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –Æ—Ä—å–µ–≤–∏—á–∞ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –Ω–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª –ø–µ—Å–Ω—é –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –í—ã—Å–æ—Ü–∫–æ–≥–æ, –æ–±–ª–µ—Ç–µ–≤—à—É—é –Ω–∞—à—É —Å—Ç—Ä–∞–Ω—É –ø–æ–ª–≤–µ–∫–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥, –≤ 1971:
Кто кончил жизнь трагически – тот истинный поэт,
А если в точный срок – так в полной мере.
–ù–∞ —Ü–∏—Ñ—Ä–µ 26 –æ–¥–∏–Ω —à–∞–≥–Ω—É–ª –ø–æ–¥ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç,
Другой же – в петлю слазил в «Англетере».
–ê –≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å —Ç—Ä–∏ –•—Ä–∏—Å—Ç—É... (–û–Ω –±—ã–ª –ø–æ—ç—Ç, –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª:
«Да не убий!» Убьешь – везде найду, мол.)
Но – гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,
–ß—Ç–æ–± –Ω–µ –ø–∏—Å–∞–ª –∏ –Ω–∏ –æ —á—ë–º –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª.¬Ý
–° –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏ —Ü–∏—Ñ—Ä–µ 37 –≤ –º–æ–º–µ–Ω—Ç —Å–ª–µ—Ç–∞–µ—Ç —Ö–º–µ–ª—å.
–í–æ—Ç –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å –∫–∞–∫ —Ö–æ–ª–æ–¥–æ–º –ø–æ–¥—É–ª–æ:
–ü–æ–¥ —ç—Ç—É —Ü–∏—Ñ—Ä—É –ü—É—à–∫–∏–Ω –ø–æ–¥–≥–∞–¥–∞–ª —Å–µ–±–µ –¥—É—ç–ª—å
И Маяковский лёг виском на дуло <…>
(«О фатальных датах и цифрах», 1971)
–í—ã—Å–æ—Ü–∫–∏–π –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –ø–µ—Å–Ω—é —Å —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏—è, —á—Ç–æ –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–æ—ç—Ç–æ–º –º–æ–∂–µ—Ç —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ—Ç, –∫—Ç–æ —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–æ–≥–∏–±, –≤ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ ¬´–≤ —Ç–æ—á–Ω—ã–π —Å—Ä–æ–∫¬ª. –î–∞–ª–µ–µ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—ã —Ç–∞–∫–∏—Ö –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö: –¥–≤–æ–µ –±–µ–∑—ã–º—è–Ω–Ω—ã—Ö, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ä–æ–∫–æ–≤–æ–π —Å—Ç–∞–ª–∞ ¬´—Ü–∏—Ñ—Ä–∞ 26¬ª (–ø–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–æ–≤–µ–¥–æ–≤, —ç—Ç–æ ‚Äì –ú–∏—Ö–∞–∏–ª –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ –∏ –°–µ—Ä–≥–µ–π –ï—Å–µ–Ω–∏–Ω); —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ –∏–º–µ–Ω–∞–º, ¬´–ª—ë–≥—à–∏—Ö –Ω–∞ —Ä—É–±–µ–∂–µ¬ª 37 –ª–µ—Ç: –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ü—É—à–∫–∏–Ω; –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ú–∞—è–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π; –î–∂–æ—Ä–¥–∂ –ì–æ—Ä–¥–æ–Ω –ë–∞–π—Ä–æ–Ω; –ê—Ä—Ç—é—Ä –Ý–µ–º–±–æ.
Тема песни – безвременная гибель поэтов прошлого и мистические совпадения, связанные с ней, а также «несоответствие» современных поэтов эталону «поэта-мученика».
***
–î–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –≤ –¢–∞—Ä—Ö–∞–Ω–∞—Ö. –ë–æ–ª–µ–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä–µ–±—ë–Ω–æ–∫ –ø–æ—Å–ª–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–ø–µ—á–µ–Ω–∏–∏ –±–∞–±—É—à–∫–∏ –ï–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç—ã –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–Ω—ã –ê—Ä—Å–µ–Ω—å–µ–≤–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–µ–∂–Ω–æ –ª—é–±–∏–ª–∞ –≤–Ω—É–∫–∞, –≤–æ–∑–∏–ª–∞ –µ–≥–æ –Ω–∞ –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–µ –≤–æ–¥—ã.¬Ý
«Горы кавказские, – писал юный Лермонтов, – для меня священны».
–°—Ç–æ–ª—å –≤–∞–∂–Ω—ã–π –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ —Ç–æ–ø–æ–Ω–∏–º –≤–æ—à—ë–ª –≤ –µ–≥–æ –∂–∏–∑–Ω—å –≤ 1825 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –±–∞–±—É—à–∫–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –¥–ª—è —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏—è –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è –Ω–∞ –ö–∞–≤–∫–∞–∑.¬Ý
С сентября 1830 года поэт учился в Московском университете – сначала на нравственно-политическом, а затем на словесном отделении. Но из университета Лермонтову «пришлось» уйти.
–¢–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —É–µ—Ö–∞–ª –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥ –Ω–∞ –ù–µ–≤–µ. –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ –µ–≥–æ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –Ω–µ–≤–∑–ª—é–±–∏–ª, –∏ —ç—Ç–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –≤–∑–∞–∏–º–Ω—ã–º. –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–∏–π —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –∑–∞—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—É –¥–≤–∞ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –≥–æ–¥–∞ –æ–±—É—á–µ–Ω–∏—è. –ï–º—É –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞—Ç—å –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∫—É—Ä—Å.¬Ý
Лермонтов оскорбился. Он выдержал экзамен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Накануне поступления Михаил Юрьевич написал стихотворение-кредо «Парус»:
–ë–µ–ª–µ–µ—Ç –ø–∞—Ä—É—Å –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∏–π
–í —Ç—É–º–∞–Ω–µ –º–æ—Ä—è –≥–æ–ª—É–±–æ–º!..
–ß—Ç–æ –∏—â–µ—Ç –æ–Ω –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –¥–∞–ª—ë–∫–æ–π?
–ß—Ç–æ –∫–∏–Ω—É–ª –æ–Ω –≤ –∫—Ä–∞—é —Ä–æ–¥–Ω–æ–º?
Играют волны – ветер свищет,
–ò –º–∞—á—Ç–∞ –≥–Ω—ë—Ç—Å—è –∏ —Å–∫—Ä–∏–ø–∏—Ç...
–£–≤—ã! –æ–Ω —Å—á–∞—Å—Ç–∏—è –Ω–µ –∏—â–µ—Ç
–ò –Ω–µ –æ—Ç —Å—á–∞—Å—Ç–∏—è –±–µ–∂–∏—Ç!
–ü–æ–¥ –Ω–∏–º —Å—Ç—Ä—É—è —Å–≤–µ—Ç–ª–µ–π –ª–∞–∑—É—Ä–∏,
–ù–∞–¥ –Ω–∏–º –ª—É—á —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–π...
–ê –æ–Ω, –º—è—Ç–µ–∂–Ω—ã–π, –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç –±—É—Ä–∏,
–ö–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –≤ –±—É—Ä—è—Ö –µ—Å—Ç—å –ø–æ–∫–æ–π!
В школе его ждали муштра и рутина. Здесь «не позволялось читать книг чисто литературного содержания». Лермонтов называл годы учебы «страшными» и «злополучными».
–ü–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–∏ –®–∫–æ–ª—ã –≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–¥–ø—Ä–∞–ø–æ—Ä—â–∏–∫–æ–≤ –∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏—Ö —é–Ω–∫–µ—Ä–æ–≤ –æ–Ω —Å—Ç–∞–ª –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–º –õ–µ–π–±-–≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏ –≥—É—Å–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–∫–∞.¬Ý
В петербургский период поэт начал исторический роман на тему пугачевщины («Вадим»), написал несколько стихотворений («Молитва», «Ангел»), поэму «Боярин Орша», работал над драмой «Маскарад».
***
27 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1837 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞ –ß—ë—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ—á–∫–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –¥—É—ç–ª—å –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á–∞ –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ —Å –ñ–æ—Ä–∂–µ–º –î–∞–Ω—Ç–µ—Å–æ–º. –í–µ—Å—Ç—å –æ –≥–∏–±–µ–ª–∏ –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—É.¬Ý
–õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–µ 56 —Å—Ç—Ä–æ–∫ ¬´–°–º–µ—Ä—Ç–∏ –ø–æ—ç—Ç–∞¬ª. –°—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –≤ —Å–ø–∏—Å–∫–∞—Ö.¬Ý
¬´–°—Ç–∏—Ö–∏ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –Ω–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç—å –ø–æ—ç—Ç–∞, ‚Äì –æ—Ç–º–µ—á–∞–ª –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–π –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫ –ò–≤–∞–Ω –ü–∞–Ω–∞–µ–≤, ‚Äì –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –¥–µ—Å—è—Ç–∫–∞—Ö —Ç—ã—Å—è—á —ç–∫–∑–µ–º–ø–ª—è—Ä–æ–≤, –ø–µ—Ä–µ—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏ –≤—ã—É—á–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–∏–∑—É—Å—Ç—å –≤—Å–µ–º–∏¬ª.¬Ý
¬´–°–º–µ—Ä—Ç—å –ø–æ—ç—Ç–∞¬ª ‚Äì —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –≥–∏–±–µ–ª—å –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏—è –∏ –∫–∞–∫ –ª–∏—á–Ω–∞—è —É—Ç—Ä–∞—Ç–∞. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ø–∏—Å–∞—Ç—å –º–æ–≥ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–Ω–∞–ª –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞, –±—ã–ª –µ–º—É –±–æ–ª—å—à–∏–º –¥—Ä—É–≥–æ–º.¬Ý
–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á, —Ö–æ—Ç—è –∏ –Ω–µ –±—ã–ª –∑–Ω–∞–∫–æ–º —Å –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—ã–º, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –∑–Ω–∞–ª –æ –Ω—ë–º –∏ –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è—Ö.¬Ý
–í –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–µ –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ —Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª—Å—è –Ω–æ–º–µ—Ä –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∞ ¬´–ë–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–∞ –¥–ª—è —á—Ç–µ–Ω–∏—謪 —Å –ø–µ—Ä–≤–æ–π –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –ø–æ—ç–º–æ–π –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ ¬´–•–∞–¥–∂–∏ –ê–±—Ä–µ–∫¬ª.¬Ý
–ü—É—à–∫–∏–Ω—É, –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç –ø—Ä–æ–≤–∏–¥—á–µ—Å–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞ –æ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–µ:¬Ý
«Далеко мальчик пойдёт».
–ü–æ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º –°–º–∏—Ä–Ω–æ–≤–æ–π-–Ý–æ—Å—Å–µ—Ç, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–∏—á –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–ª –µ–≥–æ —É–µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é. –°—Ä–∞–≤–Ω–∏–≤–∞–ª —Å —Å–æ–±–æ–π, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ ¬´–∏–∑–≥–Ω–∞–Ω–∏–µ –º–æ–∂–µ—Ç —Å–æ—Å–ª—É–∂–∏—Ç—å –±–æ–ª—å—à—É—é –ø–æ–ª—å–∑—ɬª.¬Ý
–ù–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å—Å—è –¥–≤—É–º –≥–µ–Ω–∏—è–º —Ç–∞–∫, —É–≤—ã, –∏ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å.¬Ý
…7 февраля 1837 года Лермонтов написал 16 заключительных строк стихотворения:
–ê –≤—ã, –Ω–∞–¥–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∏
Известной подлостью прославленных отцов <…>
Наряду с «убийцей» виновными в гибели Пушкина Лермонтов называл высший петербургский свет и приближенных к «трону».
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –≤–∑—è–ª–∏ –ø–æ–¥ –∞—Ä–µ—Å—Ç. –Ý–∞–∑–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –ø—Ä–∏ –ª–∏—á–Ω–æ–º —É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è I. –ó–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –Æ—Ä—å–µ–≤–∏—á–∞ –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª—Å—è –í–∞—Å–∏–ª–∏–π –ñ—É–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –¥—Ä—É–∑—å—è –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞. –ú–Ω–æ–≥–æ —É—Å–∏–ª–∏–π, —á—Ç–æ–±—ã —Å–ø–∞—Å—Ç–∏ –≤–Ω—É–∫–∞, –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–ª–∞ –∏ –±–∞–±—É—à–∫–∞ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞, –∏–º–µ–≤—à–∞—è —Å–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–µ —Å–≤—è–∑–∏.¬Ý
***
–õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ ¬´—Å —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–µ–º —á–∏–Ω–∞¬ª –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞ –ö–∞–≤–∫–∞–∑, –≤ –ù–∏–∂–µ–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∏–π –¥—Ä–∞–≥—É–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ–ª–∫.¬Ý
–≠—Ç–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∞—è —Å—Å—ã–ª–∫–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –Æ—Ä—å–µ–≤–∏—á–∞ –¥–ª–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å–µ–≥–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤. –û–Ω —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –Ω–∞–¥ ¬´–ú—Ü—ã—Ä–∏¬ª –∏ ¬´–î–µ–º–æ–Ω–æ–º¬ª, –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª—Å—è —Å–æ —Å—Å—ã–ª—å–Ω—ã–º–∏ –¥–µ–∫–∞–±—Ä–∏—Å—Ç–∞–º–∏, –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª –ü—è—Ç–∏–≥–æ—Ä—Å–∫ —Å –µ–≥–æ ¬´–≤–æ–¥–Ω—ã–º –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º¬ª –∏ –¢–∏—Ñ–ª–∏—Å.¬Ý
Юношеская весёлость поэта почти исчезла. Лермонтов стал ещё более замкнутым, часто пребывал в «чёрной меланхолии».
***
В 1838 году благодаря хлопотам бабушки Лермонтов снова вернулся в Петербург, где его приняли в круг литературной элиты. Михаил Юрьевич стал одним из самых популярных писателей столицы. Журнал «Отечественные записки» Андрея Краевского почти в каждом номере публиковал новые стихотворения поэта.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞, –ø–æ—Å–ª–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏—è –≤ –¥—É—ç–ª–∏ ‚Äì —Å —Å—ã–Ω–æ–º —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–∞ –≠—Ä–Ω–µ—Å—Ç–æ–º –¥–µ –ë–∞—Ä–∞–Ω—Ç–æ–º, ‚Äì –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ö–∞–≤–∫–∞–∑ –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä—É—é —Å—Å—ã–ª–∫—É. –ï–º—É –ø—Ä–µ–¥–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –≤ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π –∞—Ä–º–∏–∏.¬Ý
–ú–∏—Ö–∞–∏–ª –Æ—Ä—å–µ–≤–∏—á —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤–æ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è—Ö, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –±–∏—Ç–≤–µ –Ω–∞ —Ä–µ–∫–µ –í–∞–ª–µ—Ä–∏–∫. –≠—Ç–æ–º—É –±–æ—é –æ–Ω –ø–æ—Å–≤—è—Ç–∏–ª —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ:
<…>Уже затихло всё; тела
–°—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –≤ –∫—É—á—É; –∫—Ä–æ–≤—å —Ç–µ–∫–ª–∞
–°—Ç—Ä—É–µ—é –¥—ã–º–Ω–æ–π –ø–æ –∫–∞–º–µ–Ω—å—è–º,
–ï–µ —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º –∏—Å–ø–∞—Ä–µ–Ω—å–µ–º
–ë—ã–ª –ø–æ–ª–æ–Ω –≤–æ–∑–¥—É—Ö. –ì–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª
–°–∏–¥–µ–ª –≤ —Ç–µ–Ω–∏ –Ω–∞ –±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω–µ
–ò –¥–æ–Ω–µ—Å–µ–Ω—å—è –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª.
–û–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –ª–µ—Å, –∫–∞–∫ –±—ã –≤ —Ç—É–º–∞–Ω–µ,
–°–∏–Ω–µ–ª –≤ –¥—ã–º—É –ø–æ—Ä–æ—Ö–æ–≤–æ–º.
–ê —Ç–∞–º –≤–¥–∞–ª–∏ –≥—Ä—è–¥–æ–π –Ω–µ—Å—Ç—Ä–æ–π–Ω–æ–π,
–ù–æ –≤–µ—á–Ω–æ –≥–æ—Ä–¥–æ–π –∏ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–π,
Тянулись горы – и Казбек
–°–≤–µ—Ä–∫–∞–ª –≥–ª–∞–≤–æ–π –æ—Å—Ç—Ä–æ–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–π.
–ò —Å –≥—Ä—É—Å—Ç—å—é —Ç–∞–π–Ω–æ–π –∏ —Å–µ—Ä–¥–µ—á–Ω–æ–π
–Ø –¥—É–º–∞–ª: –∂–∞–ª–∫–∏–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫.
–ß–µ–≥–æ –æ–Ω —Ö–æ—á–µ—Ç!.. –Ω–µ–±–æ —è—Å–Ω–æ,
–ü–æ–¥ –Ω–µ–±–æ–º –º–µ—Å—Ç–∞ –º–Ω–æ–≥–æ –≤—Å–µ–º,
–ù–æ –±–µ—Å–ø—Ä–µ—Å—Ç–∞–Ω–Ω–æ –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω–æ
Один враждует он – зачем?
–ì–∞–ª—É–± –ø—Ä–µ—Ä–≤–∞–ª –º–æ–µ –º–µ—á—Ç–∞–Ω—å–µ,
–£–¥–∞—Ä–∏–≤ –ø–æ –ø–ª–µ—á—É; –æ–Ω –±—ã–ª
–ö—É–Ω–∞–∫ –º–æ–π: —è –µ–≥–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª,
–ö–∞–∫ –º–µ—Å—Ç—É —ç—Ç–æ–º—É –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—å–µ?
–û–Ω –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –º–Ω–µ: –í–∞–ª–µ—Ä–∏–∫,
–ê –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Å—Ç—å –Ω–∞ –≤–∞—à —è–∑—ã–∫,
–¢–∞–∫ –±—É–¥–µ—Ç —Ä–µ—á–∫–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏: –≤–µ—Ä–Ω–æ,
–î–∞–Ω–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏.
– А сколько их дралось примерно
Сегодня? – Тысяч до семи.
– А много горцы потеряли?
– Как знать? – зачем вы не считали!
–î–∞! –±—É–¥–µ—Ç, –∫—Ç–æ-—Ç–æ —Ç—É—Ç —Å–∫–∞–∑–∞–ª,
–ò–º –≤ –ø–∞–º—è—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –∫—Ä–æ–≤–∞–≤—ã–π!
–ß–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –ª—É–∫–∞–≤–æ
И головою покачал <…>.
(Валерик /«Я к вам пишу случайно...»/, 1840)
***
На Кавказе поэт работал над романом «Герой нашего времени», первые главы которого были созданы за несколько лет до этого. Произведение печатали отрывками в журнале «Отечественные записки».
–ü–µ—Ä–≤—ã–π —Ç–∏—Ä–∞–∂ —Ä–æ–º–∞–Ω–∞ ¬´–ì–µ—Ä–æ–π –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏¬ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–≥–æ –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–æ–π, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª 1000 —ç–∫–∑–µ–º–ø–ª—è—Ä–æ–≤. –ü–æ —Ç–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º ‚Äì –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –º–Ω–æ–≥–æ. –ö–Ω–∏–≥—É —Ä–∞—Å–∫—É–ø–∏–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ.¬Ý
–¢–æ–ª—å–∫–æ –ü—É—à–∫–∏–Ω –≤ —Å–≤–æ—ë–º ¬´–ï–≤–≥–µ–Ω–∏–∏ –û–Ω–µ–≥–∏–Ω–µ¬ª –æ–ø–∏—Å–∞–ª –¥–æ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –æ—Å—Ç—Ä—ã–π –∫–æ–Ω—Ñ–ª–∏–∫—Ç –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–µ–≥–æ –º–∏—Ä–∞. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É ¬´–ì–µ—Ä–æ–µ–º –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏¬ª –∑–∞—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å, –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥—É.¬Ý
–ò –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∏, –∏ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏ —É–¥–∏–≤–ª—è–ª–∏—Å—å, –∫–∞–∫ 26-–ª–µ—Ç–Ω–µ–º—É —é–Ω–æ—à–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã—Ç—å –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π –º–∏—Ä –≥–µ—Ä–æ—è, –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫—É—é –¥—É—à—É, –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ –æ–ø–∏—Å–∞—Ç—å –ö–∞–≤–∫–∞–∑, –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π –∫–æ–ª–æ—Ä–∏—Ç –∏ –≥–æ—Ä—è—á–∏–µ –Ω—Ä–∞–≤—ã —á–µ—Ä–∫–µ—Å–æ–≤.¬Ý
¬´–ì–µ—Ä–æ–π –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏¬ª —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Ä–∞—Å–∫–æ–ª–æ–ª –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞ –¥–≤–∞ –ª–∞–≥–µ—Ä—è.¬Ý
–í –æ–¥–Ω–æ–º, —É—Å—Ç–∞–º–∏ —Å–∞–º–æ–≥–æ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è I, —Ä–æ–º–∞–Ω –∑–∞–∫–ª–µ–π–º–∏–ª–∏, –Ω–∞–∑–≤–∞–≤ –µ–≥–æ ¬´–∂–∞–ª–∫–æ–π –∫–Ω–∏–≥–æ–π, –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–≤–∞—é—â–µ–π –±–æ–ª—å—à—É—é –∏—Å–ø–æ—Ä—á–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –µ—ë –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞¬ª.¬Ý
–ê —ç—Ç–æ –º–Ω–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã:¬Ý
«Вот книга, которой суждено никогда не стареться, – писал Виссарион Белинский, – потому что, при самом рождении её, она была вспрыснута живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет нова… Перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, как все в нём просто, легко, обыкновенно и, в то же время, так проникнуто жизненно, мысленно, так широко, глубоко, возвышенно…».
***
В начале февраля 1841 года Лермонтов добился короткого отпуска в Петербург. Во время отпуска он приводил в порядок свои бумаги и ряд записей оставил соратникам – редактору и издателю «Отечественных записок» Андрею Краевскому, писателю Владимиру Одоевскому.
Лермонтов хлопотал о публикации поэмы «Демон», обдумывал план издания собственного журнала. Он хотел оставить службу, полностью посвятить себя литературной деятельности. Но этим и другим планам не суждено было сбыться.
–õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—É –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –≤—ã–π—Ç–∏ –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫—É. –í –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1841 –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ 48 —á–∞—Å–æ–≤ –≤—ã–µ—Ö–∞—Ç—å –∏–∑ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –Ω–∞ –ö–∞–≤–∫–∞–∑, –≤ –ø–æ–ª–∫.
***
–í –ü—è—Ç–∏–≥–æ—Ä—Å–∫–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –≤ –ø–æ–ª–∫, –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ —Å—Å–æ—Ä–∞ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ —Å –º–∞–π–æ—Ä–æ–º –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤—ã–º, –±—ã–≤—à–µ–º ¬´–¥—Ä—É–≥–æ–º¬ª, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –æ–Ω–∏ —É—á–∏–ª–∏—Å—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ –≤ –®–∫–æ–ª–µ –≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–¥–ø—Ä–∞–ø–æ—Ä—â–∏–∫–æ–≤ –∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏—Ö —é–Ω–∫–µ—Ä–æ–≤.¬Ý
–≠—Ç–∞ —Å—Å–æ—Ä–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ –Ω–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–∏–Ω–∫–µ –≤ –¥–æ–º–µ –í–µ—Ä–∑–∏–ª–∏–Ω—ã—Ö. –í–æ—Ç –∫–∞–∫ –æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç –µ—ë –≠. –ê. –®–∞–Ω-–ì–∏—Ä–µ–π, —É—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–Ω–∞—è –ö–ª–∏–Ω–≥–µ–Ω–±–µ—Ä–≥, –ø–∞–¥—á–µ—Ä–∏—Ü–∞ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –í–µ—Ä–∑–∏–ª–∏–Ω–∞:
«Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13 июля (по старому стилю – НГ) собралось к нам несколько девиц и мужчин, и порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее, и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: “М-llе Еmili, jе vоus еn рriе, un tour de valse seulement, роur lа derniere fois de ma vie” (Мадемуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни – фр.).
…Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык а gui mieux (наперебой – фр.).
Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его “montagnard au grand poignard” (горец с большим кинжалом – фр.).
(–ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤ –Ω–æ—Å–∏–ª —á–µ—Ä–∫–µ—Å–∫—É –∏ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –≤–µ–ª–∏—á–∏–Ω—ã –∫–∏–Ω–∂–∞–ª.) –ù–∞–¥–æ –∂–µ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫ —Å–ª—É—á–∏—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –¢—Ä—É–±–µ—Ü–∫–æ–π —É–¥–∞—Ä–∏–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –∞–∫–∫–æ—Ä–¥, —Å–ª–æ–≤–æ poignard —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ –≤—Å–µ–π –∑–∞–ª–µ.¬Ý
–ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤ –ø–æ–±–ª–µ–¥–Ω–µ–ª, –∑–∞–∫—É—Å–∏–ª –≥—É–±—ã, –≥–ª–∞–∑–∞ –µ–≥–æ —Å–≤–µ—Ä–∫–Ω—É–ª–∏ –≥–Ω–µ–≤–æ–º; –æ–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–∞–º –∏ –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º –≤–µ—Å—å–º–∞ —Å–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω—ã–º —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—É:¬Ý
“Только раз просил я вас оставить свои шутки при дамах”, – и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: “язык мой – враг мой”, Михаил Юрьевич отвечал спокойно: “Се nest rien; demain nous serons bons amis” (это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями – фр.).
–¢–∞–Ω—Ü—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏—Å—å, –∏ —è –¥—É–º–∞–ª–∞, —á—Ç–æ —Ç–µ–º –∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å—è —Å—Å–æ—Ä–∞. –ù–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–π –¥–µ–Ω—å –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ –∏ –°—Ç–æ–ª—ã–ø–∏–Ω –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –ñ–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–≤–æ–¥—Å–∫.¬Ý
После уже рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: “Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?”. Мартынов ответил решительно “да”, и тут же назначили день».
***
–Ý–æ–∫–æ–≤–∞—è –¥—É—ç–ª—å —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å —É –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –≥–æ—Ä—ã –ú–∞—à—É–∫ –≤–±–ª–∏–∑–∏ –ü—è—Ç–∏–≥–æ—Ä—Å–∫–∞.¬Ý
¬´‚Ķ–õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å, ‚Äì —É–∂–µ –≤ –Ω–∞—à–µ –≤—Ä–µ–º—è –æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª –¥—É—ç–ª—å –ø–æ —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞–º –æ—á–µ–≤–∏–¥—Ü–µ–≤ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –°–æ–ª–æ—É—Ö–∏–Ω. ‚Äì –û–Ω —Å—Ç–æ—è–ª, –¥–µ—Ä–∂–∞ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–º –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ù–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏–π, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –±—ã –ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤ ‚Äú–ø—Ä–æ–º–∞—Ö–Ω—É–ª—Å—è‚Äù, –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ —Ä–∞–∑—Ä—è–¥–∏–ª –±—ã —Å–≤–æ–π –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö. –ù–æ –ú–∞—Ä—Ç—ã–Ω–æ–≤ —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏—Ü–µ–ª–∏–ª—Å—è –≤ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ —Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –∏ —É–±–∏–ª –µ–≥–æ –Ω–∞–ø–æ–≤–∞–ª.¬Ý
Погасло синее небо. В одно мгновение погибли все замыслы, все ненаписанные стихи, поэмы, романы, будущий журнал, никто не знает, что погибло в одно мгновение…
Последние его стихи, записанные в “Тетрадь Одоевского”: “Сон”, “Спор”, “Утёс”, “Дубовый листок”, “Выхожу один я на дорогу” и, наконец, “Пророк”, последнее, что написал Лермонтов. Шедевры один ярче, лучше и глубже другого…».
…Лев Сергеевич Пушкин, младший брат великого поэта, как и Лермонтов, служил на Кавказе. По словам Полеводина, находившегося в день гибели Лермонтова в Пятигорске, «Лев Сергеевич: весьма убит смертию Лермонтова, он был лучший его приятель».
***
–õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤ —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–≤–æ—é –≥–∏–±–µ–ª—å. –ó–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤ –¥–æ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ —Ä–æ–∫–æ–≤–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è:
–í –ø–æ–ª–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã–π –∂–∞—Ä –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞
–° —Å–≤–∏–Ω—Ü–æ–º –≤ –≥—Ä—É–¥–∏ –ª–µ–∂–∞–ª –Ω–µ–¥–≤–∏–∂–∏–º —è;
–ì–ª—É–±–æ–∫–∞—è –µ—â—ë –¥—ã–º–∏–ª–∞—Å—å —Ä–∞–Ω–∞,
–ü–æ –∫–∞–ø–ª–µ –∫—Ä–æ–≤—å —Ç–æ—á–∏–ª–∞—Å—è –º–æ—è.
–õ–µ–∂–∞–ª –æ–¥–∏–Ω —è –Ω–∞ –ø–µ—Å–∫–µ –¥–æ–ª–∏–Ω—ã;
–£—Å—Ç—É–ø—ã —Å–∫–∞–ª —Ç–µ—Å–Ω–∏–ª–∏—Å—è –∫—Ä—É–≥–æ–º,
–ò —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –∂–≥–ª–æ –∏—Ö –∂—ë–ª—Ç—ã–µ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã
И жгло меня – но спал я мёртвым сном.
–ò —Å–Ω–∏–ª—Å—è –º–Ω–µ —Å–∏—è—é—â–∏–π –æ–≥–Ω—è–º–∏
–í–µ—á–µ—Ä–Ω–∏–π –ø–∏—Ä –≤ —Ä–æ–¥–∏–º–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ.
–ú–µ–∂ —é–Ω—ã—Ö –∂–µ–Ω, —É–≤–µ–Ω—á–∞–Ω–Ω—ã—Ö —Ü–≤–µ—Ç–∞–º–∏,
Шёл разговор весёлый обо мне <…>.
(–°–æ–Ω, 1841)
¬´‚Ķ–ß—Ç–æ –∂–µ —ç—Ç–æ, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –∑–∞ —á—É–¥–æ–≤–∏—â–µ, –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º–æ–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –Ω—É–∂–Ω–æ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ—Ä—Ç–≤ –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –¥–µ—Ç—è–º —Å–≤–æ–∏–º –ª–∏—à—å –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω—ã–π –≤—ã–±–æ—Ä –ø–æ–≥–∏–±–Ω—É—Ç—å –Ω—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤ —Å—Ä–µ–¥–µ, –≤—Ä–∞–∂–¥–µ–±–Ω–æ–π –≤—Å–µ–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–º—É –∏–ª–∏ —É–º–µ—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –∑–∞—Ä–µ —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏? ‚Äì –≤–æ—Å–∫–ª–∏—Ü–∞–ª –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ì–µ—Ä—Ü–µ–Ω. ‚Äì –≠—Ç–æ –±–µ–∑–¥–æ–Ω–Ω–∞—è –ø—É—á–∏–Ω–∞, –≥–¥–µ —Ç–æ–Ω—É—Ç –ª—É—á—à–∏–µ –ø–ª–æ–≤—Ü—ã, –≥–¥–µ –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏–µ —É—Å–∏–ª–∏—è, –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏–µ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç—ã, –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏—Å—á–µ–∑–∞—é—Ç –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, —á–µ–º —É—Å–ø–µ–≤–∞—é—Ç —á–µ–≥–æ-–ª–∏–±–æ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–Ω—É—Ç—å...¬ª.¬Ý
–ü–∞–≤–µ–ª –í–∏—Å–∫–æ–≤–∞—Ç–æ–≤, —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–∑—É—á–∞–≤—à–∏–π –∂–∏–∑–Ω—å –∏ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞, –ø–æ–¥—á—ë—Ä–∫–∏–≤–∞–ª:
«Мы находим много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут, потому что велись потаёнными средствами, но их главная пружина кроется в условиях жизни и деятельности характера графа Бенкендорфа».
***
–ü–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–ª–∏ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ 29 –∏—é–ª—è 1841 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ–º –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ –ü—è—Ç–∏–≥–æ—Ä—Å–∫–∞.¬Ý
–ù–æ —Å–ø—É—Å—Ç—è 250 –¥–Ω–µ–π –±–∞–±—É—à–∫–∞ –ú–∏—Ö–∞–∏–ª–∞ –Æ—Ä—å–µ–≤–∏—á–∞ –≤—ã—Ö–ª–æ–ø–æ—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–µ–Ω–∏–µ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –æ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–µ —Ç–µ–ª–∞ –≤ –¢–∞—Ä—Ö–∞–Ω—ã.¬Ý
–í –∞–ø—Ä–µ–ª–µ 1842 –≥–æ–¥–∞ —Ç–µ–ª–æ –≤ —Å–≤–∏–Ω—Ü–æ–≤–æ–º –≥—Ä–æ–±—É –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–ª–∏ –≤ —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–π —á–∞—Å–æ–≤–Ω–µ-—É—Å—ã–ø–∞–ª—å–Ω–∏—Ü–µ, —Ä—è–¥–æ–º —Å –¥–µ–¥–æ–º –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é.
«…Над могилой бабушка воздвигла памятник из чёрного мрамора, – рассказывает Тамара Михайловна Мельникова, – на нём золотыми буквами высекли: “Михайло Юрьевич Лермонтов. 1814-1841”». Её ли это было решение, или Елизавете Алексеевне была знакома запись в юношеской тетрадке внука: «Мое завещание… положите камень; и – пускай на нём ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!»?
–ù–∞—à–ª–∞ –≤ —Å–µ–±–µ —Å–∏–ª—ã –ï–ª–∏–∑–∞–≤–µ—Ç–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–Ω–∞, —Å—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–≤—à–∞—è –≤—Å–µ—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö, –∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –∏ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º —á–∞—Å–æ–≤–Ω–∏ –Ω–∞–¥ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏–º–∏ –µ–π –º–æ–≥–∏–ª–∞–º–∏, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –æ–Ω–∏ –ø–æ–¥ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º –Ω–µ–±–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –∏ –µ—ë –Ω–µ —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç.¬Ý
Часовню построили и освятили в том же году, а старый слуга поэта А.И. Соколов, запомнил, как «старая барыня… как только похоронили Михаила Юрьевича, тотчас же приказали вырыть из лесу и посадить вблизи часовни несколько молодых дубков, из которых принялся только один…».
Записавший это свидетельство И.Н. Захарьин-Якунин заметил: «Осуществилось отчасти и заветное желание поэта, выраженное им в своём вдохновенном стихотворении-молитве “Выхожу один я на дорогу…”:
<…>Я б желал навеки так заснуть,
–ß—Ç–æ–± –≤ –≥—Ä—É–¥–∏ –¥—Ä–µ–º–∞–ª–∏ –∂–∏–∑–Ω–∏ —Å–∏–ª—ã,
–ß—Ç–æ–±, –¥—ã—à–∞, –≤–∑–¥—ã–º–∞–ª–∞—Å—å —Ç–∏—Ö–æ –≥—Ä—É–¥—å;
–ß—Ç–æ–± –≤—Å—é –Ω–æ—á—å, –≤–µ—Å—å –¥–µ–Ω—å –º–æ–π —Å–ª—É—Ö –ª–µ–ª–µ—è
–ü—Ä–æ –ª—é–±–æ–≤—å –º–Ω–µ —Å–ª–∞–¥–∫–∏–π –≥–æ–ª–æ—Å –ø–µ–ª,
–ù–∞–¥–æ –º–Ω–æ–π —á—Ç–æ–±, –≤–µ—á–Ω–æ –∑–µ–ª–µ–Ω–µ—è,
Тёмный дуб склонялся и шумел <…>».
***
–¢–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Å–æ—á–µ—Ç–∞–ª–∏—Å—å –æ—Å—Ç—Ä—ã–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ç–µ–º—ã —Å —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏–º–∏ –º–æ—Ç–∏–≤–∞–º–∏ –∏ –ª–∏—á–Ω—ã–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ –Ω–∞ –ø–æ—ç—Ç–æ–≤ –∏ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π XIX‚ÄìXX –≤–µ–∫–æ–≤.¬Ý
По словам Виссариона Белинского, Лермонтов также, как и Пушкин, «принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них своё суждение».
¬´–ï—Å–ª–∏ –±—ã —ç—Ç–æ—Ç –º–∞–ª—å—á–∏–∫ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –∂–∏—Ç—å, ‚Äì –æ—Ç–º–µ—á–∞–ª –õ–µ–≤ –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π, ‚Äì –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –±—ã –Ω–∏ —è, –Ω–∏ –î–æ—Å—Ç–æ–µ–≤—Å–∫–∏–π¬ª.¬Ý
–õ–µ–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –µ–≥–æ —ç–ø–æ–ø–µ—è ¬´–í–æ–π–Ω–∞ –∏ –º–∏—Ĭª –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–∞ –∏–∑ –ª–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ ¬´–ë–æ—Ä–æ–¥–∏–Ω–æ¬ª. –û–Ω –∞–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ—Ç–Ω–æ –∑–∞—è–≤–ª—è–ª:¬Ý
«В его прозе нет ни одного лишнего слова. Ничего, ни одной запятой нельзя ни убавить, ни прибавить».
–ê –ê–Ω—Ç–æ–Ω –ß–µ—Ö–æ–≤ –∫–æ–Ω—Å—Ç–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª:¬Ý
¬´–Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é —è–∑—ã–∫–∞ –ª—É—á—à–µ, —á–µ–º —É –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞, ‚Ķ—è –±—ã —Ç–∞–∫ —Å–¥–µ–ª–∞–ª: –≤–∑—è–ª –µ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –∏ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞–ª –±—ã, –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—é—Ç –≤ —à–∫–æ–ª–∞—Ö, ‚Äì –ø–æ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è–º, –ø–æ —á–∞—Å—Ç—è–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è‚Ķ¬ª.¬Ý
–í—ã—Å–æ–∫–æ —Ü–µ–Ω–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏–µ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –ø–æ—ç—Ç—ã —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω–æ–≥–æ –≤–µ–∫–∞.¬Ý
«Наследие Лермонтова, – писал в 1920 году Александр Блок, – вошло в плоть и кровь русской литературы».
«…вся его поэзия, – считала Марина Цветаева, – подготовка к непостижимому подъёму на вершину его прозы…»
¬´–û–Ω –ø–æ–¥—Ä–∞–∂–∞–ª –≤ —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö –ü—É—à–∫–∏–Ω—É –∏ –ë–∞–π—Ä–æ–Ω—É –∏ –≤–¥—Ä—É–≥ –Ω–∞—á–∞–ª –ø–∏—Å–∞—Ç—å –Ω–µ—á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ, –≥–¥–µ –æ–Ω –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –ø–æ–¥—Ä–∞–∂–∞–ª, –∑–∞—Ç–æ –≤—Å–µ–º —É–∂–µ —Ü–µ–ª—ã–π –≤–µ–∫ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –ø–æ–¥—Ä–∞–∂–∞—Ç—å –µ–º—É, ‚Äì –ø–æ–¥—á–µ—Ä–∫–Ω—É–ª–∞ –≤ 1964 –≥–æ–¥—É –≤ –æ—á–µ—Ä–∫–µ ¬´–í—Å–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–≤–ª–∞—Å—Ç–Ω–æ –µ–º—ɬª –ê–Ω–Ω–∞ –ê—Ö–º–∞—Ç–æ–≤–∞. ‚Äì –ù–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –∏–±–æ –æ–Ω –≤–ª–∞–¥–µ–µ—Ç —Ç–µ–º, —á—Ç–æ —É –∞–∫—Ç—ë—Ä–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç ¬´—Å–æ—Ç–æ–π –∏–Ω—Ç–æ–Ω–∞—Ü–∏–µ–π¬ª.¬Ý
–°–ª–æ–≤–æ —Å–ª—É—à–∞–µ—Ç—Å—è –µ–≥–æ, –∫–∞–∫ –∑–º–µ—è –∑–∞–∫–ª–∏–Ω–∞—Ç–µ–ª—è: –æ—Ç –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–ª–æ—â–∞–¥–Ω–æ–π —ç–ø–∏–≥—Ä–∞–º–º—ã –¥–æ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã. –°–ª–æ–≤–∞, —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω—ã–µ –∏–º –æ –≤–ª—é–±–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–µ –∏–º–µ—é—Ç —Å–µ–±–µ —Ä–∞–≤–Ω—ã—Ö –Ω–∏ –≤ –∫–∞–∫–æ–π –∏–∑ –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –º–∏—Ä–∞. –≠—Ç–æ —Ç–∞–∫ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ, —Ç–∞–∫ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∏ —Ç–∞–∫ –±–µ–∑–¥–æ–Ω–Ω–æ...¬Ý
–Ø —É–∂–µ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—é –æ –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–∑–µ. –ó–¥–µ—Å—å –æ–Ω –æ–±–æ–≥–Ω–∞–ª —Å–∞–º–æ–≥–æ —Å–µ–±—è –Ω–∞ —Å—Ç–æ –ª–µ—Ç –∏ –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π –≤–µ—â–∏ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∞–µ—Ç –º–∏—Ñ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∑–∞ ‚Äì –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –ª–∏—à—å –∑—Ä–µ–ª–æ–≥–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞. –ò –¥–∞–∂–µ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω—ã–º –¥–ª—è –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –ª–∏—Ä–∏–∫–æ–≤ ‚Äì —Ç–µ–∞—Ç—Ä, ‚Äì –µ–º—É –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–≤–ª–∞—Å—Ç–Ω–æ...¬Ý
–î–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–≥–∏–ª–∞, –Ω–æ –∏ –º–µ—Å—Ç–æ –µ–≥–æ –≥–∏–±–µ–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã –ø–∞–º—è—Ç–∏ –æ –Ω—ë–º. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥ –ö–∞–≤–∫–∞–∑–æ–º –≤–∏—Ç–∞–µ—Ç –µ–≥–æ –¥—É—Ö, –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∏–∫–∞—è—Å—å —Å –¥—É—Ö–æ–º –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞: ¬´–ó–¥–µ—Å—å –ü—É—à–∫–∏–Ω–∞ –∏–∑–≥–Ω–∞–Ω—å–µ –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å –∏ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å –∏–∑–≥–Ω–∞–Ω—å–µ...¬ª.¬Ý
***
–í 1915 –≥–æ–¥—É –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –¥—É—ç–ª–∏ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞ –ø–æ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç—É —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç–æ—Ä–∞ –ë. –ú. –ú–∏–∫–µ—à–∏–Ω–∞ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –ø–æ—ç—Ç—É.¬Ý
¬´‚Ķ–ú—ã —Å–∫–æ—Ä–±–∏–º, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –ø–æ–º–Ω–∏–º, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç —Ü–µ–Ω–∏–º, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ–º, –∫—Ç–æ –±—ã–ª –∏ –µ—Å—Ç—å –¥–ª—è –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤, ‚Äì –æ—Ç–º–µ—á–∞–µ—Ç –¢–∞–º–∞—Ä–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–Ω–∞ –ú–µ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤–∞. ‚Äì –ò —ç—Ç–æ –ª—É—á—à–∏–π –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –ø–æ—ç—Ǘɬª.
¬Ý
–•—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∏: –ù. –°–∏–¥–æ—Ä–æ–≤, –ê. –ö–æ—Ä–æ–ª—å.