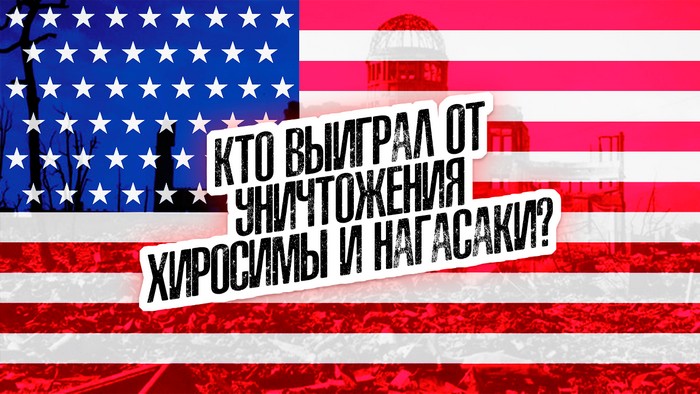¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –Є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥¬ї. –Р—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ-–њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л –Ї 80-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–±–µ–і—Л
¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А –Є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥¬ї. –Р—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ-–њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л –Ї 80-–ї–µ—В–Є—О –Я–Њ–±–µ–і—Л

...–Т–Њ—В —Г–ґ–µ –≤ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л –Љ–љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М —И—В—Г–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–і–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ–∞ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Я–Њ–≤–µ—Б—В—М –Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Т–Њ–є–љ–µ¬ї, –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –≤–Њ–ї–љ–Њ–є –њ–Њ—И–ї–Є –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ, –Ї—Г–і–∞ —П –Є—Е ¬Ђ–≤—Л–≤–∞–ї–Є–ї–∞¬ї, —Г–ґ–µ –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є —Б—В–∞–ї–Є –і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ–ЄвА¶
–Ъ–∞–Ї –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Љ–Њ–є –Љ–Є—А –њ–µ—А–µ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–Њ–Ї:
вАФ –Ш—А–Њ—З–Ї–∞, –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є—В–µ! –ѓ –љ–∞—И–ї–∞ –≤–∞—И—Г –Ї–љ–Є–≥—Г –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ–∞... –ѓ –Є–Ј –С–µ–ї–∞—А—Г—Б–Є, –і–µ—А–µ–≤–љ—П –°—В–∞—А–Њ—Б–µ–ї—М–µ, –≥–і–µ –≤ –†–∞—Ж–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –ї–µ—Б—Г –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і ¬Ђ–І–µ–Ї–Є—Б—В¬ї. –°–µ–є—З–∞—Б —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Ъ–Є—А–њ–Є—З–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –≥–і–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –≤–∞—И –і–µ–і. –Ъ–љ–Є–≥–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤—Л–є–і–µ—В. –Ь—Г–Ј–µ–є –≥. –®–Ї–ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—В –љ–∞ –њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ –±—А–Є–≥–∞–і—Л ¬Ђ–І–µ–Ї–Є—Б—В¬ї. –Х—Б–ї–Є –Т–∞–Љ —Н—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —В–Њ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ–Є—В–µ—Б—М –Є –Њ—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–≤–Њ–Є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л.
–Т–Њ—В —Н—В–Њ –і–∞! –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Њ —В–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Т–Њ–є–љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д—Г—А–∞–ґ–Ї–µ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–∞, —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є, —Б –≤–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є 1944 –≥–Њ–і–∞ —Б–Є–і–Є—В —А—П–і–Њ–Љ —Б –Љ–Њ–Є–Љ –і–µ–і–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Є —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–≤—И–Є–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В –Є—Б–њ—Л—В—Г—О—Й–µ –≤ —Г–њ–Њ—А —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ –љ–∞—Б, –љ—Л–љ–µ –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—ЕвА¶ –Ь—Л —Б–њ–Є—Б–∞–ї–Є—Б—М –Є –Њ–±–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ–Є –Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Э–∞ —А—Г–Ї–∞—Е —Г –Ю–ї—М–≥–Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є –≤—В–Њ—А–∞—П —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–∞—П —В–µ–Љ –ґ–µ –≤–Њ–µ–љ–Ї–Њ—А–Њ–Љ —Б ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є¬ї –≤ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є, –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–є –Љ–Њ–µ–Љ—Г –і–µ–і—Г –і–µ–љ—М —Б—К—С–Љ–Њ–Ї 1 –Љ–∞—П 1944 –≥–Њ–і–∞.¬†
  
 
–Ф–µ–і –Ь–Є—И–∞-–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А вАФ¬†–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А—П–і—Г –њ–Њ —Ж–µ–љ—В—А—Г вАФ¬†–Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і "–І–µ–Ї–Є—Б—В".
–Ф–µ–і –Ь–Є—И–∞, –љ–Њ–≤–∞—П —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Њ—В—А—П–і–∞ "–І–µ–Ї–Є—Б—В"¬†–Є–Ј –°—В–∞—А–Њ—Б–µ–ї—М—П
–°—В–∞–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Є–Љ –ґ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л ¬Ђ–І–µ–Ї–Є—Б—В¬ї, –У.–Р. –Ъ–Є—А–њ–Є—З —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –і–µ–ї, –∞ 8 –Є—О–ї—П 1944 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–≤—С–ї –≤ –≥–Њ—А–і–Њ–Љ —В—А–Є—Г–Љ—Д–µ —Б–≤–Њ–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Љ–∞—Б—В–љ—Л–µ, –љ–Њ –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–µ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –Є–Љ–Є –ґ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –®–Ї–ї–Њ–≤–∞! –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–∞—П –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М, –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥, —Г–ґ–µ –≤ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ, –≤ 1984 –≥–Њ–і—Г –љ–∞–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Ї–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е, –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ—Л—Е –і–љ—П—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ –Ј–≤–µ—А–µ–Љ.
–Ь–µ–Љ—Г–∞—А—Л –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ вАФ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л –Є–Ј –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л–є –Ї–∞–ї–µ–є–і–Њ—Б–Ї–Њ–њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —П—А–Ї–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ –≥–Њ–і–∞—Е –ї–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–µ—В! –≠—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є —Б–Ї—А—Г–њ—Г–ї—С–Ј–љ—Л–є —В—А—Г–і –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –†–Ъ–Ъ–Р —Б 1932 –≥–Њ–і–∞, –Є–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї: –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–µ–љ—В—А –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л вАФ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, —Г—Б–њ–µ—Е–Є –Є –њ—А–Њ–≤–∞–ї—Л, –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —В—А–Њ—Д–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤, —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Њ–≤, –њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і –Њ—В–Ї–Њ—Б, —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л—Е ¬Ђ–Њ–њ–Њ—А–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤¬ї –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤вА¶ –≤—Б—П –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–∞—П –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М—О –Є –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤—Л–Љ –і—Л–Љ–Њ–Љ. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л ¬Ђ–І–µ–Ї–Є—Б—В¬ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –≤ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –С–µ–ї–∞—А—Г—Б—М. –Р —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л, –≤–Є–і–µ–≤—И–Є–µ –Є—Е, –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–µ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –њ–Њ –Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ —З–Є—В–∞–ї–Є —Н—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Ї–∞–Ї –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–Љ–∞–љ вАФ —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А–Є–Ї–Є, —А—С–≤ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є, –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–љ–∞—П –Є –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В–љ–∞—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞, –Ї—А–Є–Ї–Є –Є—Б—В—П–Ј–∞–µ–Љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –ЄвА¶ –њ–µ—Б–љ–Є! –Ф–∞, –і–∞–ґ–µ —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є –Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ъ–Є—А–њ–Є—З –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Б–≤–Њ–є –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–µ-–і–ї–Є–љ–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є вАФ —Б–Њ—З–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ–Є –≤ —Б–≤—П—В–Њ–Љ –њ–Њ—А—Л–≤–µ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П.¬†
–Ш—В–∞–Ї, –≤–Ї—А–∞—В—Ж–µ –Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Э–µ–Љ–µ—А–Ї–љ—Г—Й–∞—П —Б–ї–∞–≤–∞¬ї –У.–Р. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–∞
–Ь–ї–∞–і—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ –Ъ–Є—А–њ–Є—З, –њ–Њ–њ–∞–≤ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –®–Ї–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —Б—Г–Љ–µ–ї —Б–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –Ъ–Њ–Љ–њ–∞—А—В–Є–Є –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є. –Я–Њ –µ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ —В—Л–ї—Г –≤—А–∞–≥–∞ –Є —Б—Г–Љ–µ–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е. –Ь—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ –Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П, –≤—Л–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є. –Т –Є—О–ї–µ 1942 –≥–Њ–і–∞ –±—А–Є–≥–∞–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј 9 –Њ—В—А—П–і–Њ–≤, —В—А—С—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ—П—В—М —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤.
–Т –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1942 –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ—З–µ–Ї–Є—Б—В—Л¬ї —Г–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–Є 30 –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–≤, 307 –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤ —Б –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є 14 –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ —Б —В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є, –Є—Б—В—А–µ–±–Є–ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 4 —В—Л—Б—П—З –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Р –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1943 –≥–Њ–і–∞ –Є–Ј –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ъ–Є—А–њ–Є—З–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ 3 –Њ—В—А—П–і–∞ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О 500 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і–ї—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –±—А–Є–≥–∞–і–µ ¬Ђ–І–µ–Ї–Є—Б—В¬ї –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М 1 850 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї! –Т –љ–∞–≥—А–∞–і–љ–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ –љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –Ј–≤–∞–љ–Є—О –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –У.–Р. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Њ–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Л–≤–Њ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–Є —Б–Є–ї—Л —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ–Є.
28 –Є—О–љ—П 1944 –≥–Њ–і–∞ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–∞—П –±—А–Є–≥–∞–і–∞ ¬Ђ–І–µ–Ї–Є—Б—В¬ї —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞—Б—М —Б —В–∞–љ–Ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –С—Г—А–і–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М –У–Њ–µ–љ–Ї–∞ вАФ –Ч–∞–і–љ–Є–є –С–Њ—А –Ъ—А—Г–≥–ї—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Є 8 –Є—О–ї—П –њ—А–Њ—И–ї–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Љ –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –®–Ї–ї–Њ–≤–∞. –Я–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –і–Њ 12 —В—Л—Б—П—З –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–Њ–і–Є–љ—Л, –њ—Г—Й–µ–љ–Њ –њ–Њ–і –Њ—В–Ї–Њ—Б 265 –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Њ–≤, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–Њ 372 –∞–≤—В–Њ- –Є –±—А–Њ–љ–µ–Љ–∞—И–Є–љ—Л, —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–ї–µ–љ—Л –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–Њ–≤. –С—А–Є–≥–∞–і–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ –Љ–µ–ґ–і—Г—А–µ—З—М—П –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Л, –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 2 500 –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –њ—А–Њ—И–ї–Є –њ–Њ–±–µ–і–љ—Л–є –њ—Г—В—М –і–Њ –С–µ—А–ї–Є–љ–∞. –Ч–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –њ–µ—А–µ–і –†–Њ–і–Є–љ–Њ–є —Б–∞–Љ –У.–Р. –Ъ–Є—А–њ–Є—З –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ:
- –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л (1942), –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ II —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є (1944),¬†
- ¬Ђ–Ч–љ–∞–Ї –Я–Њ—З–µ—В–∞¬ї (1944),¬†
- –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є ¬Ђ–Я–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї I –Є II —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, ¬Ђ–Ч–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞–і –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є¬ї, ¬Ђ–Ч–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є¬ї, –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —О–±–Є–ї–µ–є–љ—Л–Љ–Є.
- 30 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1994 –≥. –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З—Г –Ъ–Є—А–њ–Є—З—Г –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –®–Ї–ї–Њ–≤–∞.
–Ь—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—В –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е —Б—В—Л—З–µ–Ї, ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–∞—А–Є–љ—Л—Е —Г–Ї—Г—Б–Њ–≤¬ї –і–ї—П –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤, –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ—З–µ–Ї–Є—Б—В–Њ–≤¬ї –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є –і–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞–љ—С—Б—И–Є—Е –Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—А–∞–≥—Г, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤. –Ш –≤—Б—С —Н—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ј–≤—С—А–љ—Г—В–Њ –≤ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–µ, —А–∞—Б—Ж–≤–µ—З–µ–љ–Њ –±—Л—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞–Љ–Є. –Р–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –љ–∞–Љ —Ж–µ–ї—Л–µ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –ї–Є—Ж —Б –Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л —В–Њ—З–љ—Л–µ —Ж–Є—Д—А—Л –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—С—В–∞, –Є–Љ–µ–љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ—Е, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–≤—И–Є—Е –Є–Ј–≥–љ–∞—В—М —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞ —Б –љ–∞—И–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є вАФ –Є–Љ–µ–љ–∞ –≥–µ—А–Њ–µ–≤: –ґ–Є–≤—Л—Е –Є –њ–∞–≤—И–Є—Е —Б–Љ–µ—А—В—М—О —Е—А–∞–±—А—Л—ЕвА¶
–Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М, —З—В–Њ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л –і–≤—Г—Е –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ: –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л ¬Ђ–І–µ–Ї–Є—Б—В¬ї –Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–і–∞, –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞ –Њ—В—А—П–і–∞, –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –±–Њ–ї–µ–µ —Ж–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –Ј—А–Є–Љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј —В–µ—Е –≥–Њ—А—П—З–Є—Е –і–љ–µ–є. –Я–Њ–ї–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –У.–Р. –Ъ–Є—А–њ–Є—З–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –®–Ї–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—А–∞–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –≤ 2025 –≥–Њ–і—Г, –∞ –Ј–і–µ—Б—М, –њ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П –Ы.–Т. –°–Є–ї–Є–≤—С—А—Б—В–Њ–≤–Њ–є, —П –њ—А–Є–≤–Њ–ґ—Г —П—А–Ї–Є–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є, —В–µ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Є–ї–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–µ –Є–ї–Є –њ–Њ—П—Б–љ—П—О—Й–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–µ–і–∞, –Я–Є—З—Г–≥–Є–љ–∞ –Ь.–Я.
¬Ђ–Э–µ—В –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–µ–Љ—М–Є —В–∞–Ї–Њ–є,
–У–і–µ –± –љ–µ –њ–∞–Љ—П—В–µ–љ –±—Л–ї —Б–≤–Њ–є –≥–µ—А–Њ–євА¶¬ї
–У–Њ—А—П—З–Є–є, —З–Є—Б—В—Л–є –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї –±–µ—Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞ —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, —Г—И–µ–і—И–µ–≥–Њ, –љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї—А–Њ–≤–Є –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є, –Њ—З–Є—Й–∞–µ—В –і—Г—И—Г –Є –Њ–Љ—Л–≤–∞–µ—В —А–∞–љ—Л —Г–ґ–µ —Н—В–Њ–є, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–Љ –≤–Њ–є–љ—Л —Б —В–µ–Љ –ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—З–љ—Л–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї –њ—Г—Б—В—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —В–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –Њ–Ї—А–∞—Б—П—В –љ–∞—И –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –љ–µ–±–Њ—Б–Ї–ї–Њ–љ –∞–ї–Њ–є –Ј–∞—А—С–є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–∞.
–Ю—В—А—Л–≤–Ї–Є –і–∞–љ—Л –≤ –Љ–Њ–µ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є¬†
(–Ґ–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ)
–Э–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —В—А–Њ–њ—Л
–У–і–µ –ї–µ—Б —И—Г–Љ–Є—В, –Є –Љ–Њ–Ї–љ—Г—В —В–Њ–њ–Є,
–Ц—Г—А—З–Є—В –њ–Њ–і –Ї—А—Г—З–µ—О —А—Г—З–µ–є, вАФ
–Э–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —В—А–Њ–њ—Л
–Я–ї–µ–љ—П—В –ї–µ–≥–µ–љ–і–Њ—О —Б–≤–Њ–µ–є.
–Ю —З—С–Љ —И—Г–Љ–Є—В —В–Њ—В –ї–µ—Б –і—А–µ–Љ—Г—З–Є–є,
–Ю —З—С–Љ —Б –≤–µ—В—А–∞–Љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В?
–Ш–ї—М —В–Њ —А—Г—З–µ–є –њ–Њ–і —Е–Љ—Г—А–Њ–є –Ї—А—Г—З–µ–є вАФ
–Ю —З—С–Љ –±–µ–Ј —Г–Љ–Њ–ї–Ї—Г —И—Г–Љ–Є—В?
–С—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М —В–µ –≥–Њ–і—Л,
–І—В–Њ –љ–∞—А—П–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–µ–і–Є–љ—Л,
–Ш –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л,
–Ш –Ї—А–∞–є —А–Њ–і–љ–Њ–є –≤ –Њ–≥–љ–µ –≤–Њ–є–љ—Л?
–Ъ–Њ–≥–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –≥–ї—Г—Е–Є–µ —В–Њ–њ–Є
–Т –љ–Њ—З–љ—Г—О —В–µ–Љ–µ–љ—М, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —В—Г–Љ–∞–љ
–®–ї–Є –≤ –±–Њ–є —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –њ–Њ —Н—В–Є–Љ —В—А–Њ–њ–∞–Љ
–Ю—В—А—П–і—Л —Б–Љ–µ–ї—Л—Е –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ.
–Ш–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–љ—М—О
–Я–Њ–і —Б–≤–Є—Б—В –Є —В—А–µ–ї–Є —Б–Њ–ї–Њ–≤—М—П
–Ч–і–µ—Б—М –Њ–±–Љ—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —А–∞–љ—Л
–С–Њ–є—Ж—Л —Г —Б–≤–µ—В–ї–Њ–≥–Њ —А—Г—З—М—П.
–Ы—О–±–ї—О —В–µ–±—П, –Љ–Њ–є –Ї—А–∞–є —А–Њ–і–Є–Љ—Л–є,
–Ы–∞–Ј—Г—А–љ—Л–є –±–ї–µ—Б–Ї —В–≤–Њ–Є—Е –Њ–Ј—С—А,
–Я—А–Њ—Б—В–Њ—А –њ–Њ–ї–µ–є –љ–µ–Њ–±–Њ–Ј—А–Є–Љ—Л–є
–Ш –ї–µ—Б–∞ –њ—В–Є—З–Є–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А.
–Ч–і–µ—Б—М –≤—Б—С –Љ–љ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ, –≤—Б—С –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ,
–Ч–і–µ—Б—М –≥—А–Њ–Љ—З–µ —Б–ї—Л—И–µ–љ —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Б—В—Г–Ї.
–°—В–Њ—П—В –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–љ–Њ –Њ–±–µ–ї–Є—Б–Ї–Є,
–Ъ–∞–Ї —З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г.
(1971 –≥–Њ–і, –Ш–Њ—Б–Є—Д –Ъ–Њ–ґ–µ–≤)
–Э–µ–Љ–µ—А–Ї–љ—Г—Й–∞—П —Б–ї–∞–≤–∞ (–У.–Р. –Ъ–Є—А–њ–Є—З)
–Ю—В—А—Л–≤–Ї–Є –Є–Ј –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –і–∞–љ—Л –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –Є —Б –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Ш.–Я–Є—З—Г–≥–Є–љ–Њ–є

–Р–≤—В–Њ—А –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥ –У.–Р. –Ъ–Є—А–њ–Є—З
–Ю—В –С—Г–≥–∞ –і–Њ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ (—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Љ—Г–Ї–∞–Љ, 1941 –≥–Њ–і)¬†
–Э–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –≤ 1940-–Љ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1941-–≥–Њ –≥–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —П–≤–љ–Њ –љ–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ: —З–∞—Б—В–Њ —И–∞–ї–Є–ї–Є –±–∞–љ–і—Л, –∞–≥–µ–љ—В—Л ¬Ђ–Р–±–≤–µ—А–∞¬ї, –љ–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Т–Є–ї—М–≥–µ–ї—М–Љ –Ъ–∞–љ–∞—А–Є—Б –љ–µ —Б–Ї—Г–њ–Є–ї—Б—П –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Ј–∞—Б—Л–ї–∞–ї –≤ –љ–∞—И —В—Л–ї. вА¶–Э–∞–њ–ї—Л–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–љ–і –Є –∞–≥–µ–љ—В—Г—А—Л –≤—Б–µ—Е –Љ–∞—Б—В–µ–є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1941 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞—И–Є–Љ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–Љ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–∞–Љ –Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –≤–µ—Б—В–Є –±–Њ—А—М–±—Г —Б –і–Є–≤–µ—А—Б–∞–љ—В–∞–Љ–Є. –Я–µ—А–µ–≤–µ—Б –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –±—Л–ї –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –≤ —З—С–Љ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–Є –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Є –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –І–Є–ґ–µ–≤–∞ –Є –Ч–∞–Љ–±—А–Њ–≤–∞ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П—В—М –≤ –Љ–∞—А—В–µ-–∞–њ—А–µ–ї–µ 1941 –≥–Њ–і–∞, —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 40 –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ –Ј—Г–±–Њ–≤ –±–∞–љ–і–Є—В–Њ–≤ –Є –Є—Е –≥–ї–∞–≤–∞—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –і–Є–≤–µ—А—Б–Є–Є –љ–∞ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞—Е. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Є –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е 88-–≥–Њ –®–µ–њ–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є 89-–≥–Њ –С—А–µ—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–Њ–≤.¬†
–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є –±–∞–љ–і–Є—В—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –Є –≤ –Љ–∞–µ —Г–µ—Е–∞–ї –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г, —З–µ—Б—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Б –љ–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –і—Г—И–Њ–є. –Х–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В—Л –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ, —Г–≥–ї—Г–±–ї—П—П—Б—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є —В—Л–ї —Б —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О. –Ь—Л —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г—В—М –≤ –ї—О–±–Њ–є –і–µ–љ—М. –Я–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞ –С—Г–≥–Њ–Љ, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤—Б–µ—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –Љ–Њ—Й—М, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–µ–ї—М –љ–∞–Љ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ–Є –≤ –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–µ –Њ—В–≥—Г–ї—П–ї —П –љ–∞ —Б–≤–∞–і—М–±–µ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж—Л, –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–ї –≤ –Ї—А—Г–≥—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–µ–Љ—М–Є, –љ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—П –љ–Є –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г.
–Т –њ–µ—А–≤—Л—Е —З–Є—Б–ї–∞—Е –Є—О–љ—П —П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г —Б–ї—Г–ґ–±—ЛвА¶ –≤ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–Њ –Ф—А–Њ–≥–Є—З–µ–љ–Њ –љ–∞–і –С—Г–≥–Њ–Љ –≤ —Б–≤–Њ—О –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г 89-–≥–Њ –С—А–µ—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –Э–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, –Њ—Е—А–∞–љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Г ¬Ђ–љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –І–∞—Б—В–Њ –љ–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—В—М –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤—Л –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л вАФ –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–∞: —А–∞–Ј –Ј–∞ —А–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є, –њ–Њ–ґ–∞—А—Л, –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—Л. –Х–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Г –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –Э–∞ —В–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ–Ї, —Г–ґ–µ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В—Л –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–Є –љ–∞—И–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Ґ–∞–Ї —И—С–ї –і–µ–љ—М –Ј–∞ –і–љ–µ–Љ, –љ–µ–і–µ–ї—П –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї–µ–є. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Љ—Л –≤—Б–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–±—Л–ї–Є –Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–љ–µ –Є –Њ—В–і—Л—Е–µ, –љ–Њ –≤—Б—С –ґ–µ, —Е—Г–і—И–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є. –Ф–∞ –Є –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Љ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —И—В–∞–±–∞—Е —Г–ґ–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –њ–ї–∞–љ –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, —З—В–Њ –љ–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—О –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ–ї–Њ —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ —З–∞—Б—Л!
–Т–і—А—Г–≥, 21 –Є—О–љ—П, –Љ–љ–µ –Є –Љ–Њ–µ–Љ—Г –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—О –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В—З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Є—В—А—Г–Ї—Г –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Г –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤–∞: –≤—Б–µ–Љ –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Є —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –®–µ–њ–µ—В–Њ–≤–Њ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –≥–і–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П —И—В–∞–± 88-–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–∞ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –£–Я–Т–Ю –Э–Ъ–У–С. –Я—А–Є–±—Л–ї–Є —В—Г–і–∞, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –±—Г–і–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —И—В–∞–±–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ: –≤—Б–µ–Љ—Г –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г —Б–і–∞—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б—Л –Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Л–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –С—А–µ—Б—В—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ 89-–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –Ї—Г–і–∞ —Г–µ–і—Г—В –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ. ¬† –Ь–љ–µ –Є –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –Є–≥—А—Г —Д—Г—В–±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і 87-–≥–Њ –Є 88-–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–∞, –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г–≤ –≤ –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ—Б—П –≤—А–µ–Љ—П, –Љ—Л —Б –њ–Њ–ї–Є—В—А—Г–Ї–Њ–Љ —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–∞ –Љ–∞–є–Њ—А –Р.–°. –Ч–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є.¬†
–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –Ї—А–∞—В–Њ–Ї:¬†
вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л, –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—П–µ—В—Б—П. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –С—Г–≥–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞-–±–µ–ї–Њ—А—Г—Б–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–ї—П—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–±–µ–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ–Љ—Ж—Л –≤–Њ—В-–≤–Њ—В –љ–∞—З–љ—Г—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—Б –≤–Њ–є–љ—Г. –Ч–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П —Б—В–Њ–Є—В, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –њ–µ—А–≤—Л–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л. –Ш–Ј ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А–∞¬ї –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ —И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–∞: ¬Ђ–Ч–∞—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О¬ї. –Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –≤—Б–µ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ—Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г —А–∞–Ј—К–µ—Е–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–∞–Љ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ –Ї –ї—О–±—Л–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ. –°—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ъ–Є—А–њ–Є—З–∞ –У.–Р. –њ—А–Њ—И—Г –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П.
вАФ –Ы–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞, вАФ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї —П –Ч–Є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–і–љ–Є.¬†
вАФ –°—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—О, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —Г–ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, —Б—В–∞—А—И–Њ–є, –≤–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П 89-–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–∞. –Ґ–µ–±–µ –Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—О —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—О –Ј–∞—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –≤ –Ф—А–Њ–≥–Є—З–Є–љ–Њ –Ј–∞ —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є –Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є. –Ф–∞, —В–µ–±—П –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ј–∞–є—В–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А —В–Њ–≤. –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤.
–С–µ—Б–µ–і–∞ —Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –µ—Й—С –Ї–Њ—А–Њ—З–µ:
вАФ –І–µ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–і–∞—В—М, —П –≤–∞–Љ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г. –°–Њ–≤–µ—В—Г—О, –µ—Б–ї–Є —Е–Њ—В–Є—В–µ, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±–µ–Ј–≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–≤—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–Љ –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ. –Т –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Ј–∞–і–∞—З–Є –±—Г–і–µ—В–µ —А–µ—И–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –љ–µ—В? –Ф–µ–є—Б—В–≤—Г–є—В–µ. –Ю–љ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–ґ–∞–ї –Љ–љ–µ —А—Г–Ї—Г: ¬Ђ–°—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є!¬ї
–Ш–Ј –®–µ–њ–µ—В–Њ–≤–∞ –Љ—Л —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –≤ 12 –љ–Њ—З–Є –Є –≤ 3 —З–∞—Б–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –І–µ—А–µ–Љ—Е–∞ (–љ—Л–љ–µ –Я–Њ–ї—М—И–∞), —В–∞–Љ –њ–µ—А–µ—Б–∞–і–Ї–∞, –≥–і–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–∞—Б–∞ –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –≤ –°–Є–Љ—П—В–Є—З–Є. –Т–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, —П –љ–µ–Љ–µ–і–ї—П –њ—А–Є–Ї–Њ—А–љ—Г–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П. –£—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М –Є –Љ–∞—Б—Б–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є —Б–Љ–Њ—А–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П. –Ю—З–љ—Г–ї—Б—П —П –Њ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—З–Ї–∞:
вАФ –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–є—Б—П, вАФ –њ–Њ–±–µ–ї–µ–≤—И–Є–Љ–Є –≥—Г–±–∞–Љ–Є —И–µ–њ—З–µ—В –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤.
вАФ –І—В–Њ, –ї—О–і–Є –љ–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Ї—Г —Г—И–ї–Є? –У—А–Њ–Ј–∞, –і–Њ–ґ–і—М –ґ–µ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ? вАФ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—П —Б–њ—А–Њ—Б–Њ–љ—М—П, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О —П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞.
–Э–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤, —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–µ–Љ—М–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е. –Ш –≤–Њ—В –Ї –љ–∞–Љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –≥—А—Г–і–љ—Л–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е.¬†
вАФ –Ь—Л –ґ–µ–љ—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤. –Ь—Г–ґ—М—П —Г–±–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ –≤ 3 —З–∞—Б–∞ –љ–Њ—З–Є, –Є –Љ—Л –Њ –љ–Є—Е –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ.¬†
вАФ –І—В–Њ –љ–∞–Љ –і–µ–ї–∞—В—М? вАФ –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–љ–Є.¬†
–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е, —З—В–Њ —Б –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е, –Њ—В—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –ґ–µ–љ–Њ–є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ъ—А–µ–љ–µ–≤–∞ –°–µ—А–≥–µ—П, –Ы—О–±–Њ–≤—М—О –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–Њ–є. –Ь—Л –Є–Љ –њ–Њ—Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, –љ–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Б –љ–Є–Љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Є–Љ –њ–µ—А–µ–ґ–і–∞—В—М —Г –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–Ї–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞: –њ—А–Њ–є–і–µ—В —Д—А–Њ–љ—В –Є–ї–Є –љ–∞—И–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ—В–≥–Њ–љ—П—В —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤. –Ю–љ–Є –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–≤–∞–ї–Є, –Љ—Л —А–∞—Б–њ—А–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Є —Г—И–ї–Є.
вАФ –Э–Є—З–µ–≥–Њ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є, –љ–µ –Ј–љ–∞—О. –°–≤—П–Ј–Є –љ–µ—В, —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П. –ѓ –і—Г–Љ–∞–ї —Г –≤–∞—Б —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–Њ–≤–Њ–µ —Г–Ј–љ–∞—В—М. –Я–Њ—Б—В–Њ–є—В–µ, –∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ?¬†
–Я—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –љ–∞—Б –±–µ–ґ–∞–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ —И—В–∞—В—Б–Ї–Є—Е, –∞ —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –°–Є–Љ—П—В–Є—З—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—В—Г—А—Л. –Ю—В –љ–Є—Е —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ф—А–Њ–≥–Є—З–Є–љ–Њ, —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –°–Є–Љ—П—В–Є—З–Є –Є –°–Є–Љ—П—В–Є—З—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Ј–∞—Б—В–∞–≤–∞ –Ј–∞–љ—П—В—Л –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Л –°–µ–Љ—С–љ–Њ–≤ –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М —Г–±–Є—В—Л, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ–Љ—Ж—Л —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є. вА¶–Э–∞–Љ –Њ–њ—П—В—М –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –І–µ—А–µ–Љ—Е—Г. –Ґ—Г—В —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —Г–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ–µ–Ј–і –љ–∞ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Б–Ї вАФ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –Ї—Г–і–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ –њ—Г—В—М. –Р –Њ—В –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Б–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї.
–С–µ–ґ–µ–љ—Ж—Л —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–µ–Ј–і. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –Љ—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е, –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–∞–і–Є–ї–Є –≤—Б–µ—Е. –Ю—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—Б—В–∞–љ–Ї–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –њ—Г—В–Є, —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–ї–Є –љ–∞–њ—Г–≥–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ 150 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–Њ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Б–Ї–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і –љ–∞—И —И—С–ї –≤—Б—О –љ–Њ—З—М. –Т—Л—И–ї–Є –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –±–µ–ґ–µ–љ—Ж—Л –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ. –Ф–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—И–ї–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є —Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–µ–Ј–і–∞ –љ–∞ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–µ –Є–і—Г—В, –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –і–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –У—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Ј–∞–≤—Л–ї–∞ —Б–Є—А–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Ґ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ–µ: –њ–µ—А–≤–∞—П –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї–∞ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —Н—В–Њ–є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–±–∞–≤–Њ–є. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –Ї—Г–і–∞ –±—Л –љ–Є –њ–∞–і–∞–ї–Є –±–Њ–Љ–±—Л. –Т—Б—С —А—Г—И–Є–ї–Њ—Б—М –Є –≥–Њ—А–µ–ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–њ–Є—З–µ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї–Є –≤–Ј–ї–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є. –Т–Њ–є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ —Б–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б –Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –ї—О–і–µ–є, –і–µ—В–µ–є, —Б—В–Њ–љ–∞–Љ–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е. –Р —Д–∞—И–Є—Б—В—Л —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞–і–∞–ї–Є—Б—М —Ж–µ–ї—М—О —Б—В–µ—А–µ—В—М —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О —Б –ї–Є—Ж–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є: –Њ–і–љ–Њ –Ј–≤–µ–љ–Њ —Б–Љ–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ—А—В–Є—В—Б—П –≤ –љ–µ–±–µ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –Ї–∞—А—Г—Б–µ–ї—М, —Б–љ–Њ–≤–∞ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –ї–µ—В—П—В –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –±–Њ–Љ–±—Л. –†–≤—Г—В—Б—П –±–Њ–Љ–±—Л –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ъ–∞–Ї –љ–Є –ґ—Г—В–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ –≤—Б—С –ґ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—О, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ –ї–Њ–ґ–∞—В—Б—П –±–Њ–Љ–±—Л. –°—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В —И–њ–Є–Њ–љ—Л-–љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Є. –Ф–≤—Г—Е –Є–Ј –љ–Є—Е, ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е¬ї –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞–Љ–Є –Є –Њ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є, –љ–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–є–Љ–∞—В—М. –° —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–∞ —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–∞ —Б –і–Є–≤–µ—А—Б–∞–љ—В–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є!
–Я–Њ–і –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї–∞–Љ–Є –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ —В—А—Г–і–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Ї –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П. –Ь—Л —Б –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї—Г—О —З–∞—Б—В—М –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є, –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –ї–µ—Б—Г –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –≤ 20-—В–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–µ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –ї–µ—Б—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Є –Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Э–Ъ–У–С, –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї—Б–Ї–Є–є –Њ–±–Ї–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –Њ–±–ї–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ –±—Л–ї –Є —И—В–∞–± 10-–є –∞—А–Љ–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞. –Ю–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ, –Є –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –љ–µ —А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П! –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є—Е –і–љ–µ–є, –љ–∞—И–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Г–ґ–µ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–Њ —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ, –Њ–љ–Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≥–Є–±–љ—Г—В –Є –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—О—В –Ї—А–Њ–≤—М. –Р –Љ—Л –µ—Й—С –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –≥–і–µ –Є –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –±–Њ–є. –Э–∞ –љ–∞—И–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –љ–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –£–Я–Т–Ю –Э–Ъ–У–С –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В—Г –Ш.–Р. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤—Г –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–ї–Њ–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П—Е. –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤ –Ј–љ–∞–ї –Љ–µ–љ—П –µ—Й—С —Б —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –У—А–Њ–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –≥–і–µ —П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ї—Г—А—Б–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Њ–є –Ј–∞—Б—В–∞–≤—Л, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ –љ–∞—И–Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–∞—Б—М. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–∞—Б –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –Ш–±—А–∞–≥–Є–Љ–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –Љ—Л —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М. –Э–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В—П–ґ—С–ї—Л–µ –і–љ–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–і–Њ–є–і—Г—В —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–µ–≤—Л–µ —З–∞—Б—В–Є, –Є –≤—А–∞–≥ –±—Г–і–µ—В –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г. –Ъ—В–Њ –ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–≥ –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Є–Ј –љ–µ–Њ–±—К—П—В–љ–Њ–є —З–∞—И–Є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ—В–њ–Є—В—Л –ї–Є—И—М –њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –≥–ї–Њ—В–Ї–Є.¬†
–Ъ —Г—В—А—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є—Й–∞, –њ—А–Є—И—С–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Б–Ї—Г. –Э–Њ, –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–≤ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є. –Ъ–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В—М –і–Њ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Б–Ї–∞ вАФ –Њ–њ—П—В—М –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–Њ–≥–љ–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞—Б —И—В–∞–±–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ—А–Є–≤–∞–ї –≤ —В–Є—Е–Њ–є —А–Њ—Й–Є—Ж–µ. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞, —В—П–ґ—С–ї—Л–є, –±–µ–Ј—А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–є –њ—Г—В—М, –≥–Њ—А—М–Ї–∞—П –њ—Л–ї—М –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П!¬†
–Т –ї–µ—Б—Г –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Ъ—А–µ—Б–ї—Л, —З—В–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–µ–є –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Б–Ї–∞, –љ–∞—И—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –Ш–±—А–∞–≥–Є–Љ–Њ–≤—Л–Љ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–≥—А–∞–љ–≤–Њ–є—Б–Ї –±—А–Є–≥–∞–і–љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї —В. –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ. –Ю–љ –њ—А–Њ–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –С—А–µ—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Ъ–Њ–±—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –≤–µ–і—Г—В —В—П–ґ—С–ї—Л–µ –±–Њ–Є, —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ґ—Г—В –ґ–µ –±—Л–ї —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б–≤–Њ–і–љ—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є–Ј –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П 4-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ы–Њ–Љ–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ 87-–≥–Њ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Њ—В—А—П–і–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є—В—М –≥—А—Г–њ–њ—Г —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Є–Ј 12 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –±—Г–і–µ–Љ –Њ—В—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ь–Є–љ—Б–Ї–∞ –і–Њ —Б—В–∞—А–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, –≥–і–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Ј–∞–≥—А–∞–і–Ј–Њ–љ–∞. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 10-–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ—Б–ї–Є –≤—А–∞–≥ –њ—А–Њ—А–≤–µ—В—Б—П –Є –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є—В –љ–∞—Б, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і –±–Њ—А—М–±—Л —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ.¬†
–†–∞–љ–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ –љ–∞—И –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ —В—А–Њ–љ—Г–ї—Б—П –њ–Њ —И–Њ—Б—Б–µ –љ–∞ –°–ї–Њ–љ–Є–Љ. –Э–∞ –њ—Г—В–Є, –≤ –ї–µ—Б—Г —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–є –Ч–µ–ї—М–≤—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ—А–Њ–±–Ї–∞. –Т–Є–і–Є–Љ, –Љ–µ—З–µ—В—Б—П —Б—А–µ–і–Є —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —Б –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –≤ –ї—С—В–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, –≤ –њ–ї–∞—Й–µ, –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ—Б—В–Є–Ї—Г–ї–Є—А—Г–µ—В, —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞–µ—В: ¬Ђ–Э–∞—Б –њ—А–µ–і–∞–ї–Є!¬ї. –°—Е–≤–∞—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –Ј–∞ —И–Є–≤–Њ—А–Њ—В, —В–∞—Й—Г –њ–∞–љ–Є–Ї—С—А–∞ –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Њ–њ–µ—А–Њ—В–і–µ–ї–∞. –Я–Њ–і –њ–ї–∞—Й–Њ–Љ —Г –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–∞ —А—Г–Ї–∞–≤–∞—Е —Б–≤–∞—Б—В–Є–Ї–∞. –Э–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —З—Г—В—М –њ—А–Є—В–Є—Е—И–µ–є —В–Њ–ї–њ—Л —Д–∞—И–Є—Б—В –±—Л–ї –њ—Г—Й–µ–љ –≤ —А–∞—Б—Е–Њ–і, –∞ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–і—И–Є–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —В—А–Є —И—В–∞–±–љ—Л—Е —В–∞–љ–Ї–∞ –њ–Њ –Њ–±–Њ—З–Є–љ–∞–Љ –њ—А–Њ–±–Є–ї–Є –њ—Г—В—М. –°–њ—Г—Б—В—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –љ–∞–ї–µ—В–µ–ї–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞–љ–µ—А—Л –Є —Б–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –ї–µ—Б–Њ–Љ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є. –Ь—Л –њ—А–Њ—И–ї–Є —Б –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А, —В—Г—В –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –ґ–Є—В–µ–ї—М —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–ї–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ –≤—Л—Б–∞–ґ–µ–љ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ—Б–∞–љ—В. –Ь–љ–µ —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є 12 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞ —В–∞–љ–Ї–∞—Е –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –Є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ—Б–∞–љ—В. –Ь–Њ–є –±—Л–≤—И–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Б –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –њ–Њ—И—С–ї –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –Њ–±–Њ—З–Є–љ–µ –≤–і–Њ–ї—М –і–Њ—А–Њ–≥–Є.¬†
–Э–µ –њ—А–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –Љ—Л –Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞, –Ї–∞–Ї –≤ —З–Є—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ –љ–∞ –±—А–µ—О—Й–µ–Љ –њ–Њ–ї—С—В–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —З—С—А–љ—Л–µ ¬Ђ–Љ–µ—Б—Б–µ—А—Л¬ї, –њ—Г–ї–Є –Ј–∞—Ж–Њ–Ї–∞–ї–Є –њ–Њ –±—А–Њ–љ–µ. –І—В–Њ-—В–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ —А—Г–±–∞–љ—Г–ї–Њ –Љ–µ–љ—П –њ–Њ —Д—Г—А–∞–ґ–Ї–µ: –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ, –њ—Г–ї—П –≤—Л—А–≤–∞–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–≤—С–Ј–і–Њ—З–Ї—Г, –љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л. –С–Њ–є—Ж–∞–Љ –Љ–Њ–Є–Љ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Ю–і–Є–љ –±—Л–ї —Г–±–Є—В –љ–∞–њ–Њ–≤–∞–ї, –і–≤–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–љ–µ–љ—Л. –Я–Њ–Ї–∞ –Љ—Л —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Є –њ—А–Є—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ —Е—Г—В–Њ—А–Ї–µ, —В–∞–љ–Ї–Є —Г—И–ї–Є –≤–њ–µ—А—С–і, –Є –Љ—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞. –Э–∞ —Б—З–∞—Б—В—М–µ, –Ї –љ–∞–Љ –њ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ–ї–∞ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–∞—П –Љ–∞—И–Є–љ–∞, –±–Њ–є—Ж—Л –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ї—Г–Ј–Њ–≤, —П —Б—В–∞–ї —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Ї—Г –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Є —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї: ¬Ђ–Т–њ–µ—А—С–і¬ї.
–Ь—Л –љ–µ –і–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –і–≤–µ—Б—В–Є –Ї –ї–Њ—Й–Є–љ–Ї–µ, –≥–і–µ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–љ–∞–≤—Г, –Ї–∞–Ї —Б–њ—А–∞–≤–∞, —Б –≥—Г—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–ї–µ–≤–µ—А–∞ —Г–і–∞—А–Є–ї–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞. –Я–µ—А–≤—Л–є —Б–љ–∞—А—П–і —Г–≥–Њ–і–Є–ї –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ—Г, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ї–ї—О–љ—Г–ї –љ–∞ —А—Г–ї—М. –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ—И–Є–ї –±–Њ—А—В –Ї—Г–Ј–Њ–≤–∞, –Є –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–Ї–∞ –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–ї–∞, –Ї–∞–Ї —Д–∞–Ї–µ–ї. –£—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–µ –±–Њ–є—Ж—Л –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ ¬Ђ–≤ –Ї—О–≤–µ—В¬ї –Ј–∞–ї–µ–≥–ї–Є –Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б—П –ї–Њ—Й–Є–љ–∞ –љ–∞—Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В–љ—Л–Љ –Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ—С–Љ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–ї–µ—З—М –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–є—Ж–∞ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Њ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–µ—Б–∞–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –љ–∞–Љ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —А–Њ—В—Л –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ —Б –і–µ—Б–∞–љ—В–Њ–Љ –Љ—Л —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М.
–Ф–µ–љ—С–Ї —Н—В–Њ—В, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –µ—Й—С –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є–є—Б—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М —Й–µ–і—А—Л–Љ –љ–∞ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–Ј–Њ—А –њ–Њ–і –Љ–Њ–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–є—В–Є –Є —Б–Њ—В–љ–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ–Њ –Ї—А–∞—О –ї–µ—Б–∞ –≤–і–Њ–ї—М —И–Њ—Б—Б–µ, –Ї–∞–Ї –≤–і—А—Г–≥ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Є –і–≤–∞ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞ —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є.¬†
вАФ –°—В–Њ–є, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є–і—С—И—М, –Ї–∞–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є? вАФ –Ї—А–Є—З—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ.
вАФ –Ф–∞ –≤–Њ—В –Є–Ј-–њ–Њ–і –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Њ—В—Е–Њ–ґ—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –±–Њ–є—Ж–∞ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д—А–Є—Ж –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї.
–Э–µ—В, –і—Г–Љ–∞—О, –і–µ–ї–Њ –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ. –Ш —Д–Њ—А–Љ–∞ –љ–∞ —В–µ–±–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–∞—П: —В–Њ –ї–Є –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В, —В–Њ –ї–Є –≤–Њ–µ–љ–≤—А–∞—З. –°–Њ–ї–і–∞—В—Л —В–≤–Њ–Є –љ–µ —В–Њ–≥–Њ: –Љ—Л –Љ–Є—А–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ, –∞ –Њ–љ–Є –љ–Њ—А–Њ–≤—П—В –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –љ–∞–Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г —Б—Е–≤–∞—В–Є—В—М. –Т–Є–і—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ –њ–Њ–і–∞—О, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О:¬†
вАФ –Ъ—Г–і–∞ —В–µ–њ–µ—А—М –њ—Г—В—М –і–µ—А–ґ–Є—В–µ?
вАФ –Ф–∞, –≤–Є–і–љ–Њ, –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л –њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П.
вАФ –Р –љ–µ —А–∞–љ–Њ–≤–∞—В–Њ –ї–Є?
вАФ –Р –≤–Њ—В –і–∞–≤–∞–є –њ—А–Є—Б—П–і–µ–Љ –Є –≤—Б—С –Њ–±—Б—Г–і–Є–Љ, —А–∞–љ–Њ–≤–∞—В–Њ –Є–ї–Є –љ–µ—В.
вАФ –І—В–Њ –ґ, –і–∞–≤–∞–є –њ—А–Є—Б—П–і–µ–Љ, вАФ –Љ–Њ—А–≥–љ—Г–ї —П —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–Њ–є—Ж–∞–Љ.¬†
–£–ґ–µ –љ–∞–≥–Є–±–∞—П—Б—М –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ, —А–µ–Ј–Ї–Њ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї:
вАФ –С—А–Њ—Б–∞–є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —А—Г–Ї–Є –≤–≤–µ—А—Е!
–Ф–ї—П —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–Њ–ї–і–∞—В —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є –Љ–Њ–Є –±–Њ–є—Ж—Л –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–Ї—А—Г—В–Є–ї–Є –Є –Є—Е, –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ї–Њ–±—Г—А—Л –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ–∞—А–∞–±–µ–ї–ї—Г–Љ –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –љ–Є–ґ–љ–µ–µ –±–µ–ї—М–µ —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ —И—В–∞–Љ–њ–Њ–Љ. –Ъ–Њ—А–Њ—В–Ї–∞—П –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї–∞ –Њ –±–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –і–Є–≤–µ—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤. –Р –і–µ–љ—М, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј–ї–Њ, –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П, —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –±—Г–і—В–Њ –Ј–∞—Б—В—Л–ї–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞. –°–љ–Њ–≤–∞ –±–Њ–є—Ж—Л –Є–Ј –Љ–∞—И–Є–љ—Л, —И–µ–і—И–µ–є –Є–Ј –ї–µ—Б–∞ –Ї —И–Њ—Б—Б–µ–є–Ї–µ, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В, —З—В–Њ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ–∞ –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ–і—К–µ—Е–∞–≤ –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–µ –Ї –Љ–µ—Б—В—Г, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—О –і–µ—Б–∞–љ—В–∞, –Љ—Л –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–ї–Є —В–∞–Љ –љ–Є —И—В–∞–±–∞ –∞—А–Љ–Є–Є, –љ–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞, –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї —П –±–Њ–ї—М—И–µ –Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П —В. –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ь–µ–ї–Ї–Є–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б—С –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –°–ї–Њ–љ–Є–Љ. –°—В–Њ–Є—В –ї–Є—И—М –Љ–∞—И–Є–љ–∞, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–∞—П —П—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є, –Є –≤–Њ–Ј–ї–µ –љ–µ—С вАФ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —И—В–∞—В—Б–Ї–Њ–Љ, –±–µ–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–±–Њ—А–∞, –±–µ–ї–Њ–±—А—Л—Б—Л–є. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Р–≤–≥—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є—П –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –∞ —П—Й–Є–Ї–Є —Б –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –≤ –Љ–∞—И–Є–љ–µ –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї —А–∞–Ј–і–∞—В—М –±–Њ–є—Ж–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤—А–∞–≥—Г. –І—В–Њ –ґ, –Љ—Л –Ј–∞–њ–∞—Б–ї–Є—Б—М –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ –њ—Г—В—М. –Ю—Б—В–∞–ї—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–µ—Ж, –љ–µ–Ї—В–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ.
–Я–Њ–Ј–і–љ–Њ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Љ—Л —Б –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤—Л–Љ –њ–Њ—И–ї–Є –њ–Њ –ї–µ—Б—Г, –Є –≤—Л—И–ї–Є –Ї —Е—Г—В–Њ—А—Г. –Я–µ—А–µ–Ї—Г—Б–Є–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞, –Є –Ј–∞–±—Л–ї–Є—Б—М —В—П–ґ—С–ї—Л–Љ —Б–љ–Њ–Љ. –Э–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ —В—А–Њ–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –њ—Г—В—М. –Э–∞—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –њ–∞—А–љ—Л–є –і–Њ–Ј–Њ—А –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞—И —Б–≤–Њ–і–љ—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ. –Ь–Њ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞–љ—П–ї, –Є –≤–Њ—В –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —И–∞–≥–∞–µ–Љ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Љ–∞—А—И—А—Г—В –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –°–ї–Њ–љ–Є–Љ –Ј–∞–љ—П—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є, –Љ—Л –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ч–µ–ї—М–≤—Г. –У–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї, —Г–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—И–Є–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є, –њ—А–Њ—И–ї–Є –±–µ–Ј –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є, –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–µ—З—Г—И–Ї—Г –Ч–µ–ї—М–≤–∞–љ–Ї—Г, –Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–є–і—П –µ—Й—С –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –њ—А–Є–≤–∞–ї –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –ї–µ—Б–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞.
–Э–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –±–Њ–є—Ж—Л —Е–Њ—В—М —З—Г—В–Њ—З–Ї—Г –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М, –Ї–∞–Ї –і–Њ–Ј–Њ—А–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б—В—М. –С–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ, –љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –У—А–Њ–і–љ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Э–Ъ–У–С. –Ґ—А–µ–≤–Њ–≥—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—В–Љ–µ–љ—П—В—М –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ —И–Ї–Њ–ї–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В—Л —И–Ї–Њ–ї—Л –Є –љ–∞—И–Є –±–Њ–є—Ж—Л —Б—А–Њ—З–љ–Њ –Ј–∞–љ—П–ї–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г. –Э–µ–Љ—Ж—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї —А–µ–Ї–µ –Ї–∞–Ї —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞: –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞, —Б —И—Г—В–Ї–∞–Љ–Є-–њ—А–Є–±–∞—Г—В–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Г. –Т–µ—Б–µ–ї—М–µ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Є–Љ: –Љ—Л –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –і—А—Г–ґ–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –њ–Њ —А–∞—Б—В–µ—А—П–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –≤—А–∞–≥—Г. –Ш —Е–Њ—В—П —В—П–ґ—С–ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є, –љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –њ–Њ—В–µ—А–Є –љ–µ–Љ—Ж—Л –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–µ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е —Б—В–∞–ї–Є —А–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–Є–љ—Л –Є –∞—А—В—Б–љ–∞—А—П–і—Л, –±–Њ–є –і–ї–Є–ї—Б—П –і–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞ –≤—А–∞–≥–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—А–≤–∞–љ–∞. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї. –° –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–Љ–µ—А–µ–Ї –Љ—Л, —Б–љ—П–≤—И–Є—Б—М —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –Є –Њ—В–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Ј–∞ –љ–Њ—З—М –њ—А–Њ—И–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ 35 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є –Ї —Г—В—А—Г –≤—Л—И–ї–Є –Ї –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ф–µ—А–µ–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ 15 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ –°–ї–Њ–љ–Є–Љ–∞. –Р –Ј–∞ –°–ї–Њ–љ–Є–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ, —З—В–Њ —И–ї–Є –±–Њ–Є. –Э–∞—И–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞ –і–≤–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞ –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ. –Я–Њ–і –±–Њ–Љ–±—С–ґ–Ї–∞–Љ–Є —В–µ—А—П—П –ї—О–і–µ–є, –њ—А–Є—И–ї–Є –Љ—Л –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О –°–µ—А–µ–±—А–Є—Й–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б—В. –Ь–Њ–ї—З–∞–і—М, –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ, –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–Є—З–Є вАФ –њ—А–Є–≤–∞–ї.¬†
–С–µ—Б–µ–і–∞ —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ј–і–µ—Б—М —Е–Њ—В—М –Є –±—Л–ї–∞ –Љ–Є–Љ–Њ–ї—С—В–љ–Њ–є, –љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М –Є –Љ–љ–µ, –Є –±–Њ–є—Ж–∞–Љ –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ъ—В–Њ-—В–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Л–є—В–Є –љ–∞ –Ь–Є—А, –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –љ–∞ –Ь–Є–љ—Й–Є–љ–µ.¬†
–Э–Њ —В—Г—В –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б—В–∞—А—Г—И–µ–Ї –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞:¬†
вАФ –Р –≤–∞–Љ —З—В–Њ, –љ–∞ –Љ–Є—А –њ—А–Є—Б–њ–Є—З–Є–ї–Њ? –Р –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –Є–і–µ—В–µ? –Ъ–Є—И–Ї–∞ —В–Њ–љ–Ї–∞ —Г –≤–Њ—П–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М?
вАФ –Ґ–∞–Ї –Љ—Л –ґ–µ –Є–і—С–Љ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г, –Љ–∞—В—М, —В–∞–Љ –љ–∞—И–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В.
вАФ –Э–µ –≤–Є–ґ—Г —П —Н—В–Њ–≥–Њ. –Э–µ–Љ—Ж—Л —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –Є–і—Г—В, –∞ –≤—Л –Є–Љ –љ–µ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г, –∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї —Г–і–Є—А–∞–µ—В–µ. –°–µ–є—З–∞—Б, –љ–µ–±–Њ—Б—М, –Љ–Њ–ї–Њ—З–Ї–∞ –љ–∞—З–љ–µ—В–µ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М, —Е–ї–µ–±—Г—И–Ї–∞. –Р –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є?
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –љ–∞—Б –ґ–Є—В–µ–ї–Є, —З–µ–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Є, ¬Ђ–Ј–ї–∞—П¬ї –љ–∞—И–∞ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є—Ж–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М. –Э–Њ –Њ—Б–∞–і–Њ–Ї –≤ –і—Г—И–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ–љ—М —Г–ґ–µ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–Љ, —В–µ—А—П–µ–Љ –ї—О–і–µ–є, –∞ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —Б—В—Л—З–Ї–Є —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –±–Њ—П, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Ч–µ–ї—М–≤–∞–љ–Ї–µ, –µ—Й—С –љ–µ –≤–µ–ї–Є. –Р –≤–µ–і—М –Њ—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Њ—В–Њ—И–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–∞ —Б–Њ—В–љ–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, —Б–Њ—В–љ–Є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М –Њ—В–і–∞–ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Г, —В—Л—Б—П—З–Є –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Э–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Љ—Л, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–≤–∞—А–µ–љ —Г–і–∞—А –≤—А–∞–≥–∞, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –∞—А–Љ–Є—П, –≤ –љ–µ—А–∞–≤–љ—Л—Е –±–Њ—П—Е —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П –±–µ—И–µ–љ—Л–є –љ–∞—В–Є—Б–Ї –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Т—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—В—М –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Э–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Н—В–Њ–є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є, –і–Њ–±—А–Њ–є –Є –≥–љ–µ–≤–љ–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Є –Ј–∞–і–µ–ї–Є –Ј–∞ –ґ–Є–≤–Њ–µ –≤—Б–µ—Е. –Ш —Е–Њ—В—П –њ—Г—В—М –і–Њ –Ь–Є—А–∞, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–µ–ї, вАФ –Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Г —З–µ—А–µ–Ј –Э–µ–Љ–∞–љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –°—В–Њ–ї–±—Ж–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Є —Г–і–∞—З–љ–Њ, –±–µ–Ј –±–Њ–Љ–±—С–ґ–µ–Ї –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, вАФ –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—А–µ–і–Є –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–≤–∞–ї —Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–љ–Њ–µ. –£ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А–Њ–і–љ—Л–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Љ—Л —Г–ґ–µ —И–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ–љ—М.
–Т –†—Г–±–µ–ґ–µ–≤–Є—З–∞—Е, –њ—А–Њ–є–і—П –≥–Њ—А–Њ–і –°—В–Њ–ї–±—Ж—Л, –Љ—Л —Б –≥–Њ—А–µ—З—М—О —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–≥—А–∞–і–Ј–Њ–љ—Л –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В: –±—Л–≤—И–Є–µ –Ї–Њ—А–і–Њ–љ—Л, –і–Ј–Њ—В—Л –њ—Г—Б—В—Л–µ. –Ю–њ—П—В—М –њ–Њ–і–Ї—А–∞–ї–∞—Б—М —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ы–Є—И—М –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –Њ—В 106-–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –§–∞–љ–Є–њ–Њ–ї—МвАФ–Ч–∞—Б–ї–∞–≤–ї—М. –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ—Л –Є –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М. –Т –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –°—В–∞—А–Є–љ–Ї–Є –Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ—И–Є–ї–Њ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—А–Є–≤–∞–ї. –Ф–µ–љ—М –±—Л–ї —Б—Г–±–±–Њ—В–љ–Є–є, –Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞.¬†
–°–µ–ї—М—З–∞–љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤, –њ–Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л:
вАФ –Я—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Г–ґ–µ –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Њ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л?
вАФ –Я—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, —З—В–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –і–Њ—И–ї–Є –і–Њ –£—А–∞–ї–∞?
вАФ –Я—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ—Л –Є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –У–Є—В–ї–µ—А–∞?
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї—О–і–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, —В–∞–Ї–Є–µ —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л–µ —Б–ї—Г—Е–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л. –У–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞. –Э–Њ –Љ–µ–љ—П —Н—В–Њ –Ј–∞–і–µ–ї–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ. –Т–µ–і—М –Ј–≤—Г—З–∞—В –µ—Й—С –≤ —Г—И–∞—Е –≥–љ–µ–≤–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞—А–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є–Ј –Ц—Г—Е–Њ–≤–Є—З, –Є –≤–Њ—В –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б–ї—Г—И–∞—В—М –Њ–±–Є–і–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ—Л –љ–µ –≤–Њ—О–µ–Љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ, –≤—Б–µ—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—В –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –≤–Ј–і–Њ—А–љ—Л–µ —Б–ї—Г—Е–Є. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞—И–Є–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –Љ–љ–µ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М, —З—В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ–і–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –њ–∞–љ–Є–Ї–µ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –≤–µ—А–Є—В—М –≤–Ј–і–Њ—А–љ—Л–Љ —Б–ї—Г—Е–∞–Љ, —З—В–Њ —Б–µ—О—В –љ–∞—И–Є –≤—А–∞–≥–Є. –Э–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і, —Б–∞–Љ–Є –≤–µ–і—М –Љ–∞–ї–Њ —З—В–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є. –С–Њ–є—Ж—Л –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є, –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –Є—Е, –∞ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–Є–ї–∞—Б—М –±–µ–і–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї. –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л –Љ–љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е, —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ–љ—Л. –Ш –≤–Њ—В —Б–µ–є—З–∞—Б, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ–≥–Є –Њ—В–µ–Ї–ї–Є, —А–µ–Ј–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М—О –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–ґ–і—Л–є —И–∞–≥. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—В—М –≥–Њ–ї–µ–љ–Є—Й–∞ —Б–∞–њ–Њ–≥ –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–ї–Њ—И–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ —Б–µ—А–і–Њ–±–Њ–ї—М–љ–∞—П —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞, –Є —В–∞–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ –Є–і—В–Є –і–∞–ї—М—И–µ.
–Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –і–љ—П –Љ—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Э–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Є, –≥–і–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є 106-—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П. –Э–∞—И –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Є —И–Ї–Њ–ї–∞ –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞ –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 444-–≥–Њ —Н—В–Њ–є –ґ–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –С–Њ–є—Ж—Л –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї–Є —А–∞–і—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –њ–Њ—З—В–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ вАФ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –±—Г–і–љ–Є—З–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Ж–∞—А–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е. –С–Њ–є—Ж—Л –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є: –Є–≥—А–∞–ї–Є –њ–∞—В–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї–Є —Б –±–Њ–і—А—Л–Љ–Є –і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–µ—В –≤–Њ–є–љ—Л. –Э–∞–Љ, —Г–ґ–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–і –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ, —Н—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Э–Њ, –њ–Њ –њ—А–∞–≤–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Є—Б—М, —Г—Б—В–∞–≤—И–Є–µ –±–Њ–є—Ж—Л –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Е–∞—В–∞–Љ –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е. –Ч–∞—Б–љ—Г–ї –Є —П –≤ –±–Є—В–Ї–Њ–Љ –љ–∞–±–Є—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ.¬†
–Я—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ, —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –і–µ—А–µ–≤–љ—О –Є –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Ь–Є–љ—Б–Ї—Г. –І—Г—В—М –Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–µ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –У–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ, —З—В–Њ –≤ 15-17 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –Ь–Є–љ—Б–Ї–∞, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В–Ї–∞—Е. –° —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П –Є –±–Њ–µ—Ж-–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В—З–Є–Ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О. –Ґ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—С —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ: –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ–Є–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–∞—А–∞—П–Љ –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ—Л–є —Б–Ї–Њ—В, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е, –Ј–∞—А–µ–Ј–∞–≤ –±—Л–Ї–∞, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Ї—Г—Е–љ—О. –Э–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–ї–Ї–µ –і–Њ—А–Њ–≥, –Є–і—Г—Й–Є—Е –љ–∞ –§–∞–љ–Є–њ–Њ–ї—М –Є –Ь–Є–љ—Б–Ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –і–≤–∞ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –§–∞–љ–Є–њ–Њ–ї—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–≤ –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤ —Б –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є.¬†
–Т –Ї—Г–Ј–Њ–≤–∞—Е –Љ–∞—И–Є–љ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –≥–Њ–≥–Њ—В–∞–ї–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤ —А—Г–њ–Њ—А –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—В—М:¬†
вАФ –†—Г—Б—М –≥—Г—В, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –Ї–∞–њ—Г—В, —Б–і–∞–≤–∞–є—В–µ—Б—М!¬†
–У—А—Г–њ–њ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –њ–Њ –Љ–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В—З–Є–Ї —Б—В–∞–ї –њ–Њ–ї–Є–≤–∞—В—М —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤. –Ґ–µ –Ј–∞–ї–µ–≥–ї–Є –Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П–Љ –Љ–Є–љ–Њ–Љ—С—В–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М. –Ь–Є–љ–∞ –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –Љ–µ–љ—П, –≥–Њ—А–µ–ї–∞ —И–Ї–Њ–ї–∞, –і–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –і–Њ–ї–≥–Њ –ї–Є –і–ї–Є–ї—Б—П –±–Њ–є, –Є —П –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–ґ–Є–≥–∞—О—Й—Г—О –±–Њ–ї—М –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –±–µ–і—А–µ: –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї –Љ–Є–љ—Л –і–Њ –Ї–Њ—Б—В–Є –≤–њ–Є–ї—Б—П –≤ –±–µ–і—А–Њ. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –±–Њ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Њ—Е–Њ—В—Л –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–µ–Љ—Ж—Л –љ–µ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є. –Я–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Њ—В–Њ–є–і—П –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ґ—Г—В –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –Љ–µ–і–≤—А–∞—З –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А –≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї–ї–Є –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї, –љ–∞—Б–њ–µ—Е –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–∞–ї–Є —А–∞–љ—Г. –ѓ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї –Ї –±–Њ–є—Ж–∞–Љ, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П, —З—В–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є —Б—В—Л—З–Ї–Њ–є –і–µ–ї–Њ –љ–µ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—Б—П.¬†
–Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Њ –Є —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б —В–∞–љ–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –§–∞–љ–Є–њ–Њ–ї—П. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –Є—Е –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –і–µ—А–µ–≤–љ—О –Є –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–µ—Е–Њ—В—Л –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—И–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ч–∞–≤—П–Ј–∞–ї—Б—П –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–є –±–Њ–є. –Э–∞—И–Є–Љ –Љ–Є–љ–Њ–Љ—С—В—З–Є–Ї–∞–Љ –Є –њ—Г–ї–µ–Љ—С—В—З–Є–Ї–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В—Б–µ—З—М –њ–µ—Е–Њ—В—Г, –љ–Њ —В–∞–љ–Ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є –Є–і—В–Є –≤–њ–µ—А—С–і. –Ґ—А–Є –Є–Ј –љ–Є—Е –±–Њ–є—Ж—Л –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–Є –≥—А–∞–љ–∞—В–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є —Б—В–∞–ї–Є —Г—В—О–ґ–Є—В—М –Њ–Ї–Њ–њ—Л. –С–Њ–є—Ж—Л, –Ї—В–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥, —Г–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —В—П–ґ—С–ї—Л—Е –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж, –Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–∞.¬†
–Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З–µ–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –љ–Њ –і–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М –љ–∞—З–∞—В—Г—О –∞—В–∞–Ї—Г –Њ–љ–Є –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є, –Є —В–∞–љ–Ї–Є —Г—И–ї–Є –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ч–∞—Б–ї–∞–≤–ї—П, –≥–і–µ –≥—А–µ–Љ–µ–ї –±–Њ–є. –Р –љ–∞—И–∞ –њ–µ—Е–Њ—В–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –≤—Б—С —Г—В–Є—Е–ї–Њ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ–µ: –Є–і—В–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —Б –љ–∞—И–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є.
вАФ –І—В–Њ, –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, вАФ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Я–∞–≤–ї–Њ–≤.
вАФ –° —В–≤–Њ–µ–є —А–∞–љ–Њ–є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —Г–є–і–µ—И—М. –°–ї—Г—И–∞–є –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ. –Ю—Б—В–∞–љ–µ—И—М—Б—П –Ј–і–µ—Б—М, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–Љ —В–µ–±—П –Ї —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–є—Б—П. –°—В–Њ–є, –љ–µ –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞–є, –і–µ–ї–Њ —В–µ–±–µ –љ–∞–є–і–µ—В—Б—П. –Я–µ—А–µ–є–і–µ—И—М –љ–∞ –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ–±–Њ—Б–љ—Г–µ—И—М—Б—П –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤—М—Б—П –Ї –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ. –Э–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–Љ –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–і–±–Є—А–∞–є —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В—А—П–і—Л. –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –і–µ–ї–∞–є —В–∞–Ї, –Њ —З—С–Љ —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ –Є –Ш–±—А–∞–≥–Є–Љ–Њ–≤. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ?
вАФ –Ф–∞ –Ї—Г–і–∞ –ґ —П—Б–љ–µ–µ.
вАФ –Э–Є—З–µ–≥–Њ, –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ, –љ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–є—Б—П, —А–∞–±–Њ—В—Л –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ —Е–≤–∞—В–Є—В. –Т—Б—С. –С—Г–і—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤, —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—П–є—Б—П –±—Л—Б—В—А–µ–µ, вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї —В—А–µ—В–Є–є –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–∞–ґ.
–Я–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї —Г—И–µ–ї, —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –Љ–µ–љ—П –≤ —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞ –Њ—В—И–Є–±–µ –і–Њ–Љ, –∞ —П –≤—Б—С —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤—Б–ї–µ–і —Г—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–µ. –Э–∞ –і—Г—И–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ. –° —Н—В–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ–Є –Љ–љ–µ –ї—О–і—М–Љ–Є —П –њ—А–Њ—И—С–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤—С—А—Б—В, –≤–µ—А–Є–ї –≤ –љ–Є—Е, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —А—П–і–Њ–Љ –њ–ї–µ—З–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞. –Ш –≤–Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ. –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є —Г–µ—Е–∞–ї–Є –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М, –∞ —З—В–Њ –ґ–і–µ—В –Љ–µ–љ—П? –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х
 вАЛ
вАЛ