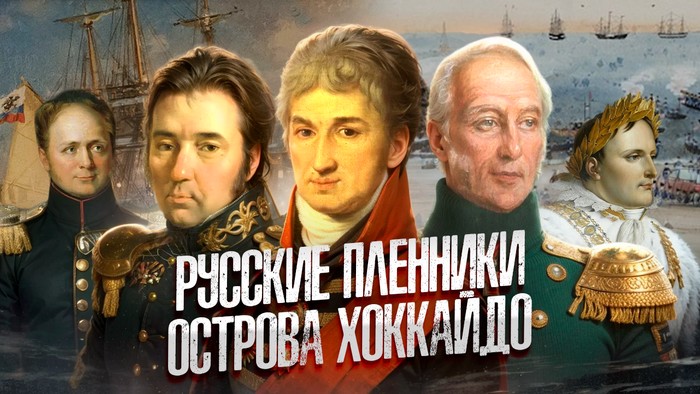Сибирь в период правления Петра Великого
Сибирь в период правления Петра Великого

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ
Сибирское золото для Кунсткамеры
Мы располагаем обширным историографическим материалом, где сообщается о роли князя Гагарина в раскопке старинных курганов и древних захоронений...
Цель — извлечение из них золотых украшений и их дальнейшая переправка непосредственно к царскому двору. На этот счёт он имел прямое распоряжение Петра о поисках так называемого «бугрового золота». Сохранившиеся сведения говорят о том, что разграбление древних могил и захоронений велось воистину с государственным размахом на территории Урала, Сибири и Алтая. К этому вопросу были привлечены десятки артелей «бугровщиков», занятых выявлением археологических объектов и их раскопками.
В 1712 г. по распоряжению князя Гагарина шадринский воевода князь Мещерский послал во владения Успенского монастыря, что на реке Исеть, «как знатоков, отставного драгуна Михаила Слободчикова и крестьянина Макара Лобова с товарищами для прииску, при вспоможении бобылей монастырских, золота, серебра, меди и иных вещей в недрах насыпей для казны государевой». Судя по всему, речь шла о так называемых «чудских могилах», что располагались на берегу ближайшего к монастырю озера.
В начале 1716 г. Петр I получил от Гагарина первые десять золотых вещей. Губернатор доносил, что найдены они в древних курганах, многим числом расположенных по рекам Тобол, Тура, Исеть, Куртамыш. В ответ из Петербурга последовал наказ о дальнейшем приобретении подобных древностей. М.П. Гагарин 12 декабря 1716 г. направил в столицу вторую, значительно более крупную партию золотых художественных изделий. Петр I распорядился о приобретении в казну всех древних золотых и серебряных вещей. В связи с этим Гагарин в письме тюменскому коменданту Воронецкому указывал:
«По именному Его Царского Величества указу, который писан рукою Его Царского Величества, древние золотые и серебряные вещи, которые находятся в земле древних поклаж, всяких чинов людям велено объявлять в Тобольску и велено брать те вещи в казну великого государя и отдавать им затем взятые из казны деньги».
Последнюю партию сибирских археологических ценностей князь Гагарин отправил незадолго до своего отзыва в столицу, где вскоре и был предан суду. 28 октября 1717 г. он сообщал в письме Петру I об отправке в Петербург еще одной собранной им коллекции, в которой находились два серебряных и около 60 золотых предметов. В другом письме он уведомил царя, что им приобретены «четыре круга серебряные старинные, в том числе два больших, на которых слоны, другие два малых, на которых подписи китайские или другие азиатские». — Примерно в те годы Петр I подписал свой знаменитый Указ о покупке редкостей для основанной им Кунсткамеры:
«Ежели кто найдет в земле или на воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или такие. Да зело велики или малы перед обыкновенным; также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне необыкновенное оружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно, — такожь бы, приносили, за что будет довольная дача».
Хотелось бы отметить, что собираемые неутомимым сибирским губернатором археологические находки вызывали и у него самого большой интерес и желание хоть что-то да оставить в собственном пользовании. Это видно из следственных дел, где он признается, что далеко не все из собранных им предметов переправлены непосредственно царю:
«И то покупное золото, которое куплено в 1717 году, которое фигурное послал ко дворе царского величества с денщиками и подьячими в разные посылки. А которое не фигурное и ломаные вещи переделывал я в другие вещи. Делал судки и ножи, и вилки, и ложки, выслал к великой государыне царице Екатерине Алексеевне в том же 1717 году».
Показательно, что сменивший М.П. Гагарина на посту сибирского губернатора князь А.М. Черкасский продолжил сбор редких артефактов на вверенной во вверенной ему губернии, поскольку в 1721 г. ему было из столицы прислано такое пояснительное письмо:
«Куриозные вещи, которыя находятся в Сибири, покупать сибирскому губернатору, или кому где надлежит, настоящею ценою и, не переплавляя, присылать в Берг и Мануфактур-Коллегию, в оной потому же не переплавляя, об оных докладывать Его величеству».
Таким образом, князь Гагарин вправе претендовать на пост одного из первых «археологов» Сибири, хотя точнее его деятельность на этом поприще следует рассматривать критически, поскольку при непосредственном участии тех самых «бугровщиков» разрушались останки древних культурных захоронений, а ценности, находимые в них, вывозились в столицу. Но с другой стороны, таким варварским способом удалось сохранить хоть часть предметов, которые иначе неминуемо оказались бы извлечены на свет другими грабителями-бугровщиками и какова была бы их дальнейшая судьба предположить достаточно трудно. Скорее всего, мы бы вряд ли имели какие-то сведения о существовании тех находок.
Сибирь и шведы
Небезынтересны и взаимоотношения сибирского губернатора с сосланными на временное поселение в Тобольск и другие сибирские города плененными шведами, участвовавшими в Северной войне на стороне Швеции. Не нужно забывать, что среди них оказались не только этнически принадлежавшие к этой нации люди, но и все, кто был рекрутирован Карлом XII в ряде других союзных ему держав. После Полтавской битвы в плен были взяты 1 847 человек, а после пленения остатков отступившей армии у Днепра под Переволочной число их пополнилось на 16 947 человек, общее их число достигло 18 794 чел. военнопленных. По другим подсчетам, общее число пленных после того, включая женщин, детей, прислуги, превысило 20 тыс. человек.
Все они, свезенные на какое-то время в Москву для торжественного парада, находились в непосредственном подчинении М.П. Гагарина, а затем были разосланы отдельными партиями по Архангельской, Казанской и Астраханской губерниям. Из них 3 000 человек были направлены на работу в Воронеж. Когда в апреле 1711 г. в Свияжске была открыта попытка бегства пленников, то большую часть из них направили в Сибирь, где их проживало порядка 9 тыс. человек. В одном Тобольске насчитывалось в разное время от 800 до 900 человек шведских пленных1.
Наверняка после прибытия своего в Сибирь Гагарин встретил среди военнопленных и кого-то известного ему еще по Москве. Во всяком случае, отношения его с ними отражены в воспоминаниях многих очевидцев и показывают князя как человека великодушного и щедрого в отношении к поверженному противнику. И современные исследователи, как с русской стороны, так и со шведской, единодушны в том, что он оказал «неоценимую помощь» шведским ссыльным, находясь на посту губернатора Сибири. Отметим, что Петр своим специальным указом разрешил «пленным генералам и офицерам назначить по званию их содержание, которое получают те русские чины», а также дозволил «каждому отправлять известное ему ремесло». В указе ничего не говорится о рядовых чинах, оставшихся по сути дела без средств на содержание. Не предусмотрено было выделение этих средств за счет государства, потому большинство из шведских ссыльных оказались предоставлены самим себе и выходили из положения каждый в меру своих сил и познаний.
Вместе с тем, им была разрешена свобода вероисповедания, а затем другим, более поздним указом, дозволялось для проживающих в Сибири вступать в брак с православными без перемены исповедуемой ими веры. Имели они и право на переписку с родственниками и друзьями при контроле властями за ее содержанием. Государство благоприятно встречало желания пленных вступить на русскую службу или «осесть на землю». Но желающих заняться земледелием оказалось незначительное число. Остальные пытались организовать хоть какое-то собственное производство или занимались ремесленничеством. Как пишет Г.Е. Катанаев в своем неопубликованном труде о М.П. Гагарине, он использовал их знания «всюду, где предоставлялась возможность». По его словам: «Они заводили фабрики и мануфактуры, кустарным способом выделывали разные вещи из серебра, вытачивали из мамонтовой кости табакерки и коробки … шлифовали дорогие каменья, вырезывали печати, делали игральные карты и пр.»
Вот тут-то и проявляется истинная симпатия сибирского губернатора к пленным как к специалистам, которые изготовляли лично для него уникальные вещи, за которые он при иной ситуации должен был бы отдать вполне приличную сумму, а тут оплата более походила на благодеяние с его стороны. Понятно, что в его честь пленные слагали оды, которые так же наверняка хорошо оплачивались их покровителем. Брауншвейгский резидент Вебер, посетивший Сибирь в годы пребывания в ней шведских пленных, писал: «Многие из них были искусными ремесленниками — живописцами, мастерами золотых и серебряных дел, токарями, музыкантами, комедиантами и даже споспешествовали, сколько могли, обучению юношества. <…> Гагарин не только раздавал сам, но и, пользуясь своим положением, обязывал других лиц оплачивать потребности шведов», — писал он по этому поводу2.
Сохранились и вполне конкретные имена тех умельцев, живших в Тобольске: ротмистр Гиль оказался отличным красильщиком, ротмистр Раддерборг вышивал золотом и серебром шапки и чепраки. А корнет Эннес и совсем оказался кстати для обустройства огромных губернаторских покоев, и ему князь поручил сделать шелковые обои с золотыми и серебряными цветами, предоставив необходимые материалы. Платить мастеру он обещал «по одному рублю за локоть». Поэтому Эннес взял себе в помощники ротмистра Малина и корнетов Горна и Барри. Были среди пленных музыканты, учителя танцев и даже актеры. Все они смогли рассчитывать на некоторый заработок из рук своего благодетеля. По свидетельствам очевидцев Гагарин закупал для них лекарства, дрова и другие необходимые вещи, давал деньги взаймы. Думается, что и такая помощь должка быть отработана несчастными пленными в пользу князя.
Ряд исследователей отмечают, что пленные шведы стали «зачинателями концертной жизни в Сибири». Первый сибирский историк П.А. Словцов в «Историческом обозрении Сибири» писал: «Коллектив пленных шведов давал в салонах концерты от Тобольска до Енисейска». В Томске с участием пленных шведов в 1719 г. был образован первый ансамбль европейской музыки, которым руководил комендант города В.Г. Козлов, о чем говорят записки английского путешественника Джона Белла (1720—21 гг.):
«За наше пребывание в Томске мы развлекались рыбной ловлей и охотой. Мы также присутствовали на музыкальных концертах, исполненных шведскими офицерами и господином Козловым, комендантом города. Эти джентльмены не менее искусны в обращении со своими инструментами, как и их компаньоны в Тобольске. Господин Козлов добродушен и весьма весел, и обращается с этими офицерами с большой человечностью. Я не могу не заметить, что шведские пленники, размещенные в большинстве городов этой страны, немало способствовали цивилизации обитателей этих отдаленных областей, став посредниками в введении различных полезных искусств, почти неизвестных до их прибытия.
Многие из офицеров, являясь дворянами с литературным образованием, посвящали свое время изучению наиболее приятных и привлекательных разделов наук, в частности, музыки и живописи; в коих некоторые из них достигли большого совершенства. Я присутствовал на некоторых их концертах и был немало удивлен, нашедши столько гармонии и разнообразия музыкальных инструментов в этой части света. Они порой развлекаются преподаванием молодым господам и госпожам немецкого и французского языков, музыки, танцев и других тому подобных знаний, приобретая этим много друзей среди людей высокого положения, обстоятельство, являющееся для лиц в их положении как почетным, так и полезным»3.
Но некоторые из пленных привлекались к выполнению дел более значительных. По сведениям Г.Ф. Миллера, один из них, голландец по происхождению, Генрих Буш, имевший опыт службы на флоте, участвовал в плавании под началом казака Козьмы Соколова в 1714 г. из Охотска на Камчатку. Другой шведский лейтенант Мулин по распоряжению Гагарина в 1716 г. исследовал побережье Камчатки и искал место для судовой верфи. Были среди пленников и такие, кто занимался изучением быта местного населения, составлением географических карт, оставили после себя воспоминания о своем пребывании в Сибири. Об одном из них рассказывал немецкий ученый Даниил Готлиб Мессершмидт, отправленный в 1718 г. по инициативе Петра I для исследования Сибири. В Тобольске он познакомился со шведским подполковником Филиппом-Иоганном Страленбергом, сопровождавшим затем его в ряде исследовательских поездок. В ходе них он составил подробную карту Сибири, которая затем случайно попала в руки Петра I, нашедшего ее очень интересной.
После Ништадтского мира Страленберг получил разрешение вернуться в Швецию и в 1730 г. издал в Любеке книгу «Историческое и географическое описание северной и восточной частей Европы и Азии», которая впоследствии была переведена на русский язык. Работы Страленберга представляют собой важный источник, несущий многие ценные сведения о Западной Сибири начала XVIII века. Отдельный интерес представляет вклад Страленберга в изучение языков коренных народов Урала и Сибири.
Царево око, или Фискалы его величества
Доносчиков на Руси испокон веков не любили, что подтверждает известная поговорка: доносчику первый кнут! Но Петр, вопреки тому, сделал доносы профессией и ввел должность фискала. Были и обер-фискалы, которые состояли на службе при вновь открытом Правительствующем Сенате. Туда будущий император главным образом назначал лично знакомых ему людей, а поэтому главой новой тайной службы был поставлен его учитель Никита Зотов, которому Петр безоговорочно доверял.
Не будем отвлекаться на рассмотрения остальных деятелей этого нелюбимого в народе органа надзора за государственными персонами, а остановимся на личности Алексея Яковлевича Нестерова, бывшего крепостного, который сыграл весьма печальную роль в судьбе первого Сибирского губернатора. Судя по имеющимся у нас сведениям, Алексей Яковлевич оказался человеком не дюжего ума и имел зуб на всю родовитую аристократию, обличая едва ли не каждого из них в воровстве и казнокрадстве. Немалое число сановников пострадало от его происков, но, забегая вперед, скажем, что и сам Нестеров закончил свой жизненный путь на эшафоте, будучи обвиненным в тех же махинациях, что и его подследственные.
Но тот факт, что в свое время он предложил Петру подушную систему обложения налогами, являвшуюся, безусловно, более прогрессивной, нежели прежняя, говорит о многом. Одним этим он пополнил казну на десятки тысяч рублей. А вот с губернатором Гагариным его противостояние длилось довольно долго. У Нестерова не было на руках прямых доказательств, что Гагарин утаивал часть поступивших сборов с крестьян и инородцев, а потому он нашел способ обличить его в снижении, по сравнению с прежними, числа налогов. Хотя, если разобраться, прямой вины губернатора в том явно нет, поскольку, во-первых, он долгое время отсутствовал в Сибири; во-вторых, значительная часть сибирского мужского населения была забрана в армию по рекрутскому набору, что прямым образом сказалось на сборе необходимых средств с населения; и, в-третьих, именно на время правления Гагарина в Сибири пришлись неурожайные годы.
Но все это не помешало следственной комиссии обвинить Матвея Петровича в утаивании налогов, о чем и было доложено Петру I. Сразу после окончания следствия над царевичем Алексеем Гагарин был заключен под стражу, подвергнут допросу. На волю он уже не вышел... Тут можно предположить личную неприязнь Петра ко всем коррупционерам; но, вполне возможно, после смерти сына он ожесточился и не желал щадить никого. Так или иначе, но личный мотив в деле бывшего сибирского губернатора явно присутствовал, а потому Матвей Петрович Гагарин был обречен.
А что же Нестеров?.. Видимо, здесь сработал принцип, опять же, по известной русской поговорке «Из грязи, да в князи», когда всеми унижаемый и призираемый прежде человек попал во власть и ощутил собственную вседозволенность. Трудно сказать, действительно ли он присваивал себе те деньги, в чем, собственно говоря, и был обвинен, или же все это было умело подстроено его многочисленными врагами, пострадавшими от его разоблачений. Но так или иначе, закончил он столь же печально, подтвердив тем самым другую русскую пословицу «Не рой другому яму»…
И в заключение добавим, трагизм произошедшего со ставленником царя, как он сам называл фискалов, — царевым оком, — ситуация достойная классического сюжета драматурга о борьбе добра со злом и вечной человеческой страсти к возвышению и обогащению. Но вряд ли кому будет интересно смотреть постановку о царском фискале, закончившим свои дни на эшафоте. Такие трагедии в нашей истории случались сплошь и рядом, и несть им числа… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Примечания:
1 Грот Я. О пребывании пленных шведов в России при Петре Великом// Журнал Министерства народного просвещения. Февраль. 1837. С. 81.
2 Гессен Ю. Жизнь пленных в Московском государстве // Русское прошлое Петербург, 1923. № 2. С. 105.
3 Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Иркутск, 1968. С. 68, 98.
![]()