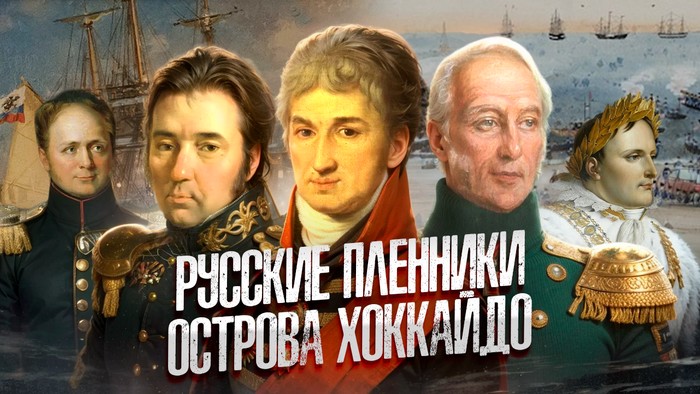–†—Г—Б—Б–Њ-–Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є: –љ–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–∞
–†—Г—Б—Б–Њ-–Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є: –љ–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–∞

–Т —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Т—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ–Ї–Є—Б—В–∞–і–Њ—А—Л-¬Ђ–Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Л¬ї 1600-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є —В—А–µ—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –µ–і–≤–∞ –љ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –µ—С –≤—Б—О...¬†
–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, —Н—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —З–µ—А—В–∞–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –љ–Њ –≤–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–Є ¬Ђ—Б –њ–Њ—Б–Њ—Е–Њ–Љ –Є —Б—Г–Љ–Њ–є –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–∞¬ї –≤—Б–µ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є –≥–Њ–љ–Є–Љ—Л–µ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤, —З–µ–Љ –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї–Є-–њ–Њ–ї—П–Ї–Є.
–Я–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ–і—Г–≥—Г –њ–Њ–Љ—А–∞—З–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Њ–≤, –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ–ї–µ–њ–Є—П –њ–µ—А–µ–і –†–Є–Љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬Ђ–Э–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–∞¬ї. –Я—А–Њ–≥–ї–Њ—В–Є–≤ –Њ—В —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –≥—Г–≤–µ—А–љ–µ—А–Њ–≤, —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є, ¬Ђ—Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—Б—В–Њ–≤-–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є¬ї, —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ вАФ –њ—Г–і—Л –Є –њ—Г–і—Л –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–Њ–є –љ–µ–њ–µ—А–µ–≤–∞—А–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –ї–Є—И—М –≤ (–њ–µ—А–µ)–Ј—А–µ–ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –Є–ї–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, вАФ –Њ–љ–Є –Є –Њ—В–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤¬ї. –ѓ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–∞–є–і–µ—В–µ –і–≤–Њ—А—П–љ –ї—О–±–Њ–є –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–µ—А–µ –њ–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Е —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є?¬†–Ш –Ї —В–Њ–Љ—Г —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ—Г –†–Є–Љ –Є–Љ–µ–ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –ї–Є—И—М –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ–µ. –Ъ–∞–Ї –∞–≤—В–Њ—А—Л —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤, –љ–∞—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –Ф–Њ–љ –Ъ–Є—Е–Њ—В —Б–Њ—И–µ–ї —Б —Г–Љ–∞. –Ш–ї–Є –Ї–∞–Ї –≥–Њ–ї–ї–Є–≤—Г–і—Б–Ї–Є–µ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Л, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –Њ–± –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є–Є ¬Ђ–Ј–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–Њ–Љ¬ї, –љ–Њ —З—М–Є —Д–Є–ї—М–Љ—Л, –≤–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –°–°–°–† –љ–∞ –Ї–∞—Б—Б–µ—В–∞—Е. —Б—В–∞–ї–Є –і–ї—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е ¬Ђ–±–Є–±–ї–Є—П–Љ–Є¬ї, ¬Ђ—Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї.
–Т—Б–µ –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–Є–µ —А–µ–≤–µ—А–∞–љ—Б—Л, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б ¬Ђ–Ь–∞–ї—М—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –±–µ–Ј—Г–Љ–Є—П, ¬Ђ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Ш–Ф–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤, вАФ —Н—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ ¬Ђ–Є–љ—В—А–Є–≥–Є –†–Є–Љ–∞¬ї. –Ш–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ–ї–µ–њ–Є–µ —Н–ї–Є—В—Л –Њ—В –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞ –і–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ вАФ –µ—Й–µ –љ–µ ¬Ђ–∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –њ—А–Њ–Ј–µ–ї–Є—В–Є–Ј–Љ –†–Є–Љ–∞¬ї, –∞ —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ—Л —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–і—Г–≥–∞. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–µ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–µ –љ–∞ —Г–±–Њ–≥–Є—Е –Ї–∞—А–Є–Ї–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞—Е, –∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Њ-–Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤¬ї. –†–∞–Ј–Њ–±—А–∞–≤ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–і–Є–љ–Ї–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љвАФ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤, –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ы–µ–Њ–љ—В—М–µ–≤вАФ–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤вА¶ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –±–ї–Є–ґ–µ —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ—Л —В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Э–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–Ј–≥–∞¬ї.
–Э–∞ —Д–Њ–љ–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д¬ї¬†
–Ф–Њ–ї–≥–Є–є, –њ–Њ—З—В–Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –і–Є–∞–ї–Њ–≥, —Б–њ–Њ—А ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤вАФ–Я—Г—И–Ї–Є–љ¬ї –±–µ—Б—Ж–µ–љ–µ–љ –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –љ–Њ –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Њ–є, –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ, –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ –Ї–Њ–≥–Њ. –Я—Г—И–Ї–Є–љ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ: –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П вАФ –і–ї—П —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ. –Т 1999 –≥–Њ–і—Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Њ—И–ї–Є –њ–Њ–і –∞–Ї–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–µ–Љ–µ–љ—В –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ–Љ–Њ–є –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –ї–∞–і—Л —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л –У–Њ–≥–Њ–ї—П: ¬Ђ–Я—Г—И–Ї–Є–љ –µ—Б—В—М —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–µ –Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞: —Н—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Њ–љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —П–≤–Є—В—Б—П —З—А–µ–Ј –і–≤–µ—Б—В–Є –ї–µ—В¬ї. вАФ –°–∞–Љ–∞ –і–∞—В–∞ –Є –Њ—В–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –Ї –њ–Њ–і–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Є—В–Њ–≥–Њ–≤. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —В–µ–Љ–µ –Њ—З–µ—А–Ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ вАФ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ—Г—В–Є –Њ—В –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –≤–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ —З–∞–∞–і–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ вАФ –Ї —Г–Љ—Г–і—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Ј–≥–ї—П–і—Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—П, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П –±—Л–≤—И–Є–є ¬Ђ—Г—З–Є—В–µ–ї—М¬ї –≤—Л–Ї–ї—П–љ—З–Є–≤–∞–µ—ВвА¶ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –і–µ–љ—М–≥–Є, –∞ —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ вАФ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ –і–ї—П —А–∞–Ј–≤—П–Ј–Ї–Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б—О–ґ–µ—В–∞.
–Ш–Ј —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Є—В—М –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–Ъ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—ГвА¶ вАЬ–Я–Њ–Ї–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ—О –≥–Њ—А–Є–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞вАЭ¬ї... –Т –¶–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –°–µ–ї–µ –±–ї–Є–Ј –Ы–Є—Ж–µ—П –±—Л–ї —А–∞—Б–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –ї–µ–є–±-–≥—Г—Б–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї, –µ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л вАФ —Б—В–∞—А—И–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –≤—Б–µ –ї–Є—Ж–µ–Є—Б—В—Л. –Ш—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ–µ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Є–µ—В–µ—В –њ—А–µ–і –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є 1812вАФ1814 –≥–Њ–і–Њ–≤, —В—Г—В —Е–Њ—В—М —Б—В–∞–≤—М —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —И–∞–ї–Њ–њ–∞—П–Љ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї—О—Б –≤ –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є: ¬Ђ–Т—Л–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–∞–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї. –ѓ–Ї–Њ–≤ –°–∞–±—Г—А–Њ–≤, –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї —В–Њ–є –≥—Г—Б–∞—А—Б–Ї–Њ-–ї–Є—Ж–µ–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В: ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М¬ї. –Я–∞–≤–µ–ї –Р–љ–љ–µ–љ–Ї–Њ–≤, –ї—Г—З—И–Є–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В: ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М¬ї.¬†вАФ¬†–Ґ–∞–Ї, –≤ ¬Ђ–Ї—А—Г–≥—Г –Љ—Л—Б–ї–µ–є –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞¬ї –≤ 1817 –≥–Њ–і—Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј —Б—В–µ–љ –Ы–Є—Ж–µ—П, —Б–Њ—З–Є–љ—П–µ—В –Њ–і—Г ¬Ђ–Т–Њ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—В–Є—Е–Є (—Б–Љ. ¬Ђ–°–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–ї—О–±–Є–≤–∞—П –ї–Є—А–Є–Ї–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞¬ї)вА¶ –Т 1820 –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –љ–∞ –Ѓ–≥, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Р —Ж–µ–љ—В—А –Ї—А—Г–≥–∞ —В–µ—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є, —В.–µ. –Я–µ—В—А –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤–Є—З –І–∞–∞–і–∞–µ–≤, –њ—А–Њ–і–∞–≤ —Б–≤–Њ—О –і–Њ–ї—О –Є–Љ–µ–љ–Є—П, —Г–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г.¬†
–°–∞–Љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г, –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –љ–µ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Є–Ј–і–∞–ї –≤ —Б–µ—А–Є–Є ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –≤ –ї–Є—Ж–∞—Е¬ї –≤ 2006 –≥–Њ–і—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –С–Њ—А–Є—Б –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤. –Я—А–Њ—Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤-–њ—Г—И–Ї–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ ¬Ђ–Т—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є¬ї –Є ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ¬ї, –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤ –і–∞–µ—В –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–≤–µ—А–µ–љ–љ—Г—О –і–Є–∞–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Я—Г—И–Ї–Є–љвАФ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤. –Т –ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З вАФ –≥—Г–±–Ї–∞, –≤–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–∞—П –Љ—Л—Б–ї–Є –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Е –Є–Љ–µ–љ–∞ ¬Ђ–љ–∞ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–∞—Е —Б–∞–Љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В—М—П¬ї. (–Ґ–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л—Ж–∞—А–∞–њ–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –Ч–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ –Є–ї–Є —Ж–Њ–Ї–Њ–ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–њ–∞: ¬Ђ–Я–µ—В—П –Є –°–∞—И–∞ –±—Л–ї–Є —В—Г—В.1818 –≥.¬ї.)вА¶¬†
–Т 1826-–Љ –Њ–љ–Є —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г: –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б –≤–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є –і–ї—П ¬Ђ–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–µ–Љ¬ї, –Я—Г—И–Ї–Є–љ вАФ –Є–Ј —Б—Б—Л–ї–Ї–Є вАФ —Б ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤—Л–Љ¬ї. –Ф–∞–ї–µ–µ, –њ—А–Є –≤—Б–µ–є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і—А—Г–ґ–±—Л, –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є–µ—В–µ—В–∞, –Њ–љ–Є –њ–Њ—И–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е, –і–∞ —З—В–Њ —В–∞–Љ вАФ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е. –Я—Г—И–Ї–Є–љ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В ¬Ђ–Ю–љ–µ–≥–Є–љ–∞¬ї, –њ–Є—И–µ—В ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ—Б–Ї—Г—О –і–Њ—З–Ї—Г¬ївА¶ –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –≤—Л–њ–ї–∞–≤–ї—П–µ—В –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –≤–µ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —И–µ–і–µ–≤—А–Њ–≤ –Њ–љ –∞–≤—В–Њ—А, –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е вАФ –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є: ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Я—Г–≥–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞¬ї, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —В—А—Г–і. –Р –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –њ–Є—И–µ—В ¬Ђ–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞¬ї, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В —Б –љ–Є–Љ–Є –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞.¬†–С–Њ—А–Є—Б –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤:¬†
¬Ђ–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –µ–≥–Њ –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї–Є—Б—МвА¶ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–є—В–Є—Б—М –±–ї–Є–ґ–µ, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї –і—А—Г–≥—Г –Ї–љ–Є–≥–Є —Б —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ—Л—Б–ї–Є –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —В–Њ—З–Ї–Є —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—ПвА¶ –≤ –љ—С–Љ –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –±—Л–ї—Л–µ —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Є. –£ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є (–Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Л–Љ, вАФ –Ш.–®.). –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –њ—А–Њ–±—Г–µ—В –≤–љ—Г—И–Є—В—М –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г вАЬ–Њ–і–љ—Г –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –Љ—Л—Б–ї—МвАЭ¬ї.¬†
–Ь—Л—Б–ї—М –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–ї–Є—З–Є–є (¬Ђ–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤, –±–µ–і—Б—В–≤–Є–є¬ї) –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В –Ч–∞–њ–∞–і–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Ј—П–ї–∞ –Є–Ј –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ. –Ъ–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ –і–≤–Є–≥–∞–ї –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –Ї –љ–µ–Љ—Г –†–Њ—Б—Б–Є—П –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П. –Я—А–Њ—З–Є—В–∞–≤ ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞¬ї, –Я—Г—И–Ї–Є–љ –Њ—В–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–∞–Љ–Є. –С–Њ—А–Є—Б –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤: ¬Ђ–Э–Њ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤ –љ–µ–Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ —Б —В–µ–Љ–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ–∞—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ—Д–Є–ї—Л¬ї. вАФ –Ґ.–µ. –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥ ¬Ђ–Љ—Л—Б–ї–Є¬ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞. –С—Л–≤—И–Є–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М, –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В, –і–Њ—Б–∞–і—Г–µ—В –љ–∞ –љ–µ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–µ—В –µ–≥–Њ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ –ґ–∞–ї—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –°. –®–µ–≤—Л—А–µ–≤—Г –≤–Ј–і—Л—Е–∞–µ—В –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е –і—А—Г–ґ–±—Л —Б —О–љ—Л–Љ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л–Љ: ¬ЂвА¶–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Є—В–∞–ї –ґ–Є–≤–Њ–µ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –і–Њ–±—А–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л —Ж–≤–µ—В–∞ –Њ–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ¬ї. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М: —П –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ–µ¬ї, —Е–Њ—В—П –Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞, –љ–Њ –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г ¬Ђ–ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—П¬ї. –Ш —В–∞–Ї, –њ–µ—А–µ–±—А–∞–≤ –≤—Б–µ –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–Љ–µ–Ї–Є, –њ–Њ–і—Е–Њ–і—Л, –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –Є –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ—Б–Є—В –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞вА¶ –њ–Њ—Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–µ–Љ¬ї. –Я—Г—И–Ї–Є–љ —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П. ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞¬ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Ґ–µ–ї–µ—Б–Ї–Њ–њ¬ї –Є –±—Л–ї –Ј–∞ —Н—В–Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ вАФ —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞¬ї –і–ї—П 8 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –љ–µ –і–∞—Б—В —Б–Њ–≤—А–∞—В—М. –Э–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ 21 –≤–µ–Ї–∞: —Б–µ–ї—Д–Є –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г –≤—Б–µ –ґ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М...¬†
–Я–µ—А–µ–і –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В—М—Б—П –њ–µ—А–µ–і –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–Љ –Є –њ–Њ–і–∞—А–Є–≤—И–Є–Љ –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є —В–Њ–Љ ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤¬ї, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї —Б—В–∞—В—М—О ¬Ђ–±—Л—Б—В—А–Њ–≥–Њ —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї, –і–∞ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О –µ–≥–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ. –Ч–∞–і–∞—З–∞ (—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–∞—П!) ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї –Є –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б—О —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Є–Љ ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї, –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ: –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤¬ї. –Э–Њ –С–Њ—А–Є—Б –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤ –Є –Т–∞–і–Є–Љ –Ъ–Њ–ґ–Є–љ–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ –Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Ш —З—В–Њ —З–ї–µ–љ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–ґ ¬Ђ–°–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –і—А—Г–Ј—М—П¬ї –Є ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –ї–Њ–ґ–∞ –Р—Б—В—А–µ—П¬ї вАФ –Њ–љ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—А–≤–∞–ї —Б –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ...¬†
–Р –µ—Б–ї–Є –± –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ, —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –±—Л –≤–і—А—Г–≥вА¶ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ?¬†
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ –≥–ї—Г–њ–Њ –њ—Л—В–∞—В—М—Б—П ¬Ђ—А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–∞—В—М¬ї ¬Ђ–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞¬ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б—А–Њ–і–љ–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –љ–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–∞—Е –≤ –њ—П—В–Є –∞–±–Ј–∞—Ж–∞—Е вАФ –Ґ–µ–Њ—А–Є–Є –Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≠–є–љ—И—В–µ–є–љ–∞ –Є —В.–њ. –Э–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ (–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Є —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П) –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ, –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–і–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—П –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є–Љ—Л–Љ–Є –Є –љ–µ—Д–∞–ї—М—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г–µ–Љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–∞—В–Њ–Љ–∞–Љ–Є¬ї –µ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л.¬†–І–∞–∞–і–∞–µ–≤ —Е–≤–∞–ї–Є—В –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ вАФ —А–µ–ї–Є–≥–Є—О –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–∞, —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И—Г—О —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О (–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О, –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–Є–µ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В: ¬Ђ–љ–µ–ї–µ–њ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—Г—В–Є¬ї). –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О: –Њ–љ–Њ –љ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ—А–∞–±—Б—В–≤–∞¬ї, –њ–Њ–Њ—Й—А—П–ї–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Њ—Й–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ. –Ф–∞–ї–µ–µ ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞¬ї –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –љ–µ—З–∞—П–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ —Г–≤–ї–µ–Ї—И–Є—Б—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–є—В–Є –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –±–µ–Ј—Г–Љ–Є—П:¬†
- –Т –Ф—А–µ–≤–љ–µ–Љ –†–Є–Љ–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ, —Н—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ–ї–Њ—Е–Њ, –љ–Њ –Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –†–Є–Љ –њ–Њ–≥–Є–±;
- –Т –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–є –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г (–Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є) —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–∞ –љ–µ—В, вАФ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–Њ;¬†
- –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ, –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–∞–±—Б—В–≤–Њ –µ—Б—В—М, вАФ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ ¬Ђ–љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ¬ї, –Њ—В–Ї–Њ–ї–Њ–ї–∞—Б—М –Њ—В –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—П-–†–Є–Љ–∞.
–Т—Б—П–Ї–Є–є —З–Є—В–∞–≤—И–Є–є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В: –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞—Е¬ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤, –Ї–∞–Ї –≤ —Д—Г–≥–∞—Е –С–∞—Е–∞, –љ–∞ –≤—Б–µ –ї–∞–і—Л –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В –Њ–і–Є–љ –Љ–Њ—В–Є–≤: ¬Ђ–†–∞–±—Б—В–≤–Њ, —А–∞–±—Б—В–≤–Њ, —А–∞–±—Б—В–≤–Њ вАФ —Г–ґ–∞—Б, —Г–ґ–∞—Б, —Г–ґ–∞—Б. –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –µ–≥–Њ –Њ–і–Њ–±—А—П–µ—В. –Р –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї–Њ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Њ—В —А–∞–±—Б—В–≤–∞¬ї. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –і–∞–ґ–µ –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –†–Є–Љ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–∞–ї–Є —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –∞ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є вАФ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ –Я–∞–њ—Л. –Т–∞–ґ–љ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ: –Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, –љ–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –µ–≥–Њ –Ї 18 –≤–µ–Ї—Г –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –љ–∞ –≤–µ–Ї-–њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞-–і–≤–∞ (—Б–Љ–Њ—В—А—П –Њ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л —Б—З–Є—В–∞—В—М). –Э–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ вАФ ¬Ђ—А–∞–±—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї: —Н—В–Њ —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ—Е–ї–µ—Б—В, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ—З–љ—Л–µ –°–Ь–Ш –≤—А–Њ–і–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ю–≥–Њ–љ—С–Ї¬ї, –≥–і–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —И–ї–Њ: ¬Ђ–Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ–Њ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ–ї—Е–Њ–Ј–љ–Њ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ¬ї? –Я–µ—А–µ—Е–ї–µ—Б—В, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—М–љ—Л–є, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ—Б–ї–Є ¬Ђ–њ–µ—А–µ—Е–ї–µ—Б—В—Л–≤–∞–≤—И–Є–є¬ї –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –±–Њ–ї–µ–ї –Ј–∞ ¬Ђ–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ–≤¬ї.
–Ґ–∞–Ї –Є –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е ¬Ђ–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е¬ї (–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —В—Л—Б—П—З–∞—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤!) —Б–Љ–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М: –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ (–і—А–µ–≤–љ–µ—А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–µ, —Б –≥–ї–∞–і–Є–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ) –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ-–Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —И—В–∞–Љ–њ. –Ф–∞, –Њ ¬Ђ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–±—Б—В–≤–µ¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–∞–ї–Њ–љ–∞—Е, –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ. –Э–Њ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–µ—З–∞—В–љ–Њ, –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞, –њ–Њ–Љ–љ—П, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—Г–і—М–±—Г –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —В–Њ—В –Њ–±–ї–Є—З–∞–ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤, —В–Њ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М—Б—П –Є–Ј–≤–µ—А–≥–∞–Љ–Є-–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞–ї –Њ–±—Й–µ-—Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –љ–∞—И–µ–ї: –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М. –Ф–∞–ї–µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–µ—В–µ—В—М –±–µ–Ј –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї, –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–є—И–µ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є: –†–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –¶–µ—А–Ї–≤–µ–є, вАФ –Њ–љ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї –≤ –њ—П—В–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є—Е —Б—В—А–Њ—З–Ї–∞—Е:
вАФ –Я–Њ –≤–Њ–ї–µ —А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б—Г–і—М–±—Л –Љ—Л –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В—М, –Ї —А–∞—Б—В–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Љ —Н—В—Г —Б–µ–Љ—М—О –њ–Њ—Е–Є—В–Є–ї —Г –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Њ–і–Є–љ —З–µ—Б—В–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л–є —Г–Љ, –Є –Љ—Л –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Є–і–µ—О –≤ —Б—В–Њ–ї—М –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ.
–Э–Є–ґ–µ вАФ –Ї —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ ¬Ђ—З–µ—Б—В–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л–є —Г–Љ¬ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –±—А–Њ—Б–∞–µ—В –ї–Є—И—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–§–Њ—В–Є–є¬ї! –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–љ —Б—З–Є—В–∞–ї –≤–Є–љ—Г –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–Њ—В–Є—П –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–є, –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П –≤ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П—Е. –•–Њ—В—П –§–Њ—В–Є–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї —А–Є–Љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–њ –≤ –µ—А–µ—Б–Є –Ј–∞ –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –°–Є–Љ–≤–Њ–ї—Г –≤–µ—А—Л вАФ filioque (–°–≤—П—В–Њ–є –і—Г—Е ¬Ђ–Є –Њ—В –°—Л–љ–∞¬ї). –І—В–Њ —В–∞ ¬Ђ–Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –љ–Њ–≤–Є–љ–Ї–∞¬ї¬†–±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ъ–∞—А–ї–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ, –љ–ЊвА¶ –Т –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї —Г –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –≥–Њ–љ–Ї—Г ¬Ђ–Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б¬ї, –Ј–љ–∞—З–Є—В –Њ–љ –њ—А–∞–≤. –Р –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є (¬Ђ–њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ —Г –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞¬ї вАФ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Љ–Є—А–∞, —В.–µ. —Г –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –†–Є–Љ–∞ –њ–Њ—Е–Є—В–Є–ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г), —Н—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П: –і–µ–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—Б—В–Њ–ї—О–±—Ж–∞, –љ–µ–ї–µ–њ–∞—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М! –Р –≥—А—П–і—Г—Й–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–ЄвА¶ —В—Г—В —З–∞–∞–і–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ј–Є—Б—Л —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –ї–Њ–ґ–∞—В—Б—П –≤ —Г—Б—В–∞ —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–љ–Є–±—Г–і—М –≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є. –Ь–∞–љ–Є–ї–Њ–≤–∞, –Є–ї–Є –Р–≥–∞—Д—М–Є –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–љ—Л –Є–Ј ¬Ђ–Ц–µ–љ–Є—В—М–±—Л¬ї: ¬Ђ–Р—Е –µ—Б–ї–Є –± –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –±—Л –≤–і—А—Г–≥вА¶ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ? –С—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –Є–Ј—П—З–љ–µ–є¬ї.¬†вАФ¬†–Ш —Н—В–Њ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ¬ї –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —В—Л—Б—П—З–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –њ–µ—А–µ–є–і—П –≤ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ! –Ю–і–љ–Є, –Ї–∞–Ї –Ї–љ—П–Ј—М –У–∞–≥–∞—А–Є–љ, –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї–Є –≥—А–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ: ¬Ђ–≠—В–Њ –Љ—Л –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞!¬ї, –і—А—Г–≥–Є–µ —Г–Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —В—А–µ—В—М–Є—Е, –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е, –љ–µ–њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є вАФ –Ї–∞–љ—Г–ї–Є –≤ –Ы–µ—В—Г.
–°—Г–і—М–±–∞ –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞
–Ш—В–∞–Ї, ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞¬ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л, –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Ґ–µ–ї–µ—Б–Ї–Њ–њ¬ї –Ј–∞–Ї—А—Л—В, –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ. –£–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–±—А–∞–љ—Ж—Л –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї вАФ –Њ—В—А—П–і —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є, –љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –і—Г–Љ–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–Є –Є–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—О—В, –њ—А–∞–≤–і–∞вА¶ –≤ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–∞–ї–Њ–љ–∞—Е, –≤ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е. –Э–µ –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є. –Ш–±–Њ –≤–µ–Ї, –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і–Њ–≤: ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є¬ї, –Є –ї—О–і–Є вАФ ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ¬ї. –Ю–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–±—А—Г—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞ –Є ¬Ђ–Ґ–µ–ї–µ—Б–Ї–Њ–њ¬ї —Б—В–µ—Б–љ—П–ї–Є—Б—М –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ—Л–µ —Б–Є–ї–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ—Л –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞.¬†
–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–•–Њ–Љ—П–Ї–Њ–≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –≥—А–Њ–Љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–Њ, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—А–∞—Е (–њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г, вАФ –Ш.–®.) –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П¬ї. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ вАФ –С–∞—А–∞—В—Л–љ—Б–Ї–Є–є. –Т.–§. –Ю–і–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ: ¬Ђ–У–ї—Г–њ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞ –Ј–∞—В–≤–Њ—А—П–µ—В —А–Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М—Б—П¬ї. –°. –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ–∞вАФ–±—А–∞—В—Г: ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞ –≤ вАЬ–Ґ–µ–ї–µ—Б–Ї–Њ–њ–µвАЭ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї. –¶–µ–љ–Ј–Њ—А –Р. –Э–Є–Ї–Є—В–µ–љ–Ї–Њ: ¬Ђ–£–ґ–∞—Б–љ–∞—П —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–∞ –≤ —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–µ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ¬ї. –Т.–§. –Ю–і.–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є: ¬Ђ–Ґ–∞–Ї–Њ–є —В—А–µ–Ј–≤–Њ–љ –њ–Њ –≥–Њ—Б—В–Є–љ—Л–Љ, —З—В–Њ —Г–ґ–∞—Б¬ї. –Э–∞–і–µ–ґ–і–Є–љ (—А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Ґ–µ–ї–µ—Б–Ї–Њ–њ–∞¬ї): ¬Ђ–Э–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–µ. –£–ґ–∞—Б —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В¬ївА¶
–Р –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ—Г—А–≥–µ–љ–µ–≤вАФ–Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г: ¬Ђ–Ч–і–µ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —В–Њ–ї–Ї–Є –Њ —Б—В–∞—В—М–µ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, –Њ–ґ–Є–і–∞—О—В –≥—А–Њ–Ј—Л –Њ—В –≤–∞—Б¬ї. –Ш–≤–∞–љ –У–∞–≥–∞—А–Є–љ, —В–Њ—В, —З—В–Њ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г, –њ–Є—И–µ—В —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Г—З–Є—В–µ–ї—О: ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –љ–µ–Љ–µ—Ж (—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –®–µ–ї–ї–Є–љ–≥) –≤–∞–Љ–Є –±—А–µ–і–Є—В, –ї–Њ–≤–Є—В –≤–µ–Ј–і–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –ґ–∞–і–љ–Њ —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Њ –≤–∞—Б¬ї.¬†–Э–Њ вАФ –љ–∞—И 21 –≤–µ–Ї вАФ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є¬ї, –Є –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –њ–∞—Г–Ј—Г –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П, –Љ–Њ–ї: ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г –Є —В–∞–Ї –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї. вАФ –†–∞–Ј–±—А–Њ–і, –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ –≤ —Г–Љ—Л –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±—А–Њ–і–∞ вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 1917 –≥–Њ–і–∞ вАФ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–∞—О—В –њ–Њ-–Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—М –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Њ—Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Д–∞–Ї—В—Л, –њ—Г—Б—В—М —Н—В–Њ –і–∞–ґ–µ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—М–µ¬ї, —Б–±–Њ—А –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–∞—В–∞:¬†
–Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞. –Ґ—А–∞–Љ–њ–ї–Є–љ –љ–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤: –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤ вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, –°–µ—А–≥–µ–є –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤-–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї вАФ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї. –І–∞–∞–і–∞–µ–≤, –Ї–Њ–µ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ, –Ї 1818 –≥–Њ–і—Г вАФ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Ї–Њ—А–љ–µ—В. –Ш–±–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –Ї—А–Њ–Љ–µ –ї–Є—З–љ–Њ–є —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є (–љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Г –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞) —В—А–µ–±—Г–µ—В –µ—Й–µ –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Э–µ–Ј–∞–і–∞—З–ї–Є–≤—Л–є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ. –Ф–ї—П –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –ї–Є—И—М —А–∞–Ј–Њ–≤–Њ –њ—А–Њ–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ—А–∞–±–Њ–≤¬ї. –Ю—Б—В–∞—В–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ —В–µ—В—Г—И–Ї–Є –©–µ—А–±–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –≤ –і–Њ–Љ–µ —Г –Ы–µ–≤–∞—И–Њ–≤—Л—Е. –Ґ—Г—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –Є–Ј–≤–Є–љ—П–µ—В –ї–Є—И—М ¬Ђ–Њ–±—Й–Є–є —В—А–µ–љ–і¬ї. –Т—Б–µ —Б–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –ї–Є—Ж–µ–Ј—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ—Г–ґ–∞—Б–Њ–≤ —А–∞–±—Б—В–≤–∞¬ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є –Є–ї–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л –≤—А–Њ–і–µ –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞, –Ю–≥–∞—А–µ–≤–∞ —Б –µ–≥–Њ —В—Л—Б—П—З—М—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –і—Г—И, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П: ¬Ђ–Ь—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–∞–±—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –∞ –љ–∞—И–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–µ вАФ —Н—В–Њ –љ–∞—И–µ —З–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Р —Б—З–Є—В–∞—В—М —З—Г–ґ–Є–µ –і–Њ—Е–Њ–і—Л, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ вАФ –љ–µ –Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ¬ї.¬†
–Т–µ—З–љ—Л–є –і–µ–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї? –Р–≤—В–Њ—А –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ц–Є—Е–∞—А–µ–≤, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є, –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ:¬†¬Ђ–Х–≥–Њ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —В–µ–љ—М –≤ –Њ–±—Й–µ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л, –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–Ј–ї–Є—И–љ—О—О –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ—Б—В—МвА¶ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —В–Њ, —З—В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –Ј–Њ–≤—Г—В –∞—Д—Д–µ–Ї—В–∞—Ж–Є–µ–євА¶ –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Њ –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –°–∞–Љ –Њ–љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Г–Ї–ї–Њ–љ—З–Є–≤–ЊвА¶ –Ґ–∞–Ї —П —А–µ—И–Є–ї—Б—П –љ–∞–њ—А—П–Љ–Ї–Є –Ј–∞–і–∞—В—М –µ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В–∞: вАЬ–Я—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, –Є –µ—Б–ї–Є –њ—А–∞–≤–і–∞, —В–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г: –Њ—В —З–Є—Б—В–Њ—В—Л –ї–Є –љ—А–∞–≤–Њ–≤, –Є–ї–Є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ?вАЭ
–Ю—В–≤–µ—В —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ: вАЬ–Ґ—Л –≤—Б—С —Г–Ј–љ–∞–µ—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Г–Љ—А—ГвАЭ. –Я—А–Њ—И–ї–Њ 8 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Є —П –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і–µ –Њ–і–Є–љ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –љ–Є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є, –љ–Є –≤ –≤–Њ–Ј–Љ—Г–ґ–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ¬ї.¬†–Ф–Њ–Ї—Г—З–ї–Є–≤—Л–є –≥—А–∞—Д–Њ–Љ–∞–љ?¬†–Ъ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ ¬Ђ–∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞¬ї, —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–Ї—Г—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –њ—А–Њ—Б—М–±–∞–Љ–Є –Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П—Е, –Њ—В–Ј—Л–≤–µ –Њ –µ–≥–Њ ¬Ђ–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е¬ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–ЊвА¶ –њ–Њ—Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, вАФ —П –і–Њ–±–∞–≤–ї—О –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є, –љ–Њ –Є —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–є –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В. –Ф–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1836 –≥–Њ–і–∞, –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –ґ–Є—В—М –≤—Б–µ–≥–Њ —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞! –Х—Й–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –і—А—Г–ґ–±–µ, —О–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Њ–љ –љ–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–∞¬ї —Г —Б–µ–±—П –≤ ¬Ђ–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–µ¬ї вАФ –≤—Л—И–ї–∞ –± ¬Ђ—И—В—Г–Ї–∞ –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–µ–µ¬ї –Є–љ—В—А–Є–≥–Є –Ф–∞–љ—В–µ—Б–∞-–У–µ–Ї–Ї–µ—А–љ–∞.¬†
–Ю—А–µ–Њ–ї –љ–µ–њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ –≥–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≥–Њ? ¬Ђ–Я–Њ—З—В–Є –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞¬ї, –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ. –У–Њ–і –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 1841-–є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г ¬Ђ–њ—Б–Є—Е–Њ–љ–µ–≤—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј—Г¬ї —Г–ґ–µ 15 –ї–µ—В. –Э–Њ –≤–µ–Ї, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—О: ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є¬ї, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —В—А–∞–≤–Є—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞, –љ–µ –≥–Њ–љ–Є—В —Б —А–∞—Г—В–Њ–≤. –Ш –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –њ—А–Є—С–Љ–µ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–њ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О—Й–µ–Љ—Г —Б –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ъ–Є—Б–µ–ї—С–≤—Л–ЉвА¶ –Ш —З—В–Њ, –њ–Њ-–≤–∞—И–µ–Љ—Г, —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М? –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А, —Б–Њ—Й—Г—А–Є–≤—И–Є—Б—М, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –Ї–∞–Ї –®—Г—А–Є–Ї –≤ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є –У–∞–є–і–∞—П: ¬Ђ–Р –≤–∞—Б —Г–ґ–µ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Є–Ј —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞?¬ї¬†
–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Є–љ—Г–ґ–і—С–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—З–Є—В–∞—О—В –≤–µ—А—И–Є–љ–Њ–є, –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П —Б—В–Є–ї—М –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–є, –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤вА¶ –Р —В–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –њ–Њ–ї—Г–Њ–±–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є, –І–∞–∞–і–∞–µ–≤!¬ї, –ї–µ–≥–Ї–Њ, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Ї–Є–≤–љ—Г–ї. –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–∞—А—Г —И–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞–Ј–∞–і, –∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Ъ–Є—Б–µ–ї—С–≤—Л–Љ (–≤–µ—А–љ–Њ, –Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї–∞—Е), –Є –±—Г–і—В–Њ –≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –њ–∞—А—Г —А–∞–Ј —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П —А—Г–Ї–Њ–є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–Ф–∞ –≤–Њ—В —Б–њ—А–Њ—Б–Є —Е–Њ—В—М –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞¬ївА¶
–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ, –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ—Б—В–Є–ї–µ–Љ–µ—В—А—Л¬ї вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±—Л –Ј–∞—И–Ї–∞–ї–Є–ї–Є. –Я–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б—Ж–µ–љ–∞—Е вАФ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ, –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –±—Л –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї—Г–ґ–∞–Љ–Є. –Р –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ —Б –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Є–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л, –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є—О –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞: –≤ –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В–∞. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–ї ¬Ђ–Р–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–µ–≥–Њ¬ї, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е –Ї –љ–µ–Љ—Г –Љ–µ—А. –Э–Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї–Є –і—Г–Љ —Н–њ–Њ—Е–Є ¬Ђ–Я–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є 1860-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤¬ї –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б –Ф–Њ–±—А–Њ–ї—О–±–Њ–≤—Л–Љ, –≥–Њ—В–Њ–≤—П –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤—Б—С —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ¬ї. –Т–∞–і–Є–Љ –Ъ–Њ–ґ–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є–Ї, –∞ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В.
¬Ђ–Э–∞—И–µ –≤—Б—С¬ї –Є –љ–∞—И ¬Ђ–Є–і–µ–є–љ—Л–є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї¬ї
–Я—А–Є —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–≤–ї–µ–Ї –Ї –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, —В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞ –≤ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ вАФ –љ–µ—В. –Т–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ: —Б–≤–Њ–і—П –≤—Б—С —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є—П/–Ч–∞–њ–∞–і –Ї: –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ/–Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ, –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –Ј–∞–±—Л–ї –Њ –≤—Б–µ—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞—Е, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –І–∞–∞–і–∞–µ–≤: ¬Ђ–£–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—Г—Б—В—Л–љ—П—Е, –Љ—Л –љ–µ –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї. –Я—Г—И–Ї–Є–љ: ¬Ђ–Э–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ —Б—Е–Є–Ј–Љ–∞ (—А–∞—Б–Ї–Њ–ї —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є) –Њ—В—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ –љ–∞—Б –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Э–Њ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ¬ї. –Ш –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: —Б–µ–ї–Њ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є, —З–µ–Љ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ, –Я–∞—А–Є–ґ, –†–Є–Љ, –Ц–µ–љ–µ–≤–∞, –С–µ—А–ї–Є–љ, –Ь—О–љ—Е–µ–љвА¶ (–њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞—О —П—А–Ї–Є–µ ¬Ђ–љ–∞–Ї–ї–µ–є–Ї–Є –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–Љ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–µ¬ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞).
–Ч–∞—П–≤–Є–≤ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ—З–µ—А–Ї–∞ –Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞ ¬Ђ–І–∞–∞–і–∞–µ–≤вАФ–Я—Г—И–Ї–Є–љ¬ї, —П —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є, –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–є –Ї –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —Б—В–∞–ї –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–Њ–Љ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ ¬Ђ–љ–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–∞¬ї вАФ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є–љ—Д–Є–ї—М—В—А–∞—Ж–Є–є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–і–µ–є, –Є–і–µ–µ–Ї.¬†
–Р —А—П–і–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї –≥–µ–љ–Є–є, —Г—Б–≤–∞–Є–≤–∞—П, —Б–≤–µ—А—П—П —Б —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є–і–µ–Є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞. –Э–Њ —Н–њ–Є—В–µ—В ¬Ђ–≥–µ–љ–Є–є¬ї —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–Љ 1836 –≥–Њ–і–∞ вАФ –≤–µ–і—М —Г–Љ—Г–і—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ—Б –њ—А–Њ–ґ–Є—В—Л–Љ–Є –ї–µ—В–∞–Љ–Є¬ї —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ–љ–Є—П–Љ. –Ґ—Г—В —П –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ—Г –Ј–∞–≥–∞–і–Ї—Г... –Т–Њ–Ј—М–Љ–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б–Њ —И–Ї–Њ–ї—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ъ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г¬ї. –°–∞–Љ—Л–є —З—В–Њ –љ–Є –љ–∞ –µ—Б—В—М вАФ 1818-–є –≥–Њ–і. –Ѓ–љ–Њ—Б—В—М. –Р–њ–Њ–≥–µ–є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –∞–і—А–µ—Б–∞—В–∞ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є –≤—Б–µ–є ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–ї—О–±–Є–≤–Њ–є –ї–Є—А–Є–Ї–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞¬ї:¬†
...–Э–Њ –≤ –љ–∞—Б –≥–Њ—А–Є—В –µ—Й–µ –ґ–µ–ї–∞–љ—М–µ,
–Я–Њ–і –≥–љ–µ—В–Њ–Љ –≤–ї–∞—Б—В–Є —А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є
–Э–µ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ—О –і—Г—И–Њ–є
–Ю—В—З–Є–Ј–љ—Л –≤–љ–µ–Љ–ї–µ–Љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–љ—М–µ.
–Ь—Л –ґ–і–µ–Љ —Б —В–Њ–Љ–ї–µ–љ—М–µ–Љ —Г–њ–Њ–≤–∞–љ—М—П
–Ь–Є–љ—Г—В—Л –≤–Њ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤—П—В–Њ–є,
–Ъ–∞–Ї –ґ–і–µ—В –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є–Ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є
–Ь–Є–љ—Г—В—Л –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Є–і–∞–љ—М—П.
вА¶–Ш –і–∞–ї–µ–µ вАФ —Б–∞–Љ—Л–µ, –≥–Њ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є:
–Я–Њ–Ї–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ—О –≥–Њ—А–Є–Љ,
–Я–Њ–Ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞ –і–ї—П —З–µ—Б—В–Є –ґ–Є–≤—Л,
–Ь–Њ–є –і—А—Г–≥, –Њ—В—З–Є–Ј–љ–µ –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–Љ
–Ф—Г—И–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –њ–Њ—А—Л–≤—Л!
–Ь–Њ—П ¬Ђ–Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞¬ї
–Ъ–∞–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–µ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ—М–µ –У–µ–љ–Є—П?¬†
- ¬Ђ–Т–Њ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї?¬†
- ¬Ђ–°–µ—А–і—Ж–∞¬ї?¬†
- ¬Ђ–І–µ—Б—В—М¬ї?
–Ф–∞ —В—Л—Б—П—З–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–µ–≤ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Є—Е вАФ –Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ. –Ф–∞—О –њ–Њ–ї—Г-–њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–Ї—Г: –Є—Б–Ї–Њ–Љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤ —Н—В–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Њ –і–≤–∞–ґ–і—Л. ¬Ђ–Ю—В—З–Є–Ј–љ–∞¬ї? вАФ –Э–Њ —В—Г—В —Г–ґ –Ј–∞ –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–±–µ—А—Г—В—Б—П –љ–µ —В—Л—Б—П—З–Є вАФ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–Њ—В–љ–Є —В—Л—Б—П—З, —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–≤—И–Є—Е –µ—С. –Р –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Ї–ї—О—З, ¬Ђ–Ї–Њ–і –≥–µ–љ–Є—П¬ї вАФ —Н—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–ЊвА¶ ¬Ђ–њ–Њ–Ї–∞¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –љ–µ–Љ —Б–Є–і–Є—В –Є –±—Г–і—Г—Й–∞—П, —Г–ґ–µ –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Љ–Њ–Є—Е –Ј–∞–≥–∞–і–Њ–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞: ¬Ђ–С–ї–∞–ґ–µ–љ, –Ї—В–Њ —Б–Љ–Њ–ї–Њ–і—Г –±—Л–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і!¬ї вАФ –Я—Г—И–Ї–Є–љ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–≥–∞–і–∞–ї, ¬Ђ–љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ –≤ —Б—В—А–Њ–Ї—Г –ї–µ–≥–ї–Њ¬ї: ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ-–≥–Њ—А–µ–љ–Є–µ¬ї вАФ –љ–µ –≤–µ—З–љ—Л! ¬Ђ–Я–Њ–Ї–∞¬ї.
–Э–Њ –≤–µ–і—М —А–Є—Б–Ї–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –Ј—А–µ–ї—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Я–Њ—Н—В –Њ—Е–ї–∞–і–µ–ї –Ї ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ, –Ю—В—З–Є–Ј–љ–µ, —З–µ—Б—В–Є¬ї вАФ –Њ–љ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –±—Л –љ–∞ –і—Г—Н–ї—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≥–љ–µ–≤–љ–Њ, —З–µ–Љ –Ф–∞–љ—В–µ—Б–∞. –Т—Б–µ –і–µ–ї–Њ –≤ –≥—А–∞–і—Г—Б–µ ¬Ђ–≥–Њ—А–µ–љ–Є—П¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –Њ–љ —В–∞–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –≥–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ вАФ –ї–µ–≥–Ї–Њ–є –і–Њ–±—Л—З–µ–є –ї—О–±–Њ–≥–Њ –і–µ–Љ–∞–≥–Њ–≥–∞. –Э–µ–≤–∞–ґ–љ–∞, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –њ—А–∞–≤–Њ—В—Л/–љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ—В—Л –Љ—Г–і—А–µ—Ж–∞ –Є–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–Љ—П –≤–Њ–ґ–і—П, –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Є—А–Њ–Љ–∞–љ–∞?
¬Ђ–Э–∞—Б –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—Б–Ї–Є–є –ї—С–і¬ї, –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Б—В–Њ –ї–µ—В –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г вАФ –љ–∞ –ї—С–і –°–µ–љ–∞—В—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Є –Э–µ–≤—ЛвА¶ –Ґ–∞–Ї —З—В–ЊвА¶ –С–ї–∞–ґ–µ–љ, –Ї—В–Њ —Б–Љ–Њ–ї–Њ–і—Г –±—Л–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і. вАФ –Э–Њ –≥–µ–љ–Є–∞–ї–µ–љ вАФ —В–Њ—В, –Ї—В–Њ —Б–Љ–Њ–ї–Њ–і—Г –µ—Й–µ –Є —Г–≥–∞–і–∞–ї. –Я–Њ–Ї–∞! –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х
![]() вАЛ
вАЛ