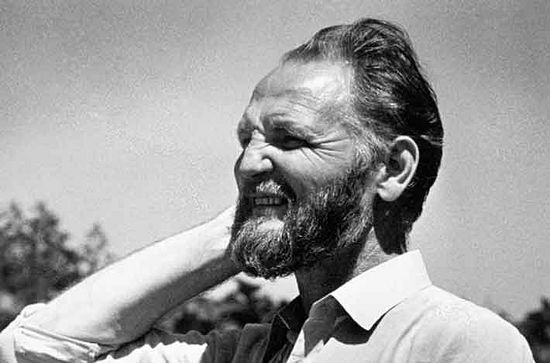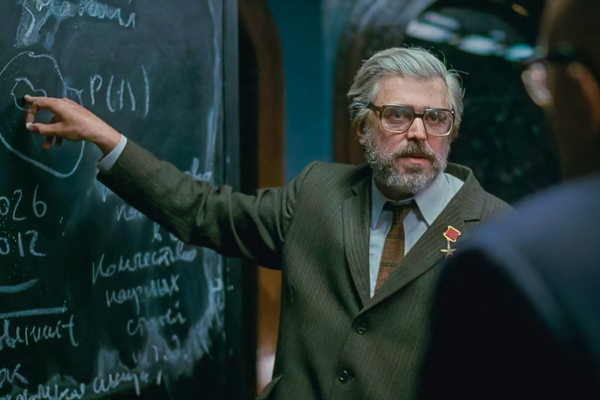–Ц–∞–љ–љ–∞ –івАЩ–Р—А–Ї, –∞—А–Љ–∞–љ—М—П–Ї—Б–Ї–∞—П –≤–µ–і—М–Љ–∞, –Є–ї–Є –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–∞ XV –≤–µ–Ї–∞
–Ц–∞–љ–љ–∞ –івАЩ–Р—А–Ї, –∞—А–Љ–∞–љ—М—П–Ї—Б–Ї–∞—П –≤–µ–і—М–Љ–∞, –Є–ї–Є –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–∞ XV –≤–µ–Ї–∞

–Я–†–Ю–Ф–Ю–Ы–Ц–Х–Э–Ш–Х. –Я–†–Х–Ф–Ђ–Ф–£–©–Х–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ
–Р —З—В–Њ —В–∞–Љ —П—А–Ї–Њ —Б–≤–µ—В–Є—В –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ–љ–∞—А—П–Љ–Є? –≠—В–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –С—О—Б–Є, –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М–µ –°–µ–љ-–Ц–µ—А–Љ–µ–љ, —Г–ї–Є—Ж–∞ –°–µ–љ-–Р–љ–і—А–µ-–і–µ–Ј-–Р—А—В. –Ґ—Г—В —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Ї–∞–±–∞–Ї –љ–µ–Љ—Ж–∞ –У–µ—А—Е–∞—А–і–∞ —Б –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є вАФ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–є—В–Є –Є –µ—Й—С —А–∞–Ј –Ї—Г–њ–Є—В—М –њ–Є–≤–∞. –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –і–Њ–Љ–∞ –Њ—В –њ–Є—В–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ы–µ –Ъ–ї–µ—А–Ї, —Б–≤–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –ї–∞–≥–µ—А–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ...
–Ы–µ –Ъ–ї–µ—А–Ї –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –ї–∞–Ї–µ–µ–Љ —Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ —И—В–∞–ї–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—А–µ–Љ —Г –≥—А–∞—Д–∞ –і–µ –С–∞—А–±–Њ–Ј–∞–љ–∞, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В –Њ—В –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–є. –Р –ї–µ—В —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М-–њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Ц–∞–љ –Ы–µ –Ъ–ї–µ—А–Ї, —Б—Л–љ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—Г—В–Ї–Є, –Ј–∞–є–Љ—С—В –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ –Ъ–∞—А–ї–∞ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ, —Б—В–∞–љ–µ—В –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ —Б–µ–љ—М–Њ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Ї—Г ¬Ђ–і–µ¬ї. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ ¬Ђ–Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В¬ї –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Ж–µ–≤. –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї –Ї—Г–ї–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞—А–љ–Є–Ј—Г –Њ–Ї–љ–∞ –≤ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ:
вАФ –Ц–Є–≤—Л–µ –µ—Б—В—М, —В–≤–Њ—О –Љ–∞—В—М?
–Т—Л—Б—Г–љ—Г–ї–∞—Б—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤ –±–µ–ї–Њ–Љ —З–µ–њ—З–Є–Ї–µ —Б ¬Ђ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є¬ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є —Г–±–Њ—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П ¬Ђ–Ї—А—Г–Ј–µ–ї–µ—А¬ї (–њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ—П¬ї). –Ь–Њ–ї—З–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В. –У—А–∞—Д –µ—Й—С —А–∞–Ј –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–ї –Ї—Г–ї–∞–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞—А–љ–Є–Ј—Г, –Њ—В —З–µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–∞ —Г—И–Є –ї–∞–і–Њ–љ—П–Љ–Є.
вАФ –Ф–Њ–ї–ґ–Њ–Ї –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є.¬†
–Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞, –Ї–∞–Ї –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М:
вАФ –Я—А–Є–≤–µ—В —В–µ–±–µ –Њ—В –±–∞–Ї–∞–ї–∞–≤—А–∞.
–У—А–∞—Д –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –µ–є —И–Є—В—Л–є –ґ–µ–Љ—З—Г–≥–Њ–Љ –Ї–Њ—И–µ–ї—М —Б –Љ–µ–ї–Њ—З—М—О вАФ —А–Њ–≤–љ–Њ 50 —Б—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –њ–Њ—И—С–ї –≤ –Ї–∞–±–∞–Ї –Ї –†–µ–є–љ—Е–∞—А–і—Г. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є—И—С–ї –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –°–µ–љ-–Р–љ–і—А–µ-–і–µ–Ј-–Р—А—В. –°–љ–Њ–≤–∞ –≤—Л—Б—Г–љ—Г–ї–∞—Б—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ —Б ¬Ђ–≥–Њ–ї—Г–±—П—В–љ–µ–є¬ї –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ ¬Ђ—А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї—Г¬ї –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—О —В–Њ—В –ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–є –Ї–Њ—И–µ–ї—М. –Э—Г, —Б –≤–Є–і—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ вАФ —Б –±–∞—И–Љ–∞—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–њ–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Є —Б –±—А–Њ–і—П—З–Є–Љ–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є, —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –Њ–Ї–љ–Њ, –∞ –љ–µ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–µ—А—М. –Ш —В–Њ–≤–∞—А –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є, –Є –і–µ–љ—М–≥–Є –њ–ї–∞—В–Є–ї–Є —В–Њ–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –Њ–Ї–љ–Њ... –Р —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ? –Э–Є—З–µ–≥–Њ. –Э–Њ –≤ –Ї–Њ—И–µ–ї—М–Ї–µ –±—Л–ї–Њ —А–Њ–≤–љ–Њ 49 —Б—Г. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –≤–µ—Б—В–Њ—З–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–∞ –Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞–і–Њ.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–є—В–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ –≤–Њ—А–Њ—В –°–µ–љ-–Ь–∞—А—В–µ–љ –Є –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ–Є –≥—А–∞—Д—Д–Є—В–Є –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ –≤—А–µ–Љ—С–љ –Ъ–∞—А–ї–∞ –Ь—Г–і—А–Њ–≥–Њ. –Ґ–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–Ї –±—Л –і–Њ—Б–Ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–є вАФ ¬Ђ–Ї—Г–њ–ї—О¬ї, ¬Ђ–њ—А–Њ–і–∞–Љ¬ї –Є —В.–і., вАФ –∞ –µ—Й—С –њ–∞—А–Є–ґ–∞–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–Є –њ–Є—Б–∞—В—М –≤—Б—П–Ї–Є–є –≤–Ј–і–Њ—А –љ–∞ —Б—В–µ–љ–∞—Е. –Т–Њ—В —Б—А–µ–і–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Ј–і–Њ—А–∞ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є—В–Є –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –ї–∞–≥–µ—А—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ!
–Я–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –≥—А–∞—Д –Ј–∞—И—С–ї –Ї –†–µ–є–љ—Е–∞—А–і—Г, –Ї—Г–њ–Є–ї –њ–Є–≤–∞ –Є –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і–Њ–≤ —Б –ґ–∞—А–µ–љ—Л–Љ —Д–∞—А—И–µ–Љ. –У—А–∞—Д –Є –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –ї—О–±–Є–ї –≤–Њ—В —В–∞–Ї —И–∞—В–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –Я–∞—А–Є–ґ—Г —Б ¬Ђ—Д–ї—П–≥–Њ–є¬ї –њ–Є–≤–∞ –Є —Б —Б—Г–Љ–Ї–Њ–є —Е–ї–µ–±–∞ –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Л. –Ъ–∞–љ–∞–µ—И—М —Б–µ–±–µ —Н—В–∞–Ї –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г вАФ –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –ї—О–і–Є –≥—Г–ї—П—О—В, –љ—Г, –Є —В—Л —В–Њ–ґ–µ –≥—Г–ї—П–µ—И—М. –Ґ—Л –≥–ї–∞–Ј–µ–µ—И—М –њ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ, –Є –љ–∞ —В–µ–±—П —В–Њ–ґ–µ –≥–ї–∞–Ј–µ—О—В. –Ч–∞—И—С–ї —Б—О–і–∞, –Ј–∞—И—С–ї —В—Г–і–∞, –њ–Њ—В–Њ—А—З–∞–ї –Ј–і–µ—Б—М, –њ–Њ—В–Њ—А—З–∞–ї —В–∞–Љ. –Ч–і–µ—Б—М –≥–∞–і–∞–ї–Ї–Є, —В–∞–Љ –Ї–ї–Њ—Г–љ—Л, –∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ —Б—В–Њ–Є—В –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –±—Л–≤—И–µ–µ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—В—А—П–љ–Њ–є –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є, вАФ —В–∞–Љ –±–∞–±—Л —А–∞–Ј–і–µ–≤–∞—О—В—Б—П. –Р –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–њ–ї–∞—В–Є—В—М, —В–Њ –Є –≤—Б—С –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –і–µ–ї–∞—О—В. –Р –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤ –±–∞–ї–∞–≥–∞–љ –Ј–∞–є—В–Є –Ј–∞ –і–≤–µ –Љ–Њ–љ–µ—В—Л –Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Ї—Г–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Њ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е. –Ґ–∞–Љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П —Б —Б–∞—А–∞—Ж–Є–љ–∞–Љ–Є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Л—Ж–∞—А—М –С–µ—А–љ–∞—А–і –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ —Б—О—А–Ї–Њ –Є –≤ —И–ї–µ–Љ–µ —Б –±–µ–ї—Л–Љ –љ–∞–Ј–∞—В—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞—В—Л–Љ –±—Г—А–µ–ї–µ—В–Њ–Љ. –Ч–љ–∞–ї–Є –±—Л —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞ –±–∞–ї–∞–≥–∞–љ–∞, —З—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –°–Є–љ–µ–≥–Њ —А—Л—Ж–∞—А—П —Б–Є–і–Є—В –≤–Њ–љ –≤ —В–Њ–Љ —Г–≥–ї—Г –Є —Е–∞–≤–∞–µ—В –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і—Л вАФ –Њ–љ–Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –±—Л –µ–Љ—Г —Н—В–Є –і–≤–µ –Љ–Њ–љ–µ—В—Л.
–Р –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ вАФ –≤ –Ї–∞–±–∞–Ї –љ–µ–Љ—Ж–∞ –†–µ–є–љ—Е–∞—А–і–∞вА¶
–Э–Њ ¬Ђ–µ—Й—С –љ–µ –≤–µ—З–µ—А¬ї. –У—А–∞—Д, —Б—Л—В–љ–Њ —А—Л–≥–∞—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ –≤–Њ—А–Њ—В –°–µ–љ-–Ь–∞—А—В–µ–љ –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ —Б–≤–µ–ґ—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Я—А–Є—Е–Њ–і–Є –Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤ –њ–Њ–ї–і–µ–љ—М, –Ј–љ–∞–µ—И—М –Ї—Г–і–∞. –Ґ–≤–Њ—П –Ї–Њ—И–µ—З–Ї–∞ –Ь–∞—А–≥–Њ¬ї.
вАФ –£–≥—Г, —П –њ–Њ–љ—П–ї!
¬Ђ–Ч–љ–∞–µ—И—М –Ї—Г–і–∞¬ї вАФ —Н—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞–±–∞–Ї, –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ф–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П –ї–Њ—И–∞–і—М¬ї –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М–µ –°–µ–љ-–Ц–µ—А–Љ–µ–љ. –Ґ–∞–Љ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є. –Ґ—Г–і–∞ –і–∞–ґ–µ –і–Њ—Д–Є–љ –Ъ–∞—А–ї –њ–∞—А—Г —А–∞–Ј —Е–Њ–і–Є–ї, вАФ —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–њ–∞—А—В–Є–µ–є¬ї. –Ш –±—Л–ї –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ.¬†
–Э–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ї–Њ—И–µ—З–Ї–Є¬ї —В–∞–Љ, —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є, –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —Е–Њ—В—П –≤—Б—П–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ. –Ш –Ї–∞–±–∞–Ї, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –љ–µ –Є–Ј –і–µ—И—С–≤—Л—Е. –Т—Б–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞ ¬Ђ–±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і—Л¬ї, –∞ –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П вАФ –Љ–Њ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М, –∞ –љ–µ —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—М. –С—Л–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –Є ¬Ђ–љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —И—В–∞—В—Б–Ї–Є–µ¬ї –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–Љ —Г–ї–Є—З–љ–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ ¬Ђ–Љ–Є-–њ–∞—А—В–Є¬ї (–Љ—Л вАФ –њ–∞—А—В–Є—П!). –Ю–љ–Є –Њ–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е —В—А–µ–њ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б—О–Ј–µ—А–µ–љ—Г (—Г–ґ —Г –Ї–Њ–≥–Њ вАФ –Ї–∞–Ї–Њ–є!), –љ–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —П—А–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —И—Г—В—Л –Є –ї–∞–Ї–µ–Є –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Љ–Ї–∞—Е. –Ш –љ–Є–Ї—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л. –Ч–і–µ—Б—М –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л, –±–Њ–≥–∞—В—Л, —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л –Є вАФ –љ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л. –Ф–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —О—А–Є—Б—В—Л, –±–∞–љ–Ї–Є—А—Л, –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Є, –µ–≤—А–µ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –ґ—Г–ї–Є–Ї–Є –Є –Љ–µ–і–Є–Ї–Є, –∞ —В–Њ—А–≥–∞—И–Є –Њ—З–µ–љ—М –Є—Е –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–Є. –Ю–љ–Є –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Є—Е –љ–µ –ї—О–±—П—В.
–Ч–∞—В–Њ —Б–µ—А–≤–Є—Б вАФ ¬Ђ–Ї–ї–∞—Б—Б вАФ –≤—Л–±–µ–є –≥–ї–∞–Ј¬ї! –Т –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–±–∞–Ї–∞—Е 15 –≤–µ–Ї–∞ –Ї –ї—О–і—П–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ: –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–∞–ґ–∞–ї–Є –≤—Б–µ—Е –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї–Є–љ–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –і–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–∞–ї–Є –Ї—А—Г–ґ–Ї–Є –Є —В–∞—А–µ–ї–Ї–Є. –Я—А—П–Љ —Б–Њ —Б–≤–Є—Б—В–Њ–Љ вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–є –ї–Њ–≤–Є—В—М. –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ —Г–і–Є–≤–ї—П–є—Б—П, —З—В–Њ —В–≤–Њ–є –Ј–∞–Ї–∞–Ј —Г–ї–µ—В–µ–ї –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г. –Ґ—Л —Н—В–Њ... —Е–≤–∞—В–∞–є —Б–Љ–µ–ї–µ–µ, –Є –ґ—А–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–є–Љ–∞–ї, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ? –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –≤ —З–µ—В–≤–µ—А–≥ –≤—Б–µ –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞–±–∞–Ї–Є –ґ–∞—А–Є–ї–Є —А—Л–±—Г –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є –Ї–Њ—В–ї–µ—В–∞–Љ–Є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –±—Л–ї ¬Ђ–Ї–Њ—В–ї–µ—В–љ—Л–є¬ї –і–µ–љ—М.
–У—А–∞—Д –Ј–∞—И—С–ї –≤ –Ї–∞–±–∞–Ї, –±—А–Њ—Б–Є–ї –љ–∞ —Б—В–Њ–ї —И–ї—П–њ—Г —Б –њ–µ—А—М—П–Љ–Є –Є –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ ¬Ђ–Ї–ї—О–≤–Њ–Љ¬ї –Є –Љ–Њ–ї—З–∞ –њ–Њ–і—Б–µ–ї –Ї —Б–Є–і–µ–≤—И–Є–Љ –≤ —А—П–і –≤–µ—Б—С–ї—Л–Љ –Є —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –љ–µ—В—А–µ–Ј–≤—Л–Љ —В–Њ—А–≥–∞—И–∞–Љ –Є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞—Е. –Я–Њ–і–љ—П–ї –Ї—А—Г–ґ–Ї—Г —Б ¬Ђ–±–Є—Б—В—А—Г–µ–Љ¬ї:
вАФ –Ч–∞ –≤–∞—И–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ!
вАФ –Ш —В—Л –љ–µ –±–Њ–ї–µ–є! вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–µ —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Л.
¬Ђ–С–Є—Б—В—А—Г–є¬ї (bistruy) вАФ —В–∞ —Б–∞–Љ–∞—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ–љ–Ї–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–±–Є—Б—В—А–Њ¬ї... –Р –≤—Л —В–Њ–ґ–µ –Њ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞—Е –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–Є, –і–∞? –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–∞—А–Є–ґ–∞–љ –њ–Њ–Є–ї–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –Є–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Н–ї–µ–Љ (–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 50 000 –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Є —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤ –Є–Ј –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є), –∞ –µ—Й—С –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –љ–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є ¬Ђ—Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≥—А–∞–і—Г—Б–љ–Њ–є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –≤ –±–Њ—З–Ї–∞—Е –Є–Ј –Э–Њ—А–Љ–∞–љ–і–Є–Є. –Я—А–Є—В–Њ–Љ –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є —О—А–Є—Б—В –†–∞–±–Њ—В–µ, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ вАФ –≤ –Ы–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї–µ вАФ —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—М—П–Ї–∞, —В–Њ –≤ –Ї–∞–±–∞–Ї–∞—Е —Г –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤ —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–Є –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О ¬Ђ–±–Њ—А–Љ–Њ—В—Г—Е—Г¬ї. –Ч–∞ –љ–µ—О –≤—Б—С –Є —А–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М вАФ –Ј–∞ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–Њ–Љ, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –ї—Г—З—И–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В.
–°—А–µ–і–Є —В–µ—Е, —Б –Ї–µ–Љ –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –≥—А–∞—Д –і—О –®–∞—В–µ–ї—М, –±—Л–ї –Ф–Є–Њ–љ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –Є–Ј –Ш—В–∞–ї–Є–Є, –љ—Л–љ–µ –ґ–Є—В–µ–ї—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С—А—О–≥–≥–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Њ–љ —Б—В–Њ—П–ї —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є¬ї –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Є –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Г–±–Є–є—Б—В–≤—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —А–µ–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї–µ –С–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–Љ вАФ —Б —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –≤—Б—С, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М. –У–µ—А—Ж–Њ–≥ –Ц–∞–љ –Ґ—Г—А–µ–љ—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ –ґ–µ–љ–µ –±—Л–ї –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤ –С–µ–ї—М–≥–Є–Є –Є –Э–Є–і–µ—А–ї–∞–љ–і–∞—Е. –Ю–љ –Є –њ–µ—А–µ—В–∞—Й–Є–ї –±–∞–Ї–∞–ї–∞–≤—А–∞ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ –љ–∞–Ј–∞–і –≤ –Я–∞—А–Є–ґ –Є –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Ж–µ–ї—П—Е, –љ–Њ –≤–Љ–µ—И–∞–ї–Є—Б—М —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ вАФ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї –Є —Г–Љ–µ—А, –Є —В–µ–њ–µ—А—М —Г—И–ї—Л–є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є —О—А–Є—Б—В, –≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –Ї–Њ–љ—В–Њ—А, —Б–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А—В–∞—Е –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Г–ґ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Р —З—В–Њ –µ—Й—С –і–µ–ї–∞—В—М?!¬†
–У–і–µ-—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–і–µ–ї—О –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ї–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Ж–µ—Е–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–і–µ—А–µ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є ¬Ђ–Ф–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є¬ї. –Т–µ–і—М –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–і–µ—А–µ–≤—Й–Є–Ї–Є вАФ –Ј–∞–≤–Є—Б—В–ї–Є–≤—Л, –Є –Њ–љ–Є –љ–µ –ї—О–±—П—В –Љ—П—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —А–µ—Б—В–Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Ч–∞—В–Њ –≤—Б—С –њ—А–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–љ–∞—О—В. –Р —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАФ –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –≤—Е–Њ–і –≤ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤–µ—Б—С–ї—Л–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–і–µ—А–µ–≤—Й–Є–Ї–Є —И–њ–∞—А–Є–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ, —З–µ–Љ –њ–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є, –∞ –Њ–±—Б–ї—Г–≥–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–є –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Є–Ј –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤. –У—А–∞—Д —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Г —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ –њ—А—П—З–µ—В—Б—П –і–Њ—Д–Є–љ, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–µ—Б—С–ї—Л–µ —А–µ–±—П—В–∞-–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–і–µ—А–µ–≤—Й–Є–Ї–Є –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Є —Г –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –Љ–µ—Б—В–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–Њ—Д–Є–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П... –≤ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є. –Ъ–∞–Ї –Є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Њ—Б—М, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ.¬†
–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М
–С–∞—Б—В–Є–ї–Є—О –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ вАФ —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—П, –љ–µ —В–∞–Ї –ї–Є? –Э–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ: –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—П –Њ—А–ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–Њ–≤ —В–Њ–ґ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –°–µ–љ-–Ъ–ї—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–∞ –•–ї–Њ–і–≤–Є–≥–∞. –†–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П–Љ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Л—З–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї—Б—П –љ–µ–Ї–Є–є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ 1477 –≥–Њ–і—Г вАФ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–∞—Б—Ж–≤–µ—В–∞ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г —Б –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–µ–є –°–∞–љ-–Р–љ—В—Г–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М—П вАФ –≤ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Ж–µ—Е–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Я–∞—А–Є–ґ–∞, –∞ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–∞—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Б —Н—В–Є–Љ–Є –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Є–Љ–Є —Ж–µ—Е–∞–Љ–Є. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Г —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я–∞—А–Є–ґ–∞ —В–∞–Ї–∞—П –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П вАФ –Њ–љ–Є –ї—О–±–Є–ї–Є —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є: –ї–µ—В –Ј–∞ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –і–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–Ї–Њ–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –≠—В—М–µ–љ–∞ –Ь–∞—А—Б–µ–ї—П, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–Є—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Љ—П—Б–љ–Є–Ї–Є –°–Є–Љ–Њ–љ–∞ –Ъ–∞—В–ї–µ—А–∞. –Э–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В вАФ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ: –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–∞, –∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї—М вАФ –≤ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є... –Э–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–љ —В–∞–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П?! –Р –≤—Б—С –њ—А–Њ—Б—В–Њ: —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—П –і–Њ—Д–Є–љ–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —А—П–і–Њ–Љ, –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Я–µ—В–Є-–Ь—О—Б—Б–µ, –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Є—В–µ–є–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–ї–њ–∞ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞—В—М –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –Є –≤—Л–љ–µ—Б–ї–∞ –љ–∞—Д–Є–≥ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ вАФ –і–Њ—Д–Є–љ —Г–±–µ–ґ–∞–ї –њ—А—П—В–∞—В—М—Б—П –≤ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є—О. ¬Ђ–Э–Њ –Ї–∞–Ї —В—Г–і–∞ –њ—А–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П?¬ї вАФ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –≥—А–∞—Д –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М. –Х–Љ—Г –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Є вАФ —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞. –Ш –і–Њ—Д–Є–љ—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–µ—В. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–Њ—Д–Є–љ ¬Ђ–њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬ї вАФ —В–Ї–љ—Г–ї –љ–Њ–ґ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞ –≠–ї–ї–Є–Њ—В–∞ –і–µ –Ц–∞–Ї–≤–Є–ї–ї—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –њ–Њ–ї–µ–Ј –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—П–Љ–Є, –Є —В–µ–њ–µ—А—М –Х–≥–Њ –Т—Л—Б–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Є–і–Є—В –њ–Њ–і –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ. –Х–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–Є —Б—Г–љ–і—Г—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАФ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї–Є —Б—Г–љ–і—Г–Ї–Њ–≤ –Є —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–Њ–≤. –Р —Н—В–Њ вАФ –≤—Б—С —В–µ –ґ–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–і–µ—А–µ–≤—Й–Є–Ї–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–љ–≥–Њ–Љ —З—Г—В—М –њ–Њ–љ–Є–ґ–µ:
вАФ –Ь—Л –Є–Љ ¬Ђ—Б–≤–Є—Б—В–љ–µ–Љ¬ї –Є –Њ–љ–Є –≤–∞—Б –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В—П—В... –Р –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞–і–Њ —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М—О, вАФ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–Є—А–∞—Б—Б, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–є —Б–µ–±—П ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ¬ї.
¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ¬ї —З–µ–≥–Њ –Њ–љ –±—Л–ї, –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ. –Ю–љ–Є –≤—Б–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±—П ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є¬ї. –Р –Ф–Є–Њ–љ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ –±—Л–ї —Г –љ–Є—Е ¬Ђ–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ¬ї... –Ю –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—П –Њ—Е—А–∞–љ–∞ —В–∞–є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ –≤ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є—О, –≥–і–µ –≥—А–∞—Д –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ—Д–Є–љ—Г –±–µ–ґ–∞—В—М. –Ъ–∞–Ї –±–µ–ґ–∞—В—М? –Р –Љ—Л –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–µ–Љ.. –£ –≤–Њ—А–Њ—В —Б—В–Њ—П–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥–∞ —Б –Ї–Њ–≤—А–∞–Љ–Є –Є –Љ–µ–±–µ–ї—М—О. –Ъ–∞–Ї–∞—П —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П —В–µ–ї–µ–≥–∞, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Т–Њ–Ј—З–Є–Ї—Г –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –љ–∞–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –±–∞—И–Ї–µ –Є –Ј–∞–њ–µ—А–ї–Є –≤ –њ–Њ–і—Б–Њ–±–Ї–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –≤ –ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г –Ї–Њ–≤—С—А, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ —В–µ–ї–µ–≥—Г, —Б–≤–µ—А—Е—Г –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї–Є –Ї–Њ–≤—А–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ–µ—А–Є–љ–∞–Љ–Є, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–њ–∞–ї–µ–љ –љ–∞ —Н—В–∞–ґ–µ, –≤–Њ–і—А—Г–Ј–Є–ї–Є —Б–≤–µ—А—Е—Г —Б—В–∞—А–Њ–µ –Ї—А–µ—Б–ї–Њ —Б –≥–µ—А–∞–ї—М–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є–ї–Є—П–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г—Б–µ–ї—Б—П –њ–∞–ґ –Ф–Њ–Љ–Є–љ–Є–Ї –і–µ –Ы–Њ—В—А–µ–Ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–Ј—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –≤–Њ–ґ–ґ–Є –Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–Є. –Я—А–∞–≤–Є–ї–Є —В–µ–ї–µ–≥–Њ–є –≥—А–∞—Д –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М (–љ–∞–њ–Њ–Љ–љ—О: –Њ–і–µ—В—Л–є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ), –∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б–Є–і–µ–ї –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –Ц–∞–љ –і–µ –Ъ–∞–љ—В–µ–ї—М, –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О –≤ —Г–љ–Є—Д–Њ—А–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї–∞–Ї–µ—П. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ —И–ї—П–њ—Г –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ ¬Ђ–Ї–ї—О–≤–Њ–Љ¬ї –Є –ґ—Г—В–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—А—М—П–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Г –њ–∞–≤–ї–Є–љ–∞. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ—Е—А–∞–љ—Л: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —З—С—А—В–∞ –≤—Л —В—Г—В –і–µ–ї–∞–µ—В–µ?¬ї вАФ –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:
вАФ –Р —В–≤–Њ—С –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±–∞—З—М–µ –і–µ–ї–Њ?!
вАФ –Ф–∞ —Й–∞—Б —П —В–µ–±—П ...
вАФ –Ч–∞—В–Ї–љ–Є —Б–≤–Њ—О –њ–∞—Б—В—М, –≤–Њ–љ—О—З–Ї–∞!
вАФ –Р –µ—Б–ї–Є —П –њ–Њ–і–Њ–є–і—Г?
вАФ –Р –њ–Њ–і–Њ–є–і–Є, –≤–Њ–љ—О—З–Ї–∞, –њ–Њ–і–Њ–є–і–Є...¬†
–Т–Њ—В —В–∞–Ї –Њ–љ —Б–њ–∞—Б –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –Ъ–∞—А–ї–∞. –Я–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є вАФ –љ–Є—З–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б—В—Л—З–Ї–Є —Б –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –≠–ї–ї–Є–Њ—В–Њ–Љ –і–µ –Ц–∞–Ї–≤–Є–ї–ї–µ–Љ –Њ—Е—А–∞–љ—Г –Є–Ј –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б–љ—П–ї–Є —Б –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–љ–µ—Б—П –Х–≥–Њ –Т—Л—Б–Њ—З–µ—Б—В–≤—Г –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–µ–є—И–µ –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Т –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ—П –Њ—Е—А–∞–љ–∞ вАФ 300 –∞—А–±–∞–ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞ –°–µ–љ-–Ф–µ–љ–Є –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –®–∞—А–ї—П –і–µ –У–∞–ї–ї–∞—А–∞. –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–∞–±–Њ—И—М—П–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –≥–Њ—А–Њ–і. –Ф–Њ—Д–Є–љ —Б –њ–∞–ґ–Њ–Љ –Ф–Њ–Љ–Є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б –Љ–µ—Б—Б–Є—А–Њ–Љ –і–µ –У–∞–ї–ї–∞—А–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –і–Њ–Љ–µ –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –∞ –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П —Б –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –†–Њ—И—Д–Њ—А–Њ–Љ –Є –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ–ї–∞–љ —Б–Є–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –Я–∞—А–Є–ґ–∞. –≠—В–Њ—В –њ–ї–∞–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ф–Є–Њ–љ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ. –£ –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1 000 —Б–Њ–ї–і–∞—В, —А—Л—Ж–∞—А–µ–є –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–≤. –Ю–ґ–Є–і–∞–ї–∞—Б—М –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Ж–µ—Е–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–і–µ—А–µ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ —В—А–∞—В–Є–ї–Є вАФ —В—Г—В –љ—Г–ґ–µ–љ –љ–∞—В–Є—Б–Ї!¬†
–°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ—В—А—П–і –Ґ–∞–љ–≥–Є –Ф—О –®–∞—В–µ–ї—П —Б –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Ј—П–ї –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –°–µ–љ-–Р–љ—В—Г–∞–љ –Є –≤–Њ—И—С–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. –Ю—Е—А–∞–љ–∞ –≤–Њ—А–Њ—В –њ–Њ–±—А–Њ—Б–∞–ї–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є —А–∞–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–∞—Б—М. –†–Њ—И—Д–Њ—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї, —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Т–µ–љ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –ї–µ—Б –Є –Ј–∞–љ—П—В—М –Т–µ–љ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї (—В–Њ–ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є вАФ –≤ 1370 –≥–Њ–і—Г). –Ш –Њ–љ вАФ –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є –Љ–∞–ї–Њ. –І—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—В—А—П–і –≤ 1 000 —Б–Њ–ї–і–∞—В, —А—Л—Ж–∞—А–µ–є –Є –≤—Б—П–Ї–Є—Е –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В—П–≥, –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–Є –Є —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤?! –≠—В–Њ вАФ –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З—В–Њ... –≠—В–Њ —Д–Є–Ї—Ж–Є—П! –Ы—О–і–Є —Г–ґ–µ –Њ—В —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є –њ–∞–і–∞—О—В.
–Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є –Ј–і–µ—Б—М, –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є. –£–ї–Є—Ж–∞ –°–∞–љ-–Р–љ—В—Г–∞–љ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –±–∞—А—А–Є–Ї–∞–і–∞–Љ–Є. –Я–Њ –љ–Є–Љ –≤–µ–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М –Є–Ј –њ—Г—И–µ–Ї —Б–Њ —Б—В–µ–љ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є. –°—В—А–µ–ї—П–ї–Є –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ, –љ–Њ —Г –њ—Г—И–µ–Ї —Б—В–Њ—П–ї–Є —А–∞—Б—З—С—В—Л –Є–Ј —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є... –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –ї–∞–Ї–µ–µ–≤. –Ы—О–і–µ–є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±–µ–і–∞ вАФ –љ–µ—В –ї—О–і–µ–є! –Я–µ—А–≤—Г—О –±–∞—А—А–Є–Ї–∞–і—Г –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж—Л –і—О –®–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Њ–±–Є–ї–Є, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –±–µ–Ј –њ–Њ—В–µ—А—М, –∞ —В–∞–Љ вАФ –≤—В–Њ—А–∞—П. –Э–∞—З–∞–ї–Є –±—А–∞—В—М —И—В—Г—А–Љ–Њ–Љ –≤—В–Њ—А—Г—О, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—А—В–≤–Њ —Б –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ї–∞–±–Њ—И—М—П–љ–Њ–≤¬ї, –љ–Њ –Є —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є —Б –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ–ї–Њ—Е–Њ –≤–ї–∞–і–µ–≤—И–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ. –У—А–∞—Д —Б—А–∞–Ј—Г –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї: –Ї—А—Г—З–µ –Є –∞–Ј–∞—А—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ—Е –і—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –±–∞—А—А–Є–Ї–∞–і–∞—Е —Б—Г–љ–і—Г—З–љ—Л—Е –і–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–Є—А–∞—Б—Б. –Э–∞–і–Њ –ґ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ї–∞–і—А¬ї! –Ф–Њ—Д–Є–љ –≤—А—П–і –ї–Є –Ј–∞–±—Г–і–µ—В —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–љ—Г –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г–ї–Є—Ж–∞—Е. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Є–Љ —Б—В–∞–≤—П—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є.¬†
–Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є –Ъ–∞–±–Њ—И–∞ –≤—Л–≤–µ–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Ъ–∞—А–ї–∞ –®–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –°–µ–љ-–Я–Њ–ї—М –Є –њ–Њ—В–∞—Й–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –Ї –Ы—Г–≤—А—Г. –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Є–і–Є–Њ—В—Б–Ї–∞—П. –У—А–∞—Д—Г –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—О —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Ї –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ –С–Њ–і–µ (Baudet) –≤ —Б—В–∞—А–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ (—Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –°–∞–љ-–Р–љ—В—Г–∞–љ–∞, —А—П–і–Њ–Љ —Б —В–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ, –≥–і–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–Њ—Б—В –Ы—Г–Є-–§–Є–ї–Є–њ–њ–∞), –Є —В—Г—В –Њ–љ–Є —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М —Б –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Є —Б –∞–ї–µ–±–∞—А–і–∞–Љ–Є. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є вАФ –≠–ї–ї–Є–Њ—В –і–µ –Ц–∞–Ї–≤–Є–ї–ї—М –≤ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞—Е. ¬Ђ–Т–њ–µ—А—С–і! –Ч–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П!¬ї вАФ –њ—А–Њ–Њ—А–∞–ї –і–µ–њ—Г—В–∞—В –≥–Њ—А—Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Є —А–≤–∞–љ—Г–ї –≤ –∞—В–∞–Ї—Г. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≥—А–∞—Д –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–±–Є–ї—Б—П –Ї –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ –С–Њ—А–і–µ–ї—М –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М–µ. –Ґ–∞–Љ –≤–µ—Б–µ–ї–µ–µ, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Ґ–∞–Љ —В–µ–њ–ї–Њ, —Б–≤–µ—В–ї–Њ, —В–∞–Љ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Д–Њ–љ–∞—А–Є–Ї–Є –Љ–Є–≥–∞—О—В –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≥—Г–ї—П—О—В –њ–Њ—З—В–Є —А–∞–Ј–і–µ—В—Л–µ. –Р –Ј–і–µ—Б—М вАФ –Ї–Њ—И–Љ–∞—А! –¶–µ–ї—Л–є –ї–µ—Б –∞–ї–µ–±–∞—А–і. –Ґ–Њ–њ–Њ—А—Л, —Б—В—А–µ–ї—Л –Є –Ї–Њ–њ—М—П!¬†
–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –њ–Њ–і –Ј–∞—Й–Є—В—Г –њ—Г—И–µ–Ї –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–µ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤, –љ–Њ –±–µ–Ј —И–ї–µ–Љ–∞, —Б –Њ–Ї—А–Њ–≤–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –Є –Љ–Њ–Ї—А—Л–є, –Ї–∞–Ї —А—Л–±–∞, –±–µ—И–µ–љ–Њ —А—Г–≥–∞–ї—Б—П. –£ –љ–µ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є:
вАФ –У–і–µ –†–Њ—И—Д–Њ—А?
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ: –∞ –≥–і–µ –†–Њ—И—Д–Њ—А, –њ—А–µ–і–Њ–Ї –°–µ–Ј–∞—А–∞ –і–µ –†–Њ—И—Д–Њ—А–∞ –Є–Ј —Д–Є–ї—М–Љ–∞ ¬Ђ–Ф–µ –Р—А—В–∞–љ—М—П–љ –Є —В—А–Є –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А–∞¬ї? –Ю—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї –Љ–Њ—Б—В—Г –≤ –®–∞—А–∞–љ—В–Њ–љ–µ! –Р —З—В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–≥ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –Є–Љ–µ—П –≤—Б–µ–≥–Њ 300 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї? –†–∞–Ј–≤–µ –ґ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤–∞—В—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–Є—О—В –і–ї—П –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П?
вАФ –£—Е–Њ–і–Є–Љ, вАФ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М, вАФ –њ–µ—А–µ–і–∞–є—В–µ –≤ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є—О, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Є—Б—М. –Т—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–µ—В. –Я—Г—Б—В—М –≤—Б—С –±—А–Њ—Б–∞—О—В –Є —Г—Е–Њ–і—П—В –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ь–µ–ї—С–љ. –С–µ–≥–Њ–Љ –≤ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є—О, вАФ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –Њ–љ –Ј–∞ –≤–Њ—А–Њ—В –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞ —Б —А–∞–Ј–Є–љ—Г—В—Л–Љ –Њ—В —Б—В—А–∞—Е–∞ —А—В–Њ–Љ, вАФ —В–∞–Ї –Є —Б–Ї–∞–ґ–Є –§–ї–∞–≤–Є—О –і–µ –Ы—О—Б—Г, —З—В–Њ —Е–≤–∞—В–Є—В –≤–Њ–љ—М —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј –њ—Г—И–µ–Ї ...
вАФ –Р –Ї–∞–Ї —П –µ–≥–Њ –љ–∞–є–і—Г? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б–Њ–ї–і–∞—В, –љ–∞ —З—В–Њ —А—Л—Ж–∞—А—М –і–∞–ї –µ–Љ—Г –њ–Є–љ–Ї–∞ –њ–Њ–і –Ј–∞–і –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ —Б–∞–±–∞—В–Њ–љ–Њ–Љ:
вАФ –£ –Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–∞—П –њ–Њ–≥–∞–љ–∞—П —А–Њ–ґ–∞, —В–Њ—В –Є –µ—Б—В—М –§–ї–∞–≤–Є–є –і–µ –Ы—О—БвА¶
–Я—А–µ–і–≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є
–Ґ—А–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ вАФ –Ь–µ–є, –Ъ–Њ—А–±–µ–є –Є –Ь–µ–ї—С–љ –≤ 45 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –Я–∞—А–Є–ґ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤–Є–і–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≥—А–∞—Д –Р—А–љ–Њ –У–Є–ї—М–Њ–Љ –і–µ –С–∞—А–±–∞–Ј–∞–љ. –Ь–µ–ї—С–љ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–≤—И–∞—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–∞—П —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—П –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –Ш–Ј–∞–±–Њ, —В–∞–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –µ—С –ї–Є—З–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є—Б—В–≤–Њ вАФ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞ –і–µ–љ–µ–≥, –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–Є—П –Є –Љ–Њ–љ–µ—В–љ—Л–є –і–≤–Њ—А. –Ч–∞–љ—П–≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–ї–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ. –Ч–∞—В–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Г –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Э–∞–ї–Є—З–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–Њ–Ј–∞–Љ–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –С—Г—А–ґ, —В–Њ–ґ–µ –Ј–∞–љ—П—В—Л–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є. –У–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є –Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –°–µ–љ-–Ъ–ї—Г –і—А—Г–ґ–љ–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О. –І—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є вАФ –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є вАФ —В–Њ–њ–Є–ї–Є –≤ —А–µ–Ї–µ –Є–ї–Є —Б–ґ–Є–≥–∞–ї–Є. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –њ–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М—О –°–∞–љ-–Р–љ—В—Г–∞–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є вАФ –±–µ–≥–ї–Њ!¬†
–Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ –ї–∞–Ї–µ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Є –љ–µ–њ–ї–Њ—Е—Г—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є, –µ—Б–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ—В—П—В —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Т —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –µ—Б–ї–Є –§–ї–∞–≤–Є–є –і–µ –Ы—О—Б –≤—Л–і–∞—Б—В –Є–Љ —Б–µ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—В—Л —Б —Б–Є–љ–Є–Љ–Є –ї–Є–ї–Є—П–Љ–Є. –Р –§–ї–∞–≤–Є–є –і–µ –Ы—О—Б –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞–≥—А—Г–ґ–∞–ї —В–µ–ї–µ–≥–Є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ вАФ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –ґ–µ –≤—А–∞–≥–∞–Љ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ?! –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–∞—А–і–µ—А–Њ–±, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є–ї–Є –≤–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—Л –Є –Њ–±–Њ–Є —Б–Њ —Б–Ї–ї–∞–і–∞, –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–∞—П –њ–Њ—Б—Г–і–∞ —В–Њ–ґ–µ –і–µ–љ–µ–≥ —Б—В–Њ–Є—В –љ–µ–Љ–∞–ї—Л—Е. –Ъ—А—Л—В—Л–µ –≤–Њ–Ј—Л –Є —В–µ–ї–µ–≥–Є –±—Л–ї–Є, –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–∞–ґ–µ –љ–µ –љ–∞—С–Љ–љ—Л–µ, –∞ вАФ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ, –∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –љ–∞ –і–≤–Њ—А –Љ–∞–і–∞–Љ –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В—Л, –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–∞—В—Г—И–Ї–Є —А—Л—Ж–∞—А—П вАФ —В–∞–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П–ї–Є –Є –њ—А—П—В–∞–ї–Є –њ–Њ —Б–∞—А–∞—П–Љ. –Ґ–Є–њ–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–∞—И–µ, –∞ —Б—В–∞–ї–Њ вАФ –љ–∞—И–µ. –Э–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В, –њ–Њ–≤–µ—А—М—В–µ...
–Я—Г—И–Ї–Є –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є —Г–Љ–Њ–ї–Ї–ї–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б—В–µ–Љ–љ–µ–ї–Њ, –∞ –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–µ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є—П вАФ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–∞—П —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ—С, —В—О—А—М–Љ—Г –і–ї—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –і–≤–Њ—А—П–љ, –њ—А–Є—И–ї–Є –≥—А–Њ–Љ–Є—В—М –њ–∞—А–Є–ґ–∞–љ–µ 14 –Є—О–ї—П 1789 –≥–Њ–і–∞. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є вАФ –љ–µ—В, –≤–Њ—В –Њ–љ–∞, –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—П—О—В –њ–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ –Я–∞—А–Є–ґ–∞! –Т–Њ—В –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ—Л –љ–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –њ—Г—И–Ї–Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞! –Т–Њ—В –≥–і–µ –њ–ї–µ—В—Г—В—Б—П –Є–љ—В—А–Є–≥–Є –Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е! –Т–Ј–≤–µ–є—В–µ—Б—М, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ, –Њ—А–ї–∞–Љ–Є! –Ь—Л –љ–∞–Љ–Њ—В–∞–µ–Љ –Ї–Є—И–Ї–Є –≤—А–∞–≥–Њ–≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞ —Д–Њ–љ–∞—А–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–±—Л –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В–Є–є –Я–∞—А–Є–ґ–∞! –Ь—Л —Б—К–µ–і–Є–Љ –Є—Е –њ–µ—З–µ–љ—М! –Ь—Л –≤—Л—Б–Њ—Б–µ–Љ –Є—Е –Љ–Њ–Ј–≥ —З–µ—А–µ–Ј —Г—И–љ—Л–µ —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ—Л! –С–µ–і–љ–∞—П –С–∞—Б—В–Є–ї–Є—П... –Т–µ—З–љ–Њ –Њ–љ–∞ –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е –Њ—В–і—Г–≤–∞–ї–∞—Б—М.
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ –°–∞–љ-–Р–љ—В—Г–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –≥—А–∞—Д –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–љ—Ж–∞ вАФ –њ–∞–ґ–∞ —Б–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є:
вАФ –°–Ї–∞—З–Є –≤ –Ь–µ–ї—С–љ... –°–Ї–∞–ґ–Є –і–µ –С–∞—А–±–∞–Ј–Њ–љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –≤ –С—Г—А–ґ.
вАФ –У—А–∞—Д, –≤—Б–µ —Г—Б—В–∞–ї–Є —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є –Є —Г–ґ–µ —Б–њ—П—В.
вАФ –Р —П вАФ –љ–µ —Б–њ–ї—О! вАФ –њ—А–Њ–Њ—А–∞–ї –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М: вАФ –С—Г–і–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б—А–∞–љ—Ж–∞ –Є –≤–µ–Ј–Є –Ј–∞ –Ы—Г–∞—А—Г!!!
–≠—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї вАФ –Њ –і–Њ—Д–Є–љ–µ.
–Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–Ї–≤–∞—А—В–∞–ї–∞ –Њ—В –С–∞—Б—В–Є–ї–Є–Є –Њ—В—А—П–і –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј–∞ –і–µ –Ы–Њ—А–µ –Є –њ–µ—А–µ–±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—Г–љ–і—Г—З–љ—Л—Е –і–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ (huchier) ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞¬ї –У–Є–ї—М–Њ–Љ–∞ –°–Є—А–∞—Б—Б–∞ –µ—Й—С –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П–µ—В –Љ–Њ—Б—В –®–∞—А–∞–љ—В–Њ–љ. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ вАФ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є —А–∞—Б–Ї—А–Њ–Љ—Б–∞–љ–љ—Л—Е —В—А—Г–њ–Њ–≤, –љ–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–µ—Ж –У–Є–ї—М–Њ–Љ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –ї–Є–Ї—Г–µ—В. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤–∞—В—М вАФ —Б–Ї—Г—З–љ–Њ, –і–µ–љ—М–≥–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М вАФ –Љ–µ—А–Ј–Ї–Њ, –Ј–∞—В–Њ –і—А–∞—В—М—Б—П, —А—Г–±–Є—В—М—Б—П –Є –њ—Г—Б–Ї–∞—В—М —Б—В—А–µ–ї—Л –Є–Ј –∞—А–±–∞–ї–µ—В–∞ вАФ –≤–Њ—В —Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ!!! –•–≤–∞—В–∞–µ—И—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —З—С—А—В–∞ –Ј–∞ —И–Є–≤–Њ—А–Њ—В, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М вАФ ¬Ђ–Э—Г-–Ї–∞, —Б—В–Њ–є!¬ї –Є –≤—В—Л–Ї–∞–µ—И—М –µ–Љ—Г –Љ–µ—З –≤ –њ—Г–Ј–Њ. –Ш–ї–Є –Ї—А—Г—В–Њ —Б—А—Г–±–∞–µ—И—М –µ–≥–Њ —В—Г–њ—Г—О –±–∞—И–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–ї–Є–љ—Л—Е —Г—И–µ–є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В. –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–µ—А–Є—Б—Б —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Љ–µ—З—В–∞–ї –±—Л—В—М —А—Л—Ж–∞—А–µ–Љ –≤ —Б–Є—П—О—Й–Є—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞—Е, –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ–љ –Є–Љ —Б—В–∞–ї! –Ф–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ —Г –љ–µ–≥–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ –±—Л–ї–Њ (–Њ–љ –Ї—Г–њ–Є–ї —Г –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–Љ—Ж–∞ –Ї–Є—А–∞—Б—Г, —З—В–Њ–± —Е–Њ—В—М –њ—Г–Ј–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Ї–љ—Г–ї–Є вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –≤—Б–µ–≥–Њ), –Ј–∞—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З –Є —В–Њ–љ–Ї–Є–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї —Б –Љ–∞–≤—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О. –Р –µ—Й—С –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є–љ—В—А–Є–≥–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–є вАФ —Н—В–Њ –ґ —В–∞–Ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞?
–Я—А–Є–і—С—И—М, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –љ–∞ —В–∞–є–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –Ъ–∞—А–ї–∞ –Ю—А–ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–њ–Њ—Н—В–∞, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П –§—А–∞–љ—Б—Г–∞ –Т–Є–є–Њ–љ–∞) –Є —Б–ї—Г—И–∞–µ—И—М ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—В–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О¬ї –Є–Ј —Г—Б—В –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–∞, –Њ–і–µ—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—З–µ—А–Њ–Љ –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –Ъ—Г—З–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О –Њ–і–µ–≤–∞–ї—Б—П –Ц–∞–љ –і–µ –Ъ–∞–љ—В–µ–ї—М, –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ—А–і–Є–љ–µ—А. –Ю–љ –≤—Б–µ —В–∞–є–љ—Л –Ј–љ–∞–µ—В, –Њ–љ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–µ—Б—М –≤–Њ–≤–ї–µ—З—С–љ –≤ —Н—В–Њ—В –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–і–Њ–≤–Њ—А–Њ—В. –І–µ–≥–Њ –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В? –Р —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ, —З–µ–≥–Њ —Е–Њ—В—П—В –≤—Б–µ –ї—О–і–Є вАФ –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ! –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ—С –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є, –Є —Н—В–Њ—В –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Њ—Б–≤—П—Й—С–љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О: –µ—Б–ї–Є –°–Є–Љ –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е, –∞ –•–∞–Љ –Ј–∞ –≤—Б–µ—Е —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П, —В–Њ –Ш–∞—Д–µ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Э–Њ –Ї—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ вАФ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ –Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ?! –Э–Є–Ї—В–Њ! –Т–Њ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–µ—А–Є—Б—Б –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –±–Є–Ј–љ–µ—Б –ґ–µ–љ–µ –Є —Б—Л–љ—Г, –∞ —Б–∞–Љ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –±–Є—В–≤—Л –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –Х—Б–ї–Є –љ–∞–і–Њ вАФ –ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і–µ–љ—М–≥–Є, –љ–Њ —З–∞—Й–µ –±—А–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Р –і—А–∞–ї—Б—П –Њ–љ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ.¬†
–Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Г –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј–∞ –і–µ –Ы–Њ—А–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ—В –≥—А–∞—Д–∞ –†–Њ—И—Д–Њ—А–∞: –µ—Б–ї–Є –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞–і–Њ –≤—Л–≤–µ–Ј—В–Є –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В—М –Ъ–∞—А–ї–∞ –Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –і–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ. –Р –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Ї –Ы—Г–≤—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Љ–Ї—Г? –Ґ–∞–Љ –Є —Б–≥–Є–љ—Г—В—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ю—В—А—П–і –≥—А–∞—Д–∞ –і—О –®–∞—В–µ–ї—П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–±–Є—В—М –±–∞—А—А–Є–Ї–∞–і—Л –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –°–µ–љ-–Р–љ—В—Г–∞–љ, –Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–Њ—Б—В–∞ –Ј–∞–є—В–Є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Г –љ–Є—Е —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ш –≤–Њ—В, —Б –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л, –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј –і–µ –Ы–Њ—А–µ –Є —Г–≤—П–Ј—И–Є–є –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–Є—А–∞—Б—Б —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—В –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–µ —Г–ї–Є—Ж—Л: ¬Ђ–Т—Б–µ —Г—Е–Њ–і–Є–Љ!¬ї –Я—А–Є—В–Њ–Љ –љ–∞–њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–Ї –У–Є–ї—М–Њ–Љ –ї–Є—Е–Њ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –Њ–і–љ–Є–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ј–∞–Ј–µ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ—С–ї—В–∞—П –њ–ї–µ—В—С–љ–∞—П —И–ї—П–њ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –≥—А—П–Ј–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є. –†—Л—Ж–∞—А—М –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј –і–µ –Ы–Њ—А–µ —В–∞—Й–Є—В –°–Є—А–∞—Б—Б–∞ –Ј–∞ –ї–Њ–Ї–Њ—В—М вАФ –њ–Њ–є–і—С–Љ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ!
вАФ –°–µ–є—З–∞—Б! –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–±—М—О —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–і—Г—А–Ї–∞ ...
–Ш –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–Є—А–∞—Б—Б –Ї—А—Г—В–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Ї–Є—И–Ї–Є –Њ—Б—В—А—Л–Љ –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–Љ:
вАФ –Р —В–µ–њ–µ—А—М —Г—Е–Њ–і–Є–Љ!
–І–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б –Њ—В—А—П–і —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞—Б—В—С–Ї—Б—П –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Є –њ–µ—А–µ—И—С–ї –љ–∞ –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ь–µ–ї—С–љ –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П —Б–Њ ¬Ђ—Б–≤–Њ–Є–Љ–Є¬ї. –С–Њ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М. –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј –і–µ –Ы–Њ—А–µ –Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –°–Є—А–∞—Б—Б –њ–Њ–Ї–∞ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ. –Я—А–Є—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П. –Ю–љ–Є –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–ї–Є—Б—М –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ–∞–Љ–Є, –љ–∞–і–µ–ї–Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ —И–ї—П–њ—Л —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–Ї–ї—О–≤–∞–Љ–Є¬ї, –Є –Љ–Њ–ї—З–∞ —Б–ї–µ–і—П—В –Ј–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–µ–є. –Т –Њ–і–Є–љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј –і–µ –Ы–Њ—А–µ –Є –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–Є—А–∞—Б—Б –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О —А–∞—В—Г—И—Г ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ¬ї –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ—В –Ї –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Є —Г–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А—Л–ї—М—Ж—Г –Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і—А—Г–ї–Є–ї –љ–Є–Ј–µ–љ—М–Ї–Є–є –≤–Њ–Ј–Њ–Ї —Б –≥–µ—А–±–∞–Љ–Є, –ї–∞–Ї–µ–є –Њ—В–Ї—А—Л–ї –і–≤–µ—А—Ж—Л, –Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П –і–∞–Љ–∞ –ї–µ—В –њ–Њ–і —Б–Њ—А–Њ–Ї вАФ —Г —Б—В–∞—А–µ—О—Й–µ–≥–Њ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е –і–∞–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Р –≤–Њ—В –Є —Б–∞–Љ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥ —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ —О–љ–Њ—И–µ–є –≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ –Є —Б –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ—П—Б–µ. –Т —В–Њ–ї–њ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–≤—И–Є—Е –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –њ–∞—А–Є–ґ–∞–љ –±—Л–ї–Њ —Б –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–∞–Љ–Є –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –°–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і–µ—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Х–≥–Њ –Т—Л—Б–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥ –Њ–Ї—А—Г–ґ—С–љ –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–≤–Њ—А—П–љ–∞–Љ–Є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ъ–ї–Њ–і–Њ–Љ –і–µ –®–∞—В–µ–ї—О –Є –Ц–∞–Ї–Њ–Љ –і–µ –≠—Б–њ–∞–є–Є –і–µ –§–Њ—А-–≠–њ–Є—Б–Њ–Љ. –Ю–љ–Є –≤ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е –њ–Њ–Ј–∞—Е —Б—В–Њ—П—В –љ–∞ —Б—В—Г–њ–µ–љ—П—Е —А–∞—В—Г—И–Є вАФ –Ј–∞–Љ–µ—А–ї–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–Њ–Ј–Є—А—Г—О—В –і–ї—П –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ—В –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –±—Л –Є —В–Ї–љ—Г—В—М –љ–Њ–ґ–Њ–Љ вАФ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞, —В–∞–Ї —Е–Њ—В—П –і–µ –§–Њ—А-–≠–њ–Є—Б–∞, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –≠—В–Њ—В –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –њ–∞—А–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є вАФ –Њ–љ –њ–Њ—Е–Є—Й–∞–ї —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ–µ–є, –њ—Л—В–∞–ї –Є –љ–∞—Б–Є–ї–Њ–≤–∞–ї. –Я–Њ—В–Њ–Љ —В–∞–є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–∞–њ—Л–≤–∞–ї —В—А—Г–њ—Л.¬†
–Ю–љ вАФ –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Є–є —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–Є—Б—В, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є —А—М—П–љ—Л–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –С—Г—А–≥—Г–љ–і–Є–Є. –Т –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Њ–љ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–µ–±—П –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В–Њ–Љ вАФ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Н—В–Њ—В –њ–∞—А–µ–љ—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ–є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є: –Њ—В–µ—Ж –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –њ–Њ—А—В–∞ –Ґ—Г–ї–Њ–љ, –∞ –Љ–∞–Љ–∞ —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј –Ф–Њ–Љ–∞ –Ь–µ—А–Њ–≤–Є–љ–≥–Њ–≤, –µ—С –њ—А–µ–і–Ї–Є —Г–і–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ъ–∞—А–ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Њ–і —Б—В–Њ–ї –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –±–µ–≥–∞–ї. –Т–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≤ —Н—В–Њ—В –Ц–∞–Ї –љ–µ –Я—А–Њ—Б—В–∞–Ї –Є–Ј —Б–µ–Љ—М–Є –і–µ –≠—Б–њ–∞–є–Є –і–µ –§–Њ—А-–≠–њ–Є—Б–Њ–≤. –Я–Њ–і–Њ–є—В–Є, —З—В–Њ –ї–Є? –Т–Њ–љ –Њ–љ —Б—В–Њ–Є—В, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—П. –Ф–∞–ґ–µ –±–Њ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П.¬†
–Р –≤–Њ—В –≥—А–∞—Д –≠—В—М–µ–љ –і–µ –Р–љ–≥–ї—О—А, –Њ–љ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ –Є –≥—А–∞—Д –і–µ –С—Г—А–ї–µ–Љ–Њ–љ вАФ —Г –љ–µ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ —Б–Њ–Ї–Њ–ї–Є–љ—Л–µ –±—Г–±–µ–љ—Ж—Л –љ–∞ –≥–µ—А–±–µ. –Э–Њ –Њ–љ —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј –®–∞–Љ–њ–∞–љ–Є –Є –Ї –Ю—А–ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П. –Р –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Ї—А–∞—Б–Є–≤, —Б–≤–Њ–ї–Њ—З—М! –•–Њ–ї—С–љ–∞—П –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–∞—П –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М вАФ –њ–Є–ґ–Њ–љ! –Э–∞ –≤–Є–і –Њ–љ –≥–ї—Г–њ–Њ–≤–∞—В, –љ–Њ —Н—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ вАФ –Њ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П... –£ —Б–µ–љ—М–Њ—А–∞ –і–µ –§–Њ—А-–≠–њ–Є—Б–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ—А–і–∞ –Є —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –і–Њ –њ–ї–µ—З, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –і–µ –Р–љ–≥–ї—О—А –њ–∞—А–µ–љ—М –њ–Њ—Б—В–∞—А—И–µ, –Є –≤–Њ–ї–Њ—Б —Г –љ–µ–≥–Њ —В—С–Љ–љ—Л–є –Є –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ –њ–Њ–і –±–∞—А—Е–∞—В–љ—Л–Љ –±–µ—А–µ—В–Њ–Љ. –Т –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –≥—А–∞—Д –і–µ –Р–љ–≥–ї—О—А —Б—В–∞–љ–µ—В —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –∞ –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ ¬Ђ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л¬ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Г –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞. –Э–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–є вАФ –µ–≥–Њ –љ–µ –ї—О–±—П—В... –Р –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –і–µ –Р–љ–≥–ї—О—А —Г—И—С–ї –Ї –Ы–∞–љ–Ї–∞—Б—В–µ—А—Г? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Є —Г—И—С–ї.
–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—И–ї–Є –Њ—В –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –≤—Б–µ вАФ –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ: –љ–∞–і–Њ –±—Л –њ–Њ–ї—Г—З—И–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –Ї –ї—О–і—П–Љ! –Ы—О–і–µ–є —Ж–µ–љ–Є—В—М –љ–∞–і–Њ, –∞ –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ—Л–≤–∞—В—М! –Ш –µ—Й–µ: –љ–Є–Ї—В–Њ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В. –Ч–∞ –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–∞—В–Є—В—М –љ–∞–і–Њ, –∞ –Њ–љ –њ–ї–∞—В–Є–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–∞–Љ–∞–Љ –Є–Ј ¬Ђ—Н—Б–Ї–Њ—А—В–∞¬ї. –Ш —Н—В–Њ вАФ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≥–Є–±–µ–ї–Є –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –Ц–∞–љ–∞ –С–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ вАФ –≤—Б—П —Н—В–∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–∞—П –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –µ–≥–Њ —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є: –њ—А–Є –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –Є —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Ј–∞ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤, –Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ.
вАФ –Я–Њ—И–ї–Є –Њ—В—Б—О–і–∞, –њ–Њ–Ї–∞ —П –љ–µ –≤–Ј–±–µ—Б–Є–ї—Б—П, вАФ —И–µ–њ—З–µ—В –У–Є–ї—М–Њ–Љ –°–Є—А–∞—Б—Б –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —В–Њ–ї–њ—Г –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і. –°—Г–љ–і—Г—З–љ—Л—Е –і–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А—Г –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –±—Л—В—М –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ вАФ –≤–Њ—В –≥–Њ—А—П—З–∞—П –±–∞—И–Ї–∞! –Ш–Ј –љ–µ–≥–Њ –Є –Ї–Є–ї–ї–µ—А, –Є —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї—Б—П –±—Л –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є. –Э–Њ вАФ –љ–µ–ї—М–Ј—П, –љ–∞–і–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В—М. –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј –і–µ –Ы–Њ—А–µ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–µ–і–Њ–Љ –Ј–∞ –љ–Є–Љ:
вАФ –І—В–Њ –±—Г–і–µ–Љ –і–µ–ї–∞—В—М?
вАФ –Э–∞–є–і–Є –љ–Њ—А—Г –њ–Њ–≥–ї—Г–±–ґ–µ –Є–ї–Є —Б–Ї–∞—З–Є –Ј–∞ –Ы—Г–∞—А—Г, вАФ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ¬ї, вАФ —П —Г —Б–µ–±—П –≤ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—М–Ї–µ —Б–њ—А—П—З—Г—Б—М –≤ –Ь–Њ–љ–њ–∞—Б—Б–Є.
вАФ –Р –µ—Б–ї–Є –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞—О—В?
вАФ –Ґ–Њ—В, –Ї—В–Њ –Љ–Њ–≥ –Љ–µ–љ—П –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М, —Г–ґ–µ —Б –љ–µ–і–µ–ї—О –≥–љ–Є—С—В –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ, вАФ —З—Г—В—М –±—А–∞–≤–Є—А—Г—П, –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В —В–Њ—А–≥–Њ–≤–µ—Ж —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–∞–Љ–Є. вАФ –Я–Њ–Љ–љ–Є—И—М –Њ–ї—Г—Е–∞ –≤ –њ–ї–µ—В—С–љ–Њ–є —И–ї—П–њ–µ? –ѓ –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Е–Њ–і–Є–ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –Љ–Њ–µ–є –ґ–µ–љ–µ –Є—Б–Ї–∞—В—М –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ –њ–Є—А–Њ–≥–Њ–≤, —В–Њ—А—В–Њ–≤ –Є –њ–Є—Ж—Ж—Л.
–Я—А–Њ—Й–∞–є, –ї—О–±–Њ–≤—М
–Я—А–Њ—Й–∞–є, –ї—О–±–Њ–≤—М, –Є –≤—Л, –Љ–Њ–Є –Љ–Є–ї–∞—И–Ї–Є.
–Я—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, –±–∞–љ–Є, —А—Л–љ–Њ–Ї, –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–Њ—Б—В.
–Я—А–Њ—Й–∞–є, –Ї–∞–Љ–Ј–Њ–ї, —И—В–∞–љ—Л, —Б–Њ—А–Њ—З–Ї–Є, –њ—А—П–ґ–Ї–Є.
–Я—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, –Ј–∞–є—Ж—Л, —А—Л–±—Л (–µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б—В).
–Я—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, —Б—С–і–ї–∞, —Б–±—А—Г—П –љ–∞–±–Њ—А–љ–∞—П
–Я—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, —В–∞–љ—Ж—Л-—И–Љ–∞–љ—Ж—Л –Є –њ—А—Л–ґ–Ї–Є
–Я—А–Њ—Й–∞–є, –њ–µ—А–Є–љ–∞, –њ—Г—Е, –Є –њ–ї–Њ—В—М –ґ–Є–≤–∞—П.
–Я—А–Њ—Й–∞–є, –Я–∞—А–Є–ґ, –њ—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, –њ–Є—А–Њ–ґ–Ї–Є...¬†
–≠—В–Њ —Б—В–Є—Е–Є –≠—Б—В–∞—И–∞ –Ф–µ—И–∞–љ–∞, –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є —А–µ–≥–µ–љ—В–µ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї–µ –Ю—А–ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ. –Я–Є—Ж—Ж—Г –≤ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–Љ –Я–∞—А–Є–ґ–µ —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–љ–∞—З–µ вАФ ¬Ђ–њ–Є—В–∞¬ї. ¬Ђ–Я–Є—В–∞¬ї –Є ¬Ђ–њ–Є—Ж—Ж–∞¬ї вАФ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ, вАФ –±—Г–ї–Ї–∞ —Б –љ–∞—З–Є–љ–Ї–Њ–є. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤—Ж—Л –њ–Є—Ж—Ж–µ–є –Ї—А—Г–≥–ї—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Є –Њ–±–Њ –≤—Б—С–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ –Я–∞—А–Є–ґ–∞. –Т –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є—О, –µ—Б–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є.¬†
–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј –і–µ –Ы–Њ—А–µ —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –С—Г—А–ґ–µ –Є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї—Б—П –Ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–µ—Ж —Б—Г–љ–і—Г–Ї–∞–Љ–Є –µ—Й—С –і–Њ–ї–≥–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ вАФ –Њ–љ –њ–µ—А–µ—И—С–ї –≤ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О –ї—О–і–µ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАФ ¬Ђ–Э–∞—И —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї. –Ю–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞¬ї –≤ —Г–ї–Є—З–љ—Л—Е –±–Њ—П—Е –љ–Є–Ї—В–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ –і–Њ–ґ–Є–ї –і–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є, –Є –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞–ї –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –≤ –Я—А–Њ–≤–∞–љ—Б–µ. –Ю—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ¬ї –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є.¬†
–Р 4 –Є—О–љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л—Е –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –≤ –Ь–µ–ї—С–љ –њ—А–Є—Б–Ї–∞–Ї–∞–ї –≤–Ј–Љ—Л–ї–µ–љ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –Є –µ–≥–Њ –ї–Њ—И–∞–і—М, –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М. –Т—Б—С —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –ґ–Є–ї –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞. –Р –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥—А–∞—Д —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї ¬Ђ–Я—А–Њ—Й–∞–є, –Я–∞—А–Є–ґ, –њ—А–Њ—Й–∞–є—В–µ, –њ–Є—А–Њ–ґ–Ї–Є¬ї, –≤–µ—Б—С–ї—Л–µ –њ–∞—А–Є–ґ–∞–љ–µ –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –±–µ–љ–µ–і–Є–Ї—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –°–µ–љ—В-–≠–ї–Є –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –°–Є—В–µ, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–≤—И–Є—Е —В—О—А–µ–Љ–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є. –Ґ–∞–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б—Г–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–Є–µ, –і–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б—П–Ї–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є—Е. –Ґ—О—А—М–Љ–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є –ґ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ–Є, –ї—О–і—М–Љ–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–љ—Л–Љ–Є, –Є —В–Њ–ї–њ–∞ –±–µ–Ј –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –Ј–∞—А—Г–±–Є–ї–∞ —В–Њ–њ–Њ—А–∞–Љ–Є –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ —В–∞–Љ –љ–∞—И—С–ї—Б—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї–Њ–≥–Њ –∞–±–±–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞–±–µ–ґ–∞–ї –≤ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –ї—С–≥ –љ–∞ –њ–Њ–ї –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –∞–ї—В–∞—А—С–Љ. –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Б–њ–∞—Б –Њ—В —Б–Љ–µ—А—В–Є –≥—А–∞—Д –Т–Є–ї—М–µ –і–µ –Ы–Є–ї—М-–Р–і–∞–љ. –Ю–љ —Г—Б–њ–µ–ї –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П.
–У—А–∞—Д—Г –њ–Њ–і–±–Є–ї–Є –≥–ї–∞–Ј, –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ... –Х—Б–ї–Є –± –љ–µ –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л —Б –±–µ–ї—Л–Љ–Є –Ї—А–µ—Б—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –љ–∞–Ї–Є–і–Ї–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–Љ –Ј–∞ –љ–Є–Љ, –Є –µ—Б–ї–Є –± –љ–µ –≤–Љ–µ—И–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –і—А–∞–Ї—Г —Ж–Є—А—О–ї—М–љ–Є–Ї —Б –Њ—Б—В—А—Л–Љ–Є –љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є вАФ –±—Л—В—М –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Г –Я–∞—А–Є–ґ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –љ–∞ –Њ—В–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ. –Р –љ–Њ—З—М—О –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –≤ —В—О—А—М–Љ–∞—Е вАФ –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О. –£–±–Є–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і—А—П–і вАФ –Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ —Г–±–Є–ї–Є —А–∞–љ—М—И–µ, –Є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–Ї, –Є –±–µ–Ј–і–Њ–Љ–љ—Л—Е, –Є –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤. –£–±–Є–ї–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –њ–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –У–Њ—В—М–µ –Ъ–Њ–ї–ї–∞, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–ї—М–і–∞ –Ц–∞–љ–∞ –Ъ–Њ–ї–ї–∞ –і–µ –Т—М–µ–љ–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї –Ц–∞–љ–љ—Г –і–µ –Р—А–Ї –љ–∞ —В—Г—А–љ–Є—А –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Э–∞–љ—Б–Є. –Ґ—Г—В —Г–ґ –Т–Є–ї—М–µ –і–µ –Ы–Є–ї—М-–Р–і–∞–љ –љ–µ –≤–µ–Ј–і–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї.
–Р —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Я–∞—А–Є–ґ –Ј–∞–љ—П–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –С–µ–і—Д–Њ—А–і–∞, –Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ вАФ –≤–Њ—В —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Б –Ї–Њ—А–Њ–ї—С–Љ –Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–Њ–є? –Ю–љ–Є —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є —З–µ–Љ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –њ—А–Є–≤–Є–і–µ–љ–Є–є вАФ —В–Є–њ–∞ —Е–Њ–і—П—В —В—Г—В, –Њ—А—Г—В –њ–Њ –љ–Њ—З–∞–Љ, –Є –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–і–Њ—Е–ї–Є... –Т–Њ—В –Ї—В–Њ –±—Л –Є—Е –њ—А–Є—А–µ–Ј–∞–ї, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ?! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ вАФ –љ–µ–ї—М–Ј—П! –Ъ–Њ—А–Њ–ї—М –Є –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ вАФ —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є –°–Є–Љ–Њ–љ–∞ –Ъ–∞—В–ї–µ—А–∞ –Є –µ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤. –Р —В—Г—В –µ—Й—С –і–Њ—Д–Є–љ —Б–Ї—А—Л–ї—Б—П, –Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –≥–і–µ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ вАФ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї—Б—П. –У–і–µ? –У–і–µ –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї: –≤ —Б—В–∞–љ–µ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Т–Њ—В –Њ–љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ–µ-–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–µ, –≤ –Ї–Њ–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Љ–∞—В—М –≤—Б–µ–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–і –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Е–∞–Љ–∞ –Є –≥—А—Г–±–Є—П–љ–∞ —Б–µ–љ—М–Њ—А–∞ –і–µ –С—Г—А–±–Њ–љ–∞. –Р —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –Ц–∞–љ–∞ –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —В–Њ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –±—Л–ї —Г–±–Є—В. –Ъ–µ–Љ? –Ф–∞ —В–µ–Љ –ґ–µ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї–µ–Љ: –≥–µ—А—Ж–Њ–≥ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –ї–Є–і–µ—А–∞–Љ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ь–Њ–љ—В—А–Њ, –љ–Њ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –≤—Б–µ—А—М—С–Ј –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ц–∞–љ–∞ –С–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ. –Ю–љ вАФ –Ј–∞–Є–љ—В—А–Є–≥–Њ–≤–∞–ї—Б—П.¬†
–Э–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –Є –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞. –Э–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ –≤ –Ь–Њ–љ—В—А–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В, –Є –≥—А–∞—Д –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М —А–∞–Ј—А—Г–±–Є–ї –µ–Љ—Г –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ... –∞–і—М—О, –Њ–і–љ–Є–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Э–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ.¬†
–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –±—Л–ї –±—А–∞—З–љ—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—А–Њ–ї—С–Љ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –У–µ–љ—А–Є—Е–Њ–Љ –Ы–∞–љ–Ї–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ–є, —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А–Њ–є –і–Њ—Д–Є–љ–∞, –Љ–Є–≥–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –Ъ–∞—А–ї–∞ –≤ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О –±–∞—Б—В–∞—А–і–Њ–≤. –Т–Њ—В —Г–ґ –Є –њ—А–∞–≤–і–∞ вАФ —В–∞–Ї–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞: –±–∞—Б—В–∞—А–і—Л —А—Г–ї—П—В –≤—Б–µ–Љ! –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–µ –Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–µ –Ъ–∞—А–ї–Њ–Љ, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –і–Њ—Д–Є–љ–Њ–Љ –Т—М–µ–љ–љ—Б–Ї–Є–ЉвА¶¬ї вАФ –Э—Г, –≤—Б—С –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –і–∞?¬†
–Я—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П...¬†
–Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –µ—Й—С —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–є —Б—Г–і –≤ –У–∞–∞–≥–µ —Г—З—А–µ–і–Є—В—М –Є —В–∞–Љ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ —Н—В–Є ¬Ђ–њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П¬ї, –љ–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–Љ—Б—В–≤–∞ –µ—Й—С –љ–µ –і–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–Є—Б—М. –Э–∞ –і–≤–Њ—А–µ вАФ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –≤–µ–Ї–∞ 15-–≥–Њ, –∞ –љ–µ –≤–µ–Ї 21-–є, –Є —Б–∞–Љ—Л–Љ –±–µ—Б–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–љ—Л–Љ —А—Л—Ж–∞—А–µ–Љ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—Л–ї –љ–µ —Б–Њ–љ–љ—Л–є –Ф–ґ–Њ–Ј–µ—Д –†–Њ–±–Є–љ–љ–µ—В –С–∞–є–і–µ–љ, –∞ –≥—А–∞—Д –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Є —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Т–Њ—В –≥—А–∞—Д –Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ. –Э–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ –ї–µ—В –Њ–љ —И—Г—В–Є–ї, —З—В–Њ —Г–±–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞, –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї–∞—П... –Ф–∞!
–Х–≥–Њ –њ—А–µ–і–Њ–Ї –±—Л–ї –≤ —З–Є—Б–ї–µ –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–±–∞–Ї–Є¬ї вАФ –≤–љ–µ–±—А–∞—З–љ—Л–µ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, вАФ –±—Л–ї–Є –≤–љ–µ—И–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Є—А–љ—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–Є –ґ–Є–ї–Є —Г–ґ–µ –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П.
–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–є—Ж–∞ –Ґ–∞–љ–≥–Є –±—Л–ї —Б—Л–љ –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ вАФ –Ю–ї–Є–≤—М–µ, —В–Є—Е–Є–є —Г—З—С–љ—Л–є —О–љ–Њ—И–∞, –≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж —Д–∞–Љ–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Ґ—А–µ–Љ–∞–Ј–∞–љ 9 –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –±—Г—Е—В—Л –Я–Њ—А—В—Б–Њ–ї–ї –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ы–∞-–Ь–∞–љ—И–∞. –°–µ–є—З–∞—Б –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–µ –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАФ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –і—О –®–∞—В–µ–ї—М –Є –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –љ–∞ –і–љ–µ –±—Г—Е—В—Л —Б—Г–њ–µ—А—В–∞–љ–Ї–µ—А ¬Ђ–Р–Љ–Њ–Ї–Њ –Ъ–∞–і–Є—Б¬ї. –Р –µ—Й—С –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –±—Г—Е—В—Л –ґ–Є–ї –Є —Г–Љ–µ—А –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ вАФ –Ш–≤ –Я—А–Є–ґ–∞–љ, —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ —Д–ї–Њ—В–∞, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ш –Ї—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–Љ–љ–Є—В –≥—А–∞—Д–∞ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±–∞–Ї–∞¬ї? –£–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ. –Р —В–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —П—А–Ї–Є—Е —А—Л—Ж–∞—А–µ–є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –±—Л–ї –Њ–љ –њ–Њ–њ-–Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ —А—Л—Ж–∞—А–Є. –Х–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ —Г –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ—Г–ґ–љ–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –У—А–∞—Д –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤–Њ–є–љ—Г, —И–њ–Є–Њ–љ–∞–ґ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г.
–С–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є —А—Л—Ж–∞—А—М –≥—А–∞—Д –Р—А–љ–Њ –У–Є–ї—М–Њ–Љ –і–µ –С–∞—А–±–∞–Ј–∞–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А—П—З–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ вАФ homme chaulx, soudain et hatif, вАФ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –°—А–µ–і–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є—Е –і–Њ—Д–Є–љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ю—А–ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –Њ–љ ¬Ђ—Б–≤–Њ–Є–Љ¬ї –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–∞–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Г –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≥—А–∞—Д—Г –Р—А—В—Г—А—Г –і–µ –†–Є—И–Љ–Њ–љ—Г, —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–Є—П—В–µ–ї—О, –Ї—Б—В–∞—В–Є. –Э–Њ –Њ–љ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ—Г–Ї—А–Њ—В–Є–Љ–Њ —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є вАФ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –і–Њ —В–Њ—З–Ї–Є, –і–Њ —Д–Є–љ–∞–ї–∞. –Т—Б–µ —А–µ—З–љ—Л–µ –і–Њ–ї–Є–љ—Л —О–ґ–љ–µ–µ –Я–∞—А–Є–ґ–∞ —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є вАФ –Ї–∞–Ї –Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ь–µ–є, –Ь–Є–ї—С–љ –Є –Ь–Њ –љ–∞ –Ь–∞—А–љ–µ вАФ –Є —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —В–Њ–ґ–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—С–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞–ї–Њ –µ—Й—С –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–Њ–≤ –і–µ –У–Є–Ј–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —Ж–Є—В–∞–і–µ–ї—М –Ъ—Г—Б–Є вАФ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П. –Ш–Ј –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≥—А–∞—Д—Л –і–µ –Ы–∞ –§–µ—А. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ –Р—В–Њ—Б–∞ –Є–Ј –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ–∞?
–Т —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–µ–Љ—М—П –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ —А—П–і–∞—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –∞ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–Љ –Ъ—Г—Б–Є –±—Л–ї –≥—А–∞—Д –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –µ–≥–Њ –ї—О–і–Є –Ј–∞–љ—П–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–Њ–Љ–њ—М–µ–љ—М –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є —А–µ–Ї–Є –£–∞–Ј–∞. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–Є —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є? –Ю—З–µ–љ—М —Б–Љ–µ—И–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –љ–∞ –њ–Њ–і—К—С–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В—Г –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—А–µ–Ј–∞–љ–∞ –ї–Њ–Љ–Њ–≤–∞—П –ї–Њ—И–∞–і—М, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і—К—С–Љ –Љ–Њ—Б—В–∞ —Б—В–∞–ї –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –Є –љ–∞ –њ–Њ–і—К—С–Љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –≤—Л—И–ї–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л вАФ –Љ–Њ—Б—В –±—Л–ї –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞ –±—Л–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Є–є —А—Л—Ж–∞—А—М –У–µ–Ї—В–Њ—А –і–µ –°–∞–≤–µ–Ј, –±—А–∞—В –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞ –і–µ –°–∞–≤–µ–Ј–∞. –С—А–∞—В—М—П –±—Л–ї–Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ–Є –Њ—А–µ—И–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–±–∞ –Є–Ј –§–ї–∞–љ–і—А–Є–Є вАФ –Њ —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–Њ–ї–Њ—В–Ї–Є –ї–Њ–Љ–∞—О—В. –Ш –≤–µ–і—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —В–∞–Ї, —З—В–Њ –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—И—С–ї —Б—В–Њ–ї—М –≤–∞–ґ–љ—Л–є –Є –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–µ–љ—М–Њ—А, –Ї–∞–Ї –≥—А–∞—Д –Т–Є–ї—М–µ –і–µ –Ы–Є–ї—М-–Р–і–∞–љ.¬†
–Ъ–∞–Ї –Є–Љ —Н—В–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М?¬†
–Я—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –≤—Л–±–Њ—А–∞. –Р –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞ –Љ–ї–∞–і—И–µ–Љ—Г –і–µ –°–∞–≤–µ–Ј—Г. –†—Л—Ж–∞—А—М –У–µ–Ї—В–Њ—А –і–µ –°–∞–≤–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–µ—А–ґ–∞–ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤—Л—А–≤–∞–ї—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Г—И—С–ї –≤ –ї–µ—Б. –Р –љ–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї —А—Л—Ж–∞—А—М –У–Є–ї—М–Њ–Љ –і–µ –У–∞–Љ–∞—И, –Є–і–µ–є–љ—Л–є –±–Њ–µ—Ж –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Ј–≤–µ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—В–∞–ї —А—Л—Ж–∞—А—М –§–ї–∞–≤–Є–є –і–µ –Ы—О—Б. –Ю–љ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ вАФ 40 —А—Л—Ж–∞—А–µ–є –Є –і–Њ 300 —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В–Њ–≤. –Т–Њ—В —В–∞–Ї –Ъ–Њ–Љ–њ—М–µ–љ –Є —Б—В–∞–ї –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –≤–Њ–є—Б–Ї –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –≤ –і–Њ–ї–Є–љ–µ –£–∞–Ј—Л. –Ю–±—К—П—Б–љ—П—В—М –љ–µ –љ–∞–і–Њ, –Ї–∞–Ї—Г—О —А–Њ–ї—М –≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–Њ–Љ–њ—М–µ–љ —Б—Л–≥—А–∞–ї –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—И–µ–є —Б –Т–∞–Љ–Є –Ц–∞–љ–љ—Л –і–µ –Р—А–Ї.
вАФ –Т—Л —В–∞–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ—Б—М, —З—В–Њ —П –≤–∞–Љ –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О, вАФ –Њ–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –і–µ –®–∞—В–µ–ї—П.
–Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ: –Њ–љ, –≥–Њ–ї—Л–є, —В–Њ—А—З–∞–ї –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Љ—Л–ї–Є–≤–∞–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Ї—Г–њ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —И—В–∞–љ–∞—Е. –У–Њ–ї—Л—И–Њ–Љ –ї–µ–Ј–ї–Є –≤ –≤–Њ–і—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г —Б–µ–±—П –і–Њ–Љ–∞ вАФ –≤ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Г—О –≥–Њ—А—П—З–µ–є –≤–Њ–і–Њ–є –±–Њ—З–Ї—Г.
вАФ –Р —В—Л –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –Є–ї–Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –≥—А–∞—Д, –≤—Л–±–Є—А–∞—П—Б—М –Є–Ј –≤–Њ–і—Л. –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М. –Ч–∞—В–Њ –Ј–љ–∞–ї –і—О –®–∞—В–µ–ї—М: вАФ –≠—В–Њ –Њ —В–µ–±–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Ы–Њ—А–∞–љ –і–µ –Р–љ—В–Њ–љ, –∞–њ—В–µ–Ї–∞—А—М –Ї–Њ—А–Њ–ї—П? –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –ґ–µ —В–µ–±—П –Ј–Њ–≤—Г—В –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ?
–Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї –і–∞–ґ–µ –Њ–±–Є–і–µ–ї–∞—Б—М:
вАФ –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Г –Љ–µ–љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—С–љ, –Ї–∞–Ї —Г –≤–µ–і—М–Љ—Л?
вАФ –£ –≤–µ–і—М–Љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Љ—П, –љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –і–µ –®–∞—В–µ–ї—М.
–У—А–∞—Д —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–є, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–µ—Б–љ—П—П—Б—М, –Є —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ —В—С—А –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ–Љ –Љ–Њ–Ї—А—Г—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –љ–µ–≤—Л—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ –ї–Њ—Е–Љ–∞—В–Њ–є. ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —Г –њ—Г–і–µ–ї—П¬ї, вАФ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞:
вАФ –Т–∞–Љ –љ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ?
вАФ –Р —В—Л –і–ї—П —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–∞ –љ–∞ —А–µ—З–Ї—Г? вАФ –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ–Ї—Г —Б –±–µ–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є –ґ—С–ї—В—Л–Љ —Ж–≤–µ—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Љ—Л–ї–Њ–Љ. –У—А–∞—Д –≤—Л—В–µ—А –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –љ–∞–і–µ—В—М —И—В–∞–љ—Л. вАФ –Р —В—Л вАФ –љ–Є—З—С, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—П —Б–≤–Њ–є —В–Њ—Й–Є–є –Ј–∞–і –Є —Б–њ–Є–љ—Г —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ —И—А–∞–Љ–Њ–Љ. вАФ –Х—Б–ї–Є —В—Л –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї, —В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–µ–Љ–Є–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, –∞ –µ—Б–ї–Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, —В–Њ, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –µ—Й—С –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–µ. –Э–Њ –Љ–љ–µ –≤—Б—С –ґ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —В–µ–±—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М? –ѓ –≤–µ–і—М –љ–µ –Ц–Є–ї—М –і–µ –†–µ, —П –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Б—М... –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —В—Л –µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–µ—И—М?
вАФ –Ф–∞, –љ–∞ –і–љ—П—Е –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М.
–Ц–∞–љ–љ–∞ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї–∞ –µ—Е–Є–і–љ–Є—З–∞—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –±–∞—А–Њ–љ –°–Є–љ—П—П –±–Њ—А–Њ–і–∞ –±—А–µ–і–Є–ї —Б–∞—В–∞–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П —Б–њ–Є—А—В–∞ —Б —В—Г–ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г—Б—В—А–Є—Ж–∞–Љ–Є.
вАФ –Ь–Њ—А–∞–ї—М: –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–Ї—Г—Б—Л–≤–∞–є —Б–њ–Є—А—В –Љ–Њ—А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є! вАФ –њ–Њ—И—Г—В–Є–ї –і—О –®–∞—В–µ–ї—М, –љ—А–∞–≤–Њ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≥—А–Њ–Ј–Є–≤ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: вАФ –Э—Г —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –ґ–µ —В–µ–±—П –Ј–Њ–≤—Г—В –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ?
вАФ –ѓ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є —Б–∞–Љ–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞—О.
–У—А–∞—Д —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–Є–і, —З—В–Њ —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—В—Б—П:
вАФ –Ґ–∞–Ї —В—Л вАФ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, –і–∞?¬†
–Ц–∞–љ–љ–∞ –њ–Њ–ґ–∞–ї–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є. –Х—С —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Б–≤—П—В–∞—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞¬ї –≥—А–∞—Д–∞ –і—О –®–∞—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–∞ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ—Л–Љ —Е–∞–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Х—С –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ —В–Њ—Й–Є–є, —Н—В–Њ—В –±–Њ—А–µ—Ж —Б –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є —А—Л—Ж–∞—А—П–Љ–Є вАФ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є, –ґ–Є–ї–Є—Б—В—Л–є, –ї–Њ—Е–Љ–∞—В—Л–є, –Є –љ–Њ—Б вАФ –Ї–∞–Ї —Г –њ–Њ–њ—Г–≥–∞—П. –Э–Њ —Н—В–Њ вАФ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М! –Ц–∞–љ–љ–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–љ—П–ї–∞, –Ї—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–є. –≠—В–Њ вАФ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Є —Н—В–Њ вАФ –Ї–ї—Г–±–Њ–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є. –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤–Є–і–µ–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–є—Ж–∞ –Є –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В–∞. –Х—Б–ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –≥—А–∞—Д–∞ –Ґ–Є–±–Њ –і–µ –Э–µ—Д—И–∞—В–µ–ї—П, —В–Њ –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –±–Њ–є—Ж–Њ–Љ –Є —В–Њ–ґ–µ —Г–±–Є–є—Ж–µ–є. –Э–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –Ґ–Є–±–Њ –і–µ –Э–µ—Д—И–∞—В–µ–ї—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ї—Г–њ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–Є–ї–Њ¬ї —Б–≤–Є–љ–Є–љ—Л, –∞ —Н—В–Њ—В вАФ –љ–µ –њ—А–Њ–і–∞—С—В—Б—П. –Ю–љ —Г–ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–±–Њ—А –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є.
вАФ –Ґ—Л вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Ј –і–µ –Р—А–Ї–Њ–≤?¬†
–Т–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –≤–Є–і–Є—И—М –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є —О–љ–Њ—И—Г-–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞, —В–Њ –љ–µ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–є –µ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ? –Ь–∞–ї–Њ –ї–Є —З—В–Њ –Њ–љ —В–µ–±–µ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В. –Э–Њ –Ц–∞–љ–љ–∞, —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ —В–µ–Љ —Б—В–∞—В—Г—Б–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–љ–∞ –љ–µ–є¬ї. –≠—В–Њ –≥—А–∞—Д –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М –і–∞–ґ–µ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї–µ–Љ, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –µ—С –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–∞—З–љ—Г—В –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М ¬Ђ–∞—А–Љ–∞–љ—М—П–Ї—Б–Ї–Њ–є –≤–µ–і—М–Љ–Њ–є¬ї –Є –і–∞–ґ–µ ¬Ђ–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є —В–≤–∞—А—М—О –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л¬ї вАФ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –і–∞?¬†
–Э–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ-—В–Њ –і–µ–ї–µ вАФ –Ї–∞–Ї –µ—С –Ј–Њ–≤—Г—В?
–І—В–Њ –ґ, –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ —Б–≤–Њ–є –≤–Ј–Њ—А –∞—А—Е–Є–≤–∞–Љ. –Ґ–∞–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±—Л–ї–Є—Ж, –љ–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—О—В –њ—А–∞–≤–і—Г, –≤–µ—Й—М –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–і–Њ–±–љ—Г—О. –Ъ–∞—А–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—Ж–Є–Є –≤ –†–µ–є–Љ—Б–µ –ґ–∞–ї—Г–µ—В –Ц–∞–љ–љ–µ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–Њ: –Ц–∞–љ–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –і–µ –Ы—О—Б-–†—Г–∞, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Ы–Є–ї–Є—П. –Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –У—А–∞–Љ–Њ—В—Г –∞–љ–Њ–±–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Њ –њ—А–Є–Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є –Ф–µ–≤—Л, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ —З–∞—Б—В–Њ —Б–µ–±—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞, –Ї –љ–Њ–±–µ–ї—П–Љ, –Ї –і–≤–Њ—А—П–љ–∞–Љ. –Т –≥—А–∞–Љ–Њ—В–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –µ—С –Љ–∞—В—М вАФ –Ш–Ј–∞–±–µ–ї–ї–∞ –†–Њ–Љ–µ, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ц–∞–Ї –Ґ–∞—А—З –Є –±—А–∞—В—М—П вАФ –Ц–∞–љ –Ф–∞–є –Є –Я—М–µ—А –Я–µ—А—А–µ–ї—М. –£–ґ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Э–Њ —Б–µ–Љ—М—П –±—Л–ї–∞, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, вАФ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–∞—П, —Д–µ–Њ–і–∞–Љ–Є –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞, —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞. –Я—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ ¬Ђ–њ–µ—А—А–µ–ї—М¬ї –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ, ¬Ђ—В–∞—А—З¬ї (–і—А—Г–≥–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—Н–Ї—О¬ї) вАФ —Н—В–Њ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —Й–Є—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є —Б–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–Њ ¬Ђ–і–∞–є¬ї –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ –Ј–љ–∞—П –µ–≥–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П вАФ ¬Ђday¬ї. –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ –Ї–∞–Ї —Е–Њ—В–Є—В–µ. –Я–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є —Н—В–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ф–µ–є–ї¬ї. –≠—В–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–∞–Ї¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Њ–±—Л–≤–∞—В–µ–ї—М¬ї... –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —В–∞–Ї!
–Р –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ц–∞–љ–љ–µ—В—В–∞ –†–Њ–Љ–µ. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Ш–Ј–∞–±–µ–ї–ї–Њ–є –†–Њ–Љ–µ –Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М –µ—С –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–∞—П –µ—Й—С –і–Њ –±—А–∞–Ї–∞ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –†–Є–Љ. –Р –Ц–∞–љ–љ–Њ–є –і–µ –Р—А–Ї –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–µ–±—П –љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ вАФ —Г–≤—Л! –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –Є–Љ—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ. –Т 1450 –≥–Њ–і—Г –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –Ъ–∞—А–ї –°–µ–і—М–Љ–Њ–є –Ј–∞—В–µ—П–ї —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ц–∞–љ–љ—Л. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ –†–Є–Љ —Б–Љ–Њ—В–∞–ї—Б—П –≥—А–∞—Д –і–µ –У–Њ–Ї—Г—А, —Г–ґ–µ –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї—Л–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М –ґ–µ—А—В–≤—Г –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–Љ –Ј–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Љ—П вАФ –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї. –Ш–Љ—П –≤–љ—С—Б –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –њ–∞–њ—Б–Ї–Є–є –ї–µ–≥–Є—Б—В –У–Є–ї—М–Њ–Љ –Я—А–µ–≤–Њ—В–Њ.¬†
–Ш –≤–Њ—В —В—Г—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞—Б—М –≤—Б—П –њ—А–µ–і—Л—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –і–µ –Р—А–Ї –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Љ–µ–ї—М–Ї–∞–µ—В –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е, –Љ—Л —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ. –Ф–∞–ґ–µ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Є—Е –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–Є–љ—М –Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ь–∞—А–Є–µ–є –і–µ –Р—А–Ї. –Р –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–µ –Р—А–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –≤ —А—Л—Ж–∞—А–Є –Ј–∞ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–Є —И—В—Г—А–Љ–µ –Ш–µ—А—Г—Б–∞–ї–Є–Љ–∞ –≤ –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В. –Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–∞–≤–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ 15 –≤–µ–Ї–∞. –Р –≤ 15 –≤–µ–Ї–µ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –Э–Є–Ї–Њ–ї—П –і–µ –Р—А–Ї–∞, –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Њ—В—Ж–∞ –Ц–∞–љ–љ—Л, –Є –µ—Й—С –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї –і–≤–Њ—А—П–љ —Б —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є, –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –њ—А—П–Љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–µ–Љ—М–µ –Ъ–∞—А–ї–∞ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ. –С—Л–ї –У–Є–ї—М–Њ–Љ –і–µ –Р—А–Ї вАФ –≥—Г–≤–µ—А–љ—С—А –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї–∞ –С–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—В—Ж–∞ –Ъ–∞—А–ї–∞ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ, –Є –Ш–≤–Њ–љ –і–µ –Р—А–Ї вАФ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –Ъ–∞—А–ї–∞ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ, –Є –†–∞—Г–ї—М –і–µ –Р—А–Ї вАФ –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А, –Є –Ц–∞–љ –і–µ –Р—А–Ї вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–ї–µ–Љ–µ—А –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –Є –±—Л–ї –°–Є–Љ–Њ–љ –і–µ –Р—А–Ї вАФ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є –Ї–∞–њ–µ–ї–ї–∞–љ, –Њ—В–ї–Є—З–µ–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є —Б –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–Њ–Љ –і–µ –С—А–Є–µ. –Р –±—Л–ї–∞ –Є –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї, —Д—А–µ–є–ї–Є–љ–∞ –Ш–Ј–∞–±–µ–ї–ї—Л –С–∞–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–є, –Љ–∞—В–µ—А–Є –Ъ–∞—А–ї–∞ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ. –Я–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–ґ–µ –≤–і–Њ–≤–Њ–є, –∞ –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ. –Э–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ, –і–∞?¬†
–Ь–Њ–ґ–µ—В, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ц–∞–љ–љ–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї —Б–µ–±—П –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞? –≠—В–Њ –ґ–µ –±—Л–ї —Ж–µ–ї—Л–є –Ї–ї–∞–љ –і–µ –Р—А–Ї–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—П–і—П –Э–Є–Ї–Њ–ї—П –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ю–± –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ц–∞–љ–љ–∞ —В–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞. –†–∞—Б—Ж–≤–µ—В –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –∞ —Н—В–Є –і–µ –Р—А–Ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –Ј–љ–∞–ї–Є –і—А—Г–≥-–і—А—Г–≥–∞, –Є–ї–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–і–љ–Њ—Д–∞–Љ–Є–ї—М—Ж–∞–Љ–Є —Б –Њ–±—Й–Є–Љ –≥–µ—А–±–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–і–Ї–Њ–Љ? –Ф–∞ –Є –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —А—Л—Ж–∞—А–Є —В–Њ–ґ–µ –µ–і–≤–∞ –Ј–љ–∞–ї–Є. –Ю–љ–Є –ї–µ–Ј–ї–Є –Ј–∞ –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є –Є –ї–∞–≤—А–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Є –Є —В—Г—В –ґ–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П–Љ–Є. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є–µ —В–Њ—Й–Є–µ —Г–њ—А—П–Љ—Л–µ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М. –Ю–љ вАФ –≥—А–∞—Д –Є –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ –і—А–µ–≤–љ–µ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –Ю–љ вАФ –Ј–љ–∞—В—М.¬†
–Ч–∞—З–µ–Љ –µ–Љ—Г —Н—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ?¬†
–Ъ—В–Њ-—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В вАФ ¬Ђ–Ь–µ–љ—П–є—Б—П вАФ —В—Л, –Є –Љ–Є—А –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П!¬ї, –∞ –і—А—Г–≥–Є–µ –Є–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—В: ¬Ђ–Я—Г—Б—В—М —Б–њ–µ—А–≤–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П –Љ–Є—А!¬ї –Ш –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –Є —В–Њ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ вАФ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Ш –µ—Й—С –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ вАФ —Б–µ–±—П –њ–Њ–Љ–µ–љ—П—В—М, –Є–ї–Є —З—В–Њ–± –Љ–Є—А –≤–µ—Б—М –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї—Б—П. –У—А–∞—Д –і—О –®–∞—В–µ–ї—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –њ—А–Њ—Б—В—Г—О –Є—Б—В–Є–љ—Г: –µ—Б–ї–Є –Љ–Є—А –љ–µ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П, –Ј–љ–∞—З–Є—В –њ–Њ—А–∞ –±—А–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –Љ–µ—З! –Р –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞ —Н—В–Њ—В –Љ–Є—А: ¬Ђ–Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є —Н—В–Њ вАФ –Љ–љ–µ –Њ–і–љ–Њ–є?¬ї –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ј–∞–і–∞—О—В –њ—З—С–ї–Ї–Є –Є –Ї–Њ—В—П—В–∞:
вАФ –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –≤—Б—С —Н—В–Њ вАФ –љ–∞–Љ? –Т–µ—Б—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –Љ–Є—А...
–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –∞ —З—В–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О—В —Г –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Њ—Б—Л —Б –Є—Е –Ї–Є—Б–ї–Њ—В–љ–Њ-–ґ—С–ї—В—Л–Љ–Є –Є –Љ–∞—Б–ї—П–љ–Є—Б—В–Њ-—З—С—А–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞–Љ–Є? –Ш—Е –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ–љ–Є –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–Є.¬†–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ —В–∞–љ—Ж–∞—Е –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ!¬†
–Т –°—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–µ–Ї–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ–Љ –њ–Њ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –ґ–Њ–љ–≥–ї–µ—А–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–≤-–Љ–µ–љ–µ—Б—В—А–µ–ї–µ–є. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Г–ґ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–µ–є вАФ —А–∞–Ј–≤–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В? –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞ вАФ —Н—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—Г—А–∞–Ї –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ–µ –Ј–∞ –µ–і—Г –Є–≥—А–∞–µ—В –љ–∞ –і—Г–і–Њ—З–Ї–µ. –Ш–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–Є—А–Ї –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї, –Є —В–Њ—А–≥–∞—И–Є –Ј–∞–њ–∞—Б–∞—О—В—Б—П –Ї–Є—Б–ї—Л–Љ–Є —П–±–ї–Њ–Ї–∞–Љ–Є. –Р –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–±—Л, —А–Њ–≥–∞, —Б–≤–Є—А–µ–ї–Є, —Д–ї–µ–є—В—Л –Я–∞–љ–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –≤–Њ–ї—Л–љ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Д–Є–ї—М–Љ—Г ¬Ђ–Т—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –±–ї–Њ–љ–і–Є–љ –≤ –ґ—С–ї—В–Њ–Љ –±–Њ—В–Є–љ–Ї–µ¬ї вАФ –Њ–љ–Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≥—Г–і—П—В —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–±–Њ–є, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤—Л–µ. –Ш —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –∞—А—Д—Л –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Љ—Л—З–Ї–Њ–≤—Л—Е вАФ –њ—А–µ–і–Ї–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–Є: –Ї—А–Њ—В—В–∞, —А–µ–±–∞–±, –≤–Є–µ–ї–∞, –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л —Д–Є–і–µ–ї—П (fiddle –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ). –Ш –±—Л–ї–∞ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Ж–µ–ї–∞—П –≥–Є–ї—М–і–Є—П –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М ¬Ђ–ґ–Њ–љ–≥–ї—С—А—Л¬ї. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ вАФ —Б –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –љ–µ—Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї –Ї —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ. –Ш–ї–Є –Ї –≥–Њ–ї–Њ–і—А–∞–љ—Ж–∞–Љ.
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –ґ–Њ–љ–≥–ї—С—А –≤ –°—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–µ–Ї–∞ (jouleor –Њ—В –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ joculator вАФ —А–∞–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М) —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В. –Т –°—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–µ–Ї–∞ —Н—В–Њ –Є —В–∞–љ—Ж–Њ—А, –Є —Б–Ї–Њ–Љ–Њ—А–Њ—Е, –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В, –Є –і–∞–ґ–µ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—В–Є—Б—В –Є–ї–Є –њ–Њ—Н—В вАФ —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ jouleor, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Є–Ј –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е. –Р –±—Л–≤–∞–ї–Є, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–µ jouleor, –љ–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–∞—Е –Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞—Е. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П –ґ–µ вАФ –љ–µ–њ—А–µ—Б—В–Є–ґ–љ–∞—П. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, jouleor –±—Л–ї–Є –±—А–Њ–і—П—З–Є–Љ–Є –Є–ї–Є, –≤–µ—А–љ–µ–µ, –Ї–Њ—З—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ –∞—А—В–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –Є –ґ–Є–Ј–љ—М –Є—Е –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Ј–ї—Л—Е –Є –≥–ї—Г–њ—Л—Е: –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–µ –љ–µ –Ј–∞–њ–ї–∞—В—П—В, –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–µ –љ–∞–Ї–Њ—А–Љ—П—В, –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –≤—Л–њ–Њ—А—О—В, –Ї–∞–Ї —Б–Є–і–Њ—А–Њ–≤–∞ –Ї–Њ–Ј–ї–∞, –≤ —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–Љ вАФ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —З—Г—В—М –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—П—В –Ј–∞ –Ї–Њ—Б–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є–ї–Є –Ј–∞ ¬Ђ–Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г —А–µ–ґ–Ђ–Љ–∞¬ї. –С—Л–≤–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ jouleor –љ–∞–њ–∞–і–∞–ї–Є —Ж—Л–≥–∞–љ–µ. –Ю–љ–Є —В–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ (–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї —З–Є—Б–ї—Г –±–µ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –Є–Ј –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є) –Є –≤–µ–Ј–і–µ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є.¬†
–Ю—Е, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —Б —Н—В–Є–Љ–Є —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –і–ї—П ¬Ђjouleor¬ї —Ж—Л–≥–∞–љ–µ –±—Л–ї–Є –љ–µ –Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є, –∞ —Б—А–∞–Ј—Г –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б—В–∞—В—Г—Б–µ –У–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ 1219 –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ–У–Є—Б—В—А–Є–Њ–љ—Л (–і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—А—В–Є—Б—В—Л —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М), –ґ–Њ–љ–≥–ї–µ—А—Л –Є —Б–Ї–Є—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —З—Г–ґ–µ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л¬ї вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –ї—О–і–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –њ—А–∞–≤–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П, —Н—В–Њ ¬Ђ–љ–Є—З—М–Є –ї—О–і–Є¬ї, –і—А—П–љ—М –≤—Б—П–Ї–∞—П, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Е—Г–ґ–µ. –Ш –љ–∞—А–Њ–і, —З—Г—В—М —З—В–Њ, –Ї–Є–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–≤ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –і—А—П–љ—М—О. –Ш –Ї–∞–Ї —В—Г—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —П, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ-—В–Њ, –љ–µ —Б–Ї–Є—В–∞—О—Й–Є–є—Б—П —З—Г–ґ–µ—Б—В—А–∞–љ–µ—Ж, —П вАФ –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ –Є–Ј –°—В—А–∞–љ—Л —Б—В–Є—Е–Њ–≤ вАФ –Є–Ј –Я—А–Њ–≤–∞–љ—Б–∞. –ѓ вАФ –∞–≤—В–Њ—А –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–∞–≥ –Є —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤?! –Э–µ—В, —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М ... –Э–∞—А–Њ–і –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В. –ѓ—Б–љ–Њ —В–µ–±–µ?
–Э–µ—В, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —П—Б–љ–Њ! –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–є –љ–∞—А–Њ–і –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ –ї—О–±–Є–ї —В–µ—Е, –Ї—В–Њ ¬Ђ–≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П¬ї. –Р –њ–Њ—Н—В—Л –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В—Л вАФ –љ–∞—А–Њ–і —В–∞–Ї–Њ–є, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е –Є –≤–Є–і–љ–Њ... –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і –≤ –®–Є–љ–Њ–љ, –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –ґ–і–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Б—О—А–њ—А–Є–Ј вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї —Ж–µ–ї—Л–є –±–∞–ї –≤ –µ—С —З–µ—Б—В—М! –Ш вАФ —Ж–µ–ї—Л–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–≤! –Т–µ—А–љ–µ–µ, вАФ —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤, —З–Є—В–∞–≤—И–Є—Е —Б–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є –њ–Њ–і –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Г—О —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Љ–њ–Њ–Ј–∞–љ—В–љ–Њ –Њ–і–µ—В—Л—Е –≥–Њ—Б–њ–Њ–і jouleor.¬†–Ъ—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–Є?
–≠—В–Њ —В–Њ–ґ–µ jouleor, –љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ вАФ –Њ–љ–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –њ–∞–ґ–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞–Љ–Є –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е –≥–Њ—Б–њ–Њ–і, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ вАФ –±—А–Њ–і—П—З–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –љ–µ –±—А–Њ–і—П—З–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є–Ј –С—А—О–≥–≥–µ, –У–µ–љ—В–∞, –Є–Ј –Ь–∞—А—Б–µ–ї—П –Є–ї–Є –С—А—О—Б—Б–µ–ї—П. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –Є —Д–ї—С—А —Н—В–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є ¬Ђ–Ј–≤–µ–Ј–і—Л¬ї. –Э–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ ¬Ђ—Ж–µ—Е–∞—Е¬ї –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ ¬Ђ–∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ¬ї. –¶–µ—Е–∞ —Г –љ–Є—Е –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤: —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ—Е–∞ –±—Л–ї —Б–≤–Њ–є –≥–µ—А–± –Є –і–µ–≤–Є–Ј –≤ –≤–Є–і–µ —Е–Є—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ–є —И–∞—А–∞–і—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞, –≤–µ–Ј–і–µ –њ–Њ—З—В–Є –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–∞—П вАФ –і–µ–Ї–∞–љ, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ—Б–µ—Ж, —И—Г—В, –Є вАФ ¬Ђ–±—О—А–Њ —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–љ¬ї. –Э—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М –У—А–µ–±–µ–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ь–∞–Ї–∞—А–µ–≤–Є—З, ¬Ђ–Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є—Ж–∞ –°–°–°–†¬ї –Ы–∞–є–Љ–∞ –Т–∞–є–Ї—Г–ї–µ, –Я—Г–≥–∞—З—С–≤–∞ —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ, –≥—А—Г–њ–њ–∞ ¬Ђ–Т–µ—Б—С–ї—Л–µ —А–µ–±—П—В–∞¬ї –Є —В.–і –Є —В.–њ. [–Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –Є–љ–Њ–∞–≥–µ–љ—В—Л, вАФ —А–µ–і.] –Ю–і–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ вАФ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Л.
–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Н—В–∞ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—В—Г—А –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Љ—А–∞—З–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В –љ–Є—Е –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П вАФ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Є –њ—А–Є—А–µ–Ј–∞—В—М –Ї —З—С—А—В—Г! –Ш–ї–Є –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Є –Ј–∞–Љ—Г—З–∞—О—В –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є ¬Ђ–њ–ї—П—Б–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї. –Э–Њ –Ц–∞–љ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Є —Г–Љ–љ–∞—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–є —Н—В–Њ –≤—А—П–і –ї–Є —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–Њ. –Х–є —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–Њ –љ–µ—З—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –Э–∞—А–Њ–і –µ—Й—С –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, –Ї—В–Њ –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї–∞—П, –љ–Њ –≤ –љ–µ–є —Е–Њ—В–µ–ї–Є –≤–Є–і–µ—В—М –°–≤—П—В—Г—О –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г, –Є –њ–µ–≤—Ж—Л —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л jouleor –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є –µ–є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–µ—Б—М –≤–µ—З–µ—А. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ–і—М вАФ —Б–≤–Њ—С –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ?¬†
Instrumentum publicum et probatum
–Т–Њ—В –Њ–љ–Є –Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е, —Б —Г—Б–∞–Љ–Є –Є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–є. –Э–µ–Ї—В–Њ –§–Є–ї–Є–њ–њ, –Њ–і–µ—В—Л–є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є. –Ч–∞—В–Њ –≤—Б–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є. –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–∞–ґ–µ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ вАФ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ —Б –њ—З—С–ї–Ї–∞–Љ–Є –Є —Ж–≤–µ—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –Є –≤—Б–µ —Б—В–Є—Е–Є –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ? –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В–∞–Ї –Є –µ—Б—В—М: –§–Є–ї–Є–њ–њ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –Є–Ј –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–∞, –≥–і–µ –±—Л–ї –Њ–љ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–Љ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ —Г –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Є–Ј –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—В–Є. –Р –±—Л–ї —Н—В–Њ —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —Б—Н—А –§–Є–ї–Є–њ–њ –Ь–Њ–љ–Љ—Г—В, –њ–Њ—Н—В –Є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –ґ–Є–ї –≤ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ—И—С–ї –Є –љ–∞–љ—П–ї—Б—П –Ї –і–Њ—Д–Є–љ—Г. –Ф–Њ—Д–Є–љ –Њ—З–µ–љ—М —Ж–µ–љ–Є–ї –µ–≥–Њ —В–∞–ї–∞–љ—В—Л. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М вАФ –љ–µ —И–њ–Є–Њ–љ –ї–Є —В—Л, —Б—Н—А –§–Є–ї–Є–њ–њ –Ь–Њ–љ–Љ—Г—В? –Э–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї—Б—П. –Я–Њ—Н—В –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Н—В вАФ –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ... –Р –љ—Г –µ–≥–Њ!¬†
–Ф–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –∞–ґ–Є–Њ—В–∞–ґ —В–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ –і–Њ—Д–Є–љ–∞. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Ј–∞–ї –®–Є–љ–Њ–љ–∞ —Б–Є—П–ї –Њ–≥–љ—П–Љ–Є —В—Л—Б—П—З —Б–≤–µ—З–µ–є –Є —Д–∞–Ї–µ–ї–Њ–≤, –Ц–∞–љ–љ—Г –≤ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ —З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —О–љ–Њ—И—Г-—А—Л—Ж–∞—А—П, –Є —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –Є–≥—А–Є–≤–Њ —В–Њ–ї–Ї–∞–ї–Є –Ї –љ–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Г—О –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —В—П–ґ—С–ї–Њ–Љ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–Њ–Љ –љ–∞—А—П–і–µ –Є —Б –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–є —В–Њ–љ–µ–љ—М–Ї–Њ–є –ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–љ–Њ–є —Б–µ—В–Њ—З–Ї–Њ–є –љ–∞ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л—Е —В—С–Љ–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞—Е, —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —Е–Є—В—А–Њ—Г–Љ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–Є–љ—П –Ш–Њ–ї–∞–љ—В–∞ –Р–љ–ґ—Г–є—Б–Ї–∞—П, –і–Њ—З—М ¬Ђ–Љ–∞—А–Ї–Є–Ј–∞ –і—М—П–≤–Њ–ї–Њ–≤¬ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ—С –Њ—В—Ж–∞, –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–ґ–Є ¬Ђ–Я—А–Є–Њ—А–∞—В –°–Є–Њ–љ–∞¬ї. –Т–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –±—Л–ї–∞ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–∞—П.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –і–Њ—З—М —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –†–µ–љ—М–µ –Р–љ–ґ—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –і–µ –У–Є–Ј–∞ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г) –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –≤ –Э–∞–љ—Б–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А—Л—Ж–∞—А—П –Ц–∞–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї–∞ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –µ–є –Ї–Њ–љ—П –Є 4 —Д—А–∞–љ–Ї–∞ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж—Г –Є–Ј –Э–µ—Д—И–∞—В–µ–ї—П¬ї. –Х–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ю–љ —Б —Б–µ–Љ—М—С–є –і–∞–≤–љ–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞–ї—Б—П –Є –ґ–Є–ї —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є.
–Ш–Њ–ї–∞–љ—В–∞ вАФ –≥–µ—А–Њ–Є–љ—П —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –Є —Б–Ї–∞–Ј–Њ–Ї. –Ъ–∞–Ї –≤ –љ–Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ –µ—С –Њ—В–µ—Ж, –ї—Г—З—И–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М вАФ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ–≤–∞—А–љ—Л–є –Є —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–і—Г–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ –Ф—М—П–≤–Њ–ї! –Х—Б—В—М –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ ¬Ђ–Я—А–Є–Њ—А–∞—В –°–Є–Њ–љ–∞¬ї –±—Л–ї –Љ–Є—Б—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є 20-–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –Є –µ–≥–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ–Њ–і–Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –і–µ–љ—М–ґ–∞—В –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е —В–∞–є–љ–∞—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і—Л–Љ–∞ –±–µ–Ј –Њ–≥–љ—П –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В, –∞ –Я—С—В—А –Ш–ї—М–Є—З –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–µ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є –Є–Ј–≤–ї—С–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –≥–µ—А–Њ–Є–љ—О –Њ–њ–µ—А—Л ¬Ђ–Ш–Њ–ї–∞–љ—В–∞¬ї. –Х—Б—В—М –і—А–∞–Љ–∞ –У–µ–љ—А–Є—Е–∞ –У–µ—А—Ж–∞ –Ї–∞–Ї –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –∞ –µ—Б—В—М –Є –±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ–± –Ш–Њ–ї–∞–љ—В–µ, –Њ–± –µ—С –Њ—В—Ж–µ –Є –µ—С –і–µ—В—П—Е. –Ш –≥—А–∞—Д –§–µ—А—А–Є –і–µ –Т–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –µ—Б—В—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е —Б—О–ґ–µ—В–∞—Е. –Э–Њ —Н—В–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ —В–Њ—В –Т–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–≥–Є–± –њ—А–Є –Р–Ј–µ–љ–Ї—Г—А–µ, –∞ –µ–≥–Њ –≤–љ—Г–Ї, —Б—Л–љ –≥—А–∞—Д–∞ –Р–љ—В—Г–∞–љ–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є. –Ю—З–µ–љ—М —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –±—Л–ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ.¬†
–Х—Б–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ: —А–µ—З—М –Є–і—С—В –Њ –Ґ—А–µ—В—М–µ–Љ —Д—А–∞–љ—Ж–Є—Б–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—А–і–µ–љ–µ –Є –Ю—А–і–µ–љ–µ —Б–≤—П—В–Њ–є –Ъ–ї–µ—А (–њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –Њ–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї—Б—П ¬Ђ–Ю—А–і–µ–љ –±–µ–і–љ—Л—Е –і–∞–Љ¬ї), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –і–≤–µ –і–∞–Љ—Л –Є–Ј —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –і–µ –С—Г—А–ї–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤ вАФ –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –§–Њ–≤—А–µ–≤–Є–ї—М –Є –Р–≥–љ–µ—Б—Б–∞ –і–µ –Ц—Г–∞–љ–≤–Є–ї—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–Є –Є –Є—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж—Л —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–µ–Ї–∞–ї–Є –Ц–∞–љ–љ—Г —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –µ—С —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є—В–Њ–Љ –µ—Б–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–Њ–Љ–Є–љ–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є–Є (–Є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є—Е –Љ—П—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ), —В–Њ —Д—А–∞–љ—Ж–Є—Б–Ї–∞–љ—Ж—Л –Є ¬Ђ–±–µ–і–љ—Л–µ –і–∞–Љ—Л¬ї –Є–Љ–µ–ї–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–ЊћБ–ї—М—И–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –≤ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–Є–≥–Ј–∞–≥–Є 15 –≤–µ–Ї–∞ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Є–Љ–Є –і–≤—Г–Љ—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є.
–Ю –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–ґ–µ –Љ—Л, —Б –≤–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–Њ–ї—З–Є–Љ, —Е–Њ—В—П –Њ –љ–µ–є —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ. –Х—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Њ—А–і–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≥—А–Њ—Б—Б–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–≤, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —З–Є—Б–ї–Є—В—Б—П —Б–∞–Љ–∞—П —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–∞—П –±—А—О–љ–µ—В–Ї–∞ –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ –і–Њ—Д–Є–љ–∞ вАФ –Њ–љ–∞! –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х
–§–Њ—В–Њ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є: –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –Ї–Є—Б—В–Є –Ю–≥—О—Б—В–∞ –Ъ—Г–і–µ—А–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–љ–≥–Є –і—О –®–∞—В–µ–ї—М —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –Ъ–∞—А–ї–∞¬ї
![]() вАЛ
вАЛ