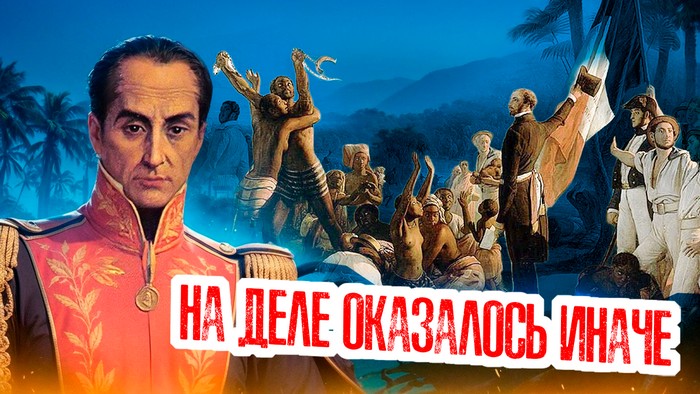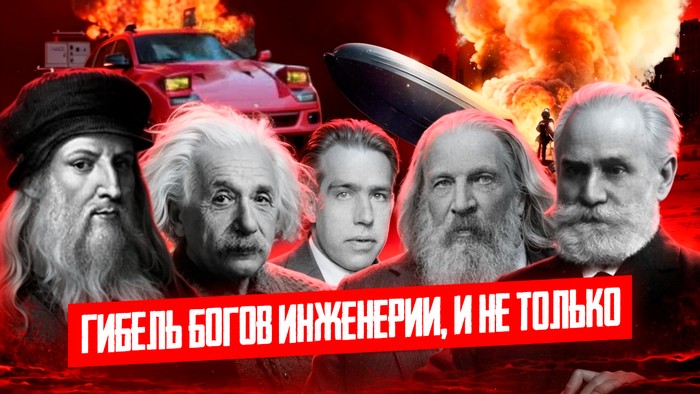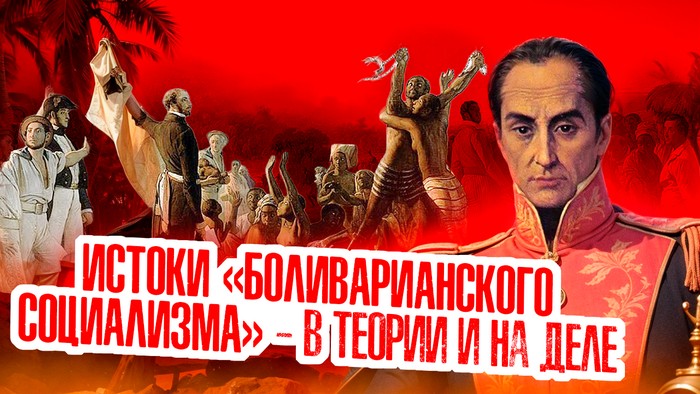–Я–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—О–Ј –Є –µ–≥–Њ ¬Ђ—Б–њ–Њ–љ—Б–Њ—А—Л¬ї
–Я–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—О–Ј –Є –µ–≥–Њ ¬Ђ—Б–њ–Њ–љ—Б–Њ—А—Л¬ї

–Т–Њ—В —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї –≤ 1923 –≥–Њ–і—Г –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В –†–Є—Е–∞—А–і –Ъ—Г–і–µ–љ—Е–Њ–≤–µ-–Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В ¬Ђ–Я–∞–љ-–Х–≤—А–Њ–њ–∞¬ї (—В–Њ –µ—Б—В—М вАФ ¬Ђ–Т—Б–µ-–Х–≤—А–Њ–њ–∞¬ї, –µ–і–Є–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞) —Б –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ –Ї –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –Љ–Є—А–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –µ–і–Є–љ–Њ–є –љ–∞–і–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ –µ–і–Є–љ—Л–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –Њ–±—Й–Є–Љ —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ—Г—Б—В—М –Є –љ–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—П—О—Й–µ–≥–Њ –і–Њ –њ–Њ—А—Л –і–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤...
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б—А–∞–Ј—Г вАФ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Є–Ј –њ–Њ—Б—В—Г–ї–∞—В–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Х–≤—А–Њ—Б–Њ—О–Ј–∞. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М ¬Ђ–Ю–і—Г —А–∞–і–Њ—Б—В–Є¬ї –С–µ—В—Е–Њ–≤–µ–љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Є–Љ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Я–∞–љ-–Х–≤—А–Њ–њ—Л¬ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О вАФ –і–∞, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Є —Д–ї–∞–≥ –Х–° —Б–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г —В–Њ–ґ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–Љ –Ї—А–µ—Б—В–∞. –Ф–∞–ґ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Х–≤—А–Њ—Б–Њ—О–Ј–∞ –ґ–Є–≤–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞—Д–∞:
¬Ђ–Т–µ—А—И–Є–љ–Њ–є –≤—Б–µ—Е –њ–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є —П–≤–Є—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –°–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –®—В–∞—В–Њ–≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –°–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –®—В–∞—В–Њ–≤ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є. <...> –Я–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –і–≤—Г–Љ—П –њ–∞–ї–∞—В–∞–Љ–Є: –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є. –Э–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –Є–Ј —В—А–µ—Е—Б–Њ—В –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤, –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П вАФ –Є–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —И–µ—Б—В–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤¬ї.
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П ¬Ђ–Э–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞¬ї –љ—Л–љ–µ –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Х–≤—А–Њ–њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞, –∞ ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П¬ї вАФ –Х–≤—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ ¬Ђ–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е¬ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Ј–∞—Б–µ–і–∞—О—В –ї–Є–і–µ—А—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ —Б –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –≤–µ—В–Њ –љ–∞ –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –Є—Е —А–µ—И–µ–љ–Є—П вАФ –љ–Њ –Њ–±—Й–Є–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –њ–Њ—Б—В—Г–ї–∞—В–Њ–≤ —Б—В–Њ–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–∞–ї–Є—З–љ–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Е–Њ–ґ. –†–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ вАФ —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –µ–і–Є–љ–Њ–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Э–Р–Ґ–Ю вАФ —Н—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ. –С–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б—П ¬Ђ–Љ–Њ—Й—М¬ї —П–Ї–Њ–±—Л –≤—Б–µ—Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–Њ–Ї–∞ вАФ —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, ¬Ђ–љ–Њ–ї—М –±–µ–Ј –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–Є¬ї.
–Х—Б—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –Љ–µ–љ–µ–µ –∞—Д–Є—И–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–њ–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ—Б—В–Є¬ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л —В–µ–Њ—А–Є–Є –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В–µ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–ї–Њ–±–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –Њ–±—К—П–≤–ї—П—О—В –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤—Л—Е, —Д–∞—И–Є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –∞–њ–Њ–ї–Њ–≥–µ—В–Њ–≤ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–µ–ї–Њ–є —А–∞—Б—Л¬ї. –•–Њ—В—П —З—В–Њ —В–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і—Г–Љ—Л–≤–∞—В—М вАФ –µ—Б–ї–Є –≥—А–∞—Д –Ъ—Г–і–µ–љ—Е–Њ–≤–µ-–Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–љ–Є–≥ –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–µ вАФ ¬Ђ–Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ¬ї. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –∞–љ–≥–ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–Љ —Б–∞–є—В–µ, –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–Љ —А–µ—Б—Г—А—Б–µ:
¬Ђ–Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В –Њ—В–Љ–µ–љ—Г –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є—О –љ–∞—Ж–Є–є —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є –Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є. –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ —Н–ї–Є—В—Л, –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М –ї—О–і–µ–є –≤ –µ–і–Є–љ—Г—О –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О —Б–Љ–µ—Б—М —З–µ—А–љ—Л—Е, –±–µ–ї—Л—Е –Є –∞–Ј–Є–∞—В–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї—В–Њ —Н—В–∞ —Н–ї–Є—В–∞? –Ю—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—О —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Ъ–∞–ї–ї–µ—А–≥–Є —Г–і–µ–ї—П–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ:
вАЬ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞—Б—Л. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—Л –Є –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –±—Г–і—Г—В –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞—В—М –Є–Ј-–Ј–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –њ—А–µ–і—Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Х–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ-–љ–µ–≥—А–Њ–Є–і–љ–∞—П —А–∞—Б–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞—П –≤–љ–µ—И–љ–µ –љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –µ–≥–Є–њ—В—П–љ, –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–Њ–≤. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ, –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї–Є —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –≤–Ј—А–∞—Б—В–Є—В —Н—В–Њ—В –љ–∞—А–Њ–і, –≤–µ–і—П –Є—Е —З–µ—А–µ–Ј —Н—В–Њ—В –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ї –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ—Г —Б—В–∞—В—Г—Б—Г –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –љ–∞—Ж–Є–Є. –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –ї—О–і–Є, –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –≥–µ—В—В–Њ, —В—О—А–µ–Љ, вАФ —Б—В–∞–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—В—М—О –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞ –љ–Њ–≤—Г—О –њ–Њ—А–Њ–і—Г –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є. –≠—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –§–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–∞—П –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П –±—Л–ї–∞ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –µ–≤—А–µ–µ–≤ [–≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–µ–є]вАЭ¬ї.
–Э–µ–њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є, –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О ¬Ђ–µ–і–Є–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г¬ї, вАФ –≥–і–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є (–њ—Г—Б—В—М –Њ–љ–∞ –Є –≤—Л—И–ї–∞ –Є–Ј –Х–°, вАФ –љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ) –Љ—Н—А—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є –Є–Ј –Я–∞–Ї–Є—Б—В–∞–љ–∞, –њ–∞–Ї–Є—Б—В–∞–љ–Ї–∞ –ґ–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ—В –Ь–Т–Ф —Б—В—А–∞–љ—Л, вАФ –љ—Г, –∞ –Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Б–∞–Љ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥—А–∞—Д –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Є —Б–∞–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, ¬Ђ–љ–∞—З–∞–ї —Б —Б–µ–±—П¬ї, вАФ –Є–Љ–µ—П —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Г—О, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–Љ–µ–ґ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О. –Х–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А—М—О –±—Л–ї–∞ –і–Њ—З—М –±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ—Ж–∞ –Ь–∞—Ж—Г –Ю–є—П–Љ–∞ (–љ–µ –њ—Г—В–∞—В—М —Б –Ь–∞—Ж—Г—В–∞—Ж—Г –Ю–є—П–Љ–Њ–є вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–ґ–µ—Б—В–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П¬ї –≤ –Ї–∞—А–∞—В—Н: ¬Ђ–Ї–Є–Њ–Ї—Г—И–Є–љ–Ї–∞–є¬ї, вАФ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ —Г–≤–∞–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Б–µ–±—П –Ї–∞—А–∞—В–Є—Б—В–∞ –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ю–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї), вАФ –≤—Л—И–µ–і—И–∞—П –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –Њ—В—Ж–∞ –†–Є—Е–∞—А–і–∞, –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–∞ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є. –У–і–µ –±—Г–і—Г—Й–Є–є ¬Ђ–њ–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–µ—Ж¬ї, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 16 –љ–Њ—П–±—А—П 1894 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ, вАФ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Є–Љ—П –≠–є–і–Ј–Є—А–Њ –Ю–є—П–Љ–∞.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –±–µ–Ј —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–ї–Є ¬Ђ–≥–Њ–ї—Г–±–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М¬ї –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–∞ –±—Л–ї–∞ –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–є. –Т –µ–≥–Њ —А–Њ–і—Г –±—Л–ї–Є –Є –≤—Л—Е–Њ–і—Ж—Л –Є–Ј —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є, –Є –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ—Ж–ї–µ—А–∞, –≥–ї–∞–≤—Л –Ь–Ш–Ф –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 40 –ї–µ—В, —А–∞—Д–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Є–Ї–∞¬ї –Ъ–∞—А–ї–∞ –Э–µ—Б—Б–µ–ї—М—А–Њ–і–µ (–ґ–µ–љ–Њ–є –µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞-–љ–µ–Љ—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–љ–∞—П –µ–≤—А–µ–є–Ї–∞), вАФ –љ—Г –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї¬ї, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –ї–Є—З–љ—Л–Љ –≤—Л–±–Њ—А–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, вАФ –∞ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–Њ–і—Г—Б–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤, —Е–Љ, ¬Ђ–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –µ–і–Є–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї?¬†
*** 
–Ґ–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ –і–µ—В–∞–ї—П–Љ–Є –Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–µ–є –µ–≤—А–Њ–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В вАФ –Є –Ї—В–Њ –±—Л–ї –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –±–µ–љ–µ—Д–Є—Ж–Є–∞—А–∞–Љ–Є. –Я—А–∞–≤–Њ, —Б–≤–Њ–і–Є—В—М –≤—Б–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї ¬Ђ–≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–Є–і—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–∞—А—Г –†–Є—Е–∞—А–і–∞ –Ъ—Г–і–µ–љ—Е–Њ–≤–µ-–Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є¬ї –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–∞—В—П–ґ–Ї–Њ–є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї—Г —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–µ –і–µ–ї–∞ –љ–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В—Б—П вАФ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є –Є –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –Є, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, вАФ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –±–µ–Ј —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е —Б–њ–Њ–љ—Б–Њ—А–Њ–≤ вАФ –Њ–љ–Є –ґ–µ –±–µ–љ–µ—Д–Є—Ж–Є–∞—А—Л –ї—О–±–Њ–є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–є –Є–і–µ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Г—В–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є.¬†
–Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –≤ 20-–µ –≥–Њ–і—Л 20-–≥–Њ –ґ–µ –≤–µ–Ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П (–µ–µ –µ—Й–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є¬ї) –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –і–ї—П –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ь–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–µ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–µ—Г—А—П–і–Є—Ж—Л –і–∞–ґ–µ –≤ —Б—В–∞–љ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ–±–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є (–Є —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –Є —В–Њ–≥–і–∞) –і–ї—П –Ч–∞–њ–∞–і–∞ –ї–Њ–Ј—Г–љ–≥ ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞¬ї. –Я—А–Њ—Б—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–Є—А, –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, –≤—Б–µ –µ—Й–µ –±–∞–ї–∞–љ—Б–Є—А—Г–µ—В –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –љ–µ–є –≤—Л–Є–≥—А–∞—В—М, вАФ –∞ —Б—В–Њ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–љ–Њ–≤–∞¬ї —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –і–≤–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П, –µ—Б–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М –Њ—В –љ–Њ—П–±—А—П 1918, –Ъ–Њ–Љ–њ—М–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є—П, вАФ –і–Њ 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1939-–≥–ЊвА¶
–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б—А–µ–і–Є —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤, —Б–њ–Њ–ї–љ–∞ —Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є—Е –ї–Є—И–µ–љ–Є–є, –і–∞–ґ–µ —Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–Є—А—Г –±—Л–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ. –° –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ. –Ы–Є–і–µ—А—Л —Б—В—А–∞–љ-–њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–≥–Њ–ї—Г–±—П–Љ–Є –Љ–Є—А–∞¬ї (–њ—Г—Б—В—М ¬Ђ–У–Њ–ї—Г–±–Ї–∞¬ї –Я–∞–±–ї–Њ –Я–Є–Ї–∞—Б—Б–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –Є –љ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞), вАФ –љ–Њ –Є—Е –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–∞—Ж–Є—Д–Є–Ј–Љ –Є–Љ–µ–ї –Є —З–Є—Б—В–Њ —Ж–Є–љ–Є—З–љ—Л–є –њ–Њ–і—В–µ–Ї—Б—В вАФ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–±–µ–і—Г, –ї–Є—И–Є–≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —А–µ–≤–∞–љ—И–∞. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–µ–є –Љ–Њ—В–Є–≤ –±—Л–ї –∞–Ї—В—Г–∞–ї–µ–љ –і–ї—П –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –і—А—Г–ґ–Є—В—М —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є ¬Ђ–њ–∞–ї–Њ—З–Ї–Њ–є-–≤—Л—А—Г—З–∞–ї–Њ—З–Ї–Њ–є¬ї –Њ—В ¬Ђ—В–µ–≤—В–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј—Л¬ї, –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є, вАФ –љ—Г, –Р–љ–≥–ї–Є—П –і–ї—П –љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ–Љ, –Є –ї–Є—И—М –≤–Њ –≤—В–Њ—А—Г—О вАФ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–Љ.¬†
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–≤–∞–љ—И–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ґ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є вАФ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –ґ–µ –Т–µ—А—Б–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –±—Л–ї –і–ї—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р–љ—В–∞–љ—В—Л –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–њ–Њ—Е–∞–±–љ—Л–Љ¬ї, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ы–µ–љ–Є–љ. –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, –љ–Њ –Є –њ—А–∞–≤–∞ –Є–Љ–µ—В—М –Љ–Њ—Й–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О, –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є—О –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ ¬Ђ–њ—А–∞–≤ –љ–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї ¬Ђ—А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є¬ї –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ, —Г –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –і–≤—Г—Е —В—А–µ—В–µ–є –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М. –Ю—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Є–Љ–њ–µ—А–Є—О –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–ї–Є, –љ–Њ –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ґ—Г—А—Ж–Є—О —Е–Њ—В–µ–ї–Є —А–∞—Б—З–ї–µ–љ–Є—В—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞—В–Њ–≤¬ї, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –∞–љ–љ–µ–Ї—Б–Є–є, —Й–µ–і—А–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–љ—Л—Е –Р–љ—В–∞–љ—В–Њ–є –У—А–µ—Ж–Є–Є –Є –Р—А–Љ–µ–љ–Є–ЄвА¶¬†
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–Ї–ї–∞–і–µ —В–µ–Ј–Є—Б ¬Ђ–Љ—Л –≤–∞—Б –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є, –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –і–∞–≤–∞–є—В–µ –ґ–Є—В—М –Љ–Є—А–љ–Њ –Є –і—А—Г–ґ–љ–Њ¬ї –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ, —Е–Љ, –Ї–∞–Ї –±—Л —Н—В–Њ –њ–Њ–Љ—П–≥—З–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П, ¬Ђ–і–≤—Г–ї–Є—З–љ–Њ¬ї. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б—В–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Њ–љ –љ–∞—И–µ–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ф–∞–ґ–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ, вАФ —Б—А–µ–і–Є –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤, —З—М—О –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Є –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є–Љ–њ–µ—А–Є–є –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, ¬Ђ—А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ—З–∞—Б—В–Є¬ї. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є вАФ —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ–Њ–Љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–µ –Є –≥—А–∞—Д–µ, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ –њ—А–∞–≤—П—Й–Є—Е (—В–Њ—З–љ–µ–µ вАФ —Н–Ї—Б-–њ—А–∞–≤—П—Й–Є—Е) –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є. –Э–Њ –≤–µ–і—М –У–∞–±—Б–±—Г—А–≥–Є –≤ –ї–Є—Ж–µ —Б—Л–љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–∞ –Ю—В—В–Њ, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –Њ—В—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ (–Р–≤—Б—В—А–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї–∞ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є), —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Є–і–µ—О ¬Ђ–Я–∞–љ-–Х–≤—А–Њ–њ—Л¬ї! –Я—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞¬ї –Ъ–∞–ї–ї–µ—А–≥–Є —О–љ—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж –±—Л–ї –µ—Й–µ –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–Љ, вАФ –љ–Њ ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ–ї—П –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–≤–Є—В–∞¬ї –Є –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ–љ—Г вАФ —В–Њ–ґ–µ.¬†
–°—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–є (—Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–є) –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Є–≥—А—Л, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є вАФ –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –і–Њ–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ —А–µ–≤–∞–љ—И–∞ –њ–Њ –µ–µ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ. –Т–Ј–∞–Љ–µ–љ –љ–∞ –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—П –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П—Е. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є вАФ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Ј–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—А–Њ–і–љ–Є–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Г–Ј–∞–Љ–Є –±—А–∞–Ї–Њ–≤, вАФ —З—В–Њ –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ ¬Ђ–і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –±—А–∞—В¬ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Є–ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–∞. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є (–њ—Г—Б—В—М –Є, —Е–Љ, ¬Ђ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є¬ї) –Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ—Г –Ґ—А–µ—В—М–µ–Љ—Г ¬Ђ–і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –і—А—Г–≥¬ї (–Є–±–Њ —Б–µ–≥–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Г–Ј—Г—А–њ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї) –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –±—А–∞—В¬ї —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1854вАФ56 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –У–∞–±—Б–±—Г—А–≥–∞–Љ (–∞ —Н—В–∞ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –Є–Љ–µ–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –Њ—В–≤–µ—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е) вАФ –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Є—Е —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є —Г—З—В—Г—В –Є—Е –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ вАФ –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ—А–Њ–љ—Г.
***
–Э–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–≤–Њ–і–Є—В—М –≤—Б–µ—Е ¬Ђ–Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–љ—В–Њ–≤¬ї ¬Ђ–Я–∞–љ-–Х–≤—А–Њ–њ—Л¬ї –ї–Є—И—М –Ї –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –∞—Г—В—Б–∞–є–і–µ—А–∞–Љ¬ї –±—Г–і–µ—В –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Л–Љ. –•–Њ—В—П –Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є, —П–≤–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—П –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Є –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є –Є–Љ ¬Ђ–Я–∞–љ-–Х–≤—А–Њ–њ–µ¬ї –Ї –љ–µ–Ї–Є–Љ ¬Ђ–∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–∞–Љ –і—Г—Е–∞¬ї. –≠—В–Њ—В —В–µ—А–Љ–Є–љ –∞–≤—В–Њ—А –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ¬ї, –≤—Л—И–µ–і—И–µ–є –≤ 1925 –≥–Њ–і—Г. ¬Ђ–Ю–љ–∞ (¬Ђ–∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—П –і—Г—Е–∞¬ї), –≤–µ—А–љ–∞—П –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Є–Ї–µ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞—П –≤–µ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–Њ–Љ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–Њ–≤—И–µ—Б—В–≤ –Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М –±—Л–ї–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –±–µ–Ј —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –µ–µ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–љ—Л¬ї.
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е вАФ –≤–µ–і—М –Х–≤—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ—В —Г–ґ–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—А–Њ–Ї –њ–Њ–і—А—П–і –і–∞–Љ–∞ —Б–Њ –Ј–≤—Г—З–љ–Њ-–∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Ї–Њ–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є ¬Ђ—Д–Њ–љ –і–µ—А¬ї. –Ю–љ–Њ-—В–Њ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П вАФ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ —А–Њ–і–Њ–≤–Є—В—Л–Љ –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Ї–∞–Љ (–Ї–∞–Ї –Є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є—П –љ–∞ –≤–∞–Ї—Ж–Є–љ–∞—Е –Њ—В –Ї–Њ–≤–Є–і–∞, –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ), вАФ –љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, ¬Ђ–љ–∞ –±–µ–Ј—А—Л–±—М–µ вАФ –Є —А–∞–Ї —А—Л–±–∞¬ї. –Ч–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤ ¬Ђ–µ–і–Є–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ¬ї ¬Ђ–∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤ –і—Г—Е–∞¬ї вАФ –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ –Є —А–∞—Б–њ–Є—И–Є—В–µ—Б—М. –Р —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —Е–Љ, –і—Г—Е–∞ (—В–Њ—З–љ–µ–µ вАФ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–≥–Њ), –Њ —З–µ–Љ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–µ—З—В–∞–ї–Њ—Б—М вАФ —В–∞–Ї —З—В–Њ –ґ —В—Г—В –њ–Њ–і–µ–ї–∞–µ—И—М, –љ–µ –≤–њ–µ—А–≤–Њ–євА¶
–Х—Б–ї–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ, вАФ —В–Њ ¬Ђ—А–∞—Б–Ї—А—Г—В–Є—В—М¬ї —Б–Ї–Њ–ї—М-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В —Б—В–Њ–Є—В –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–∞–ї—Л—Е –і–µ–љ–µ–≥. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–і–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–є, –љ–Њ –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –і–∞–ґ–µ –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –і–∞–ґ–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1917 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 25 —В—Л—Б—П—З —З–ї–µ–љ–Њ–≤. –Ш –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –†–°–Ф–†–Я (–±) —Б—В–∞–ї–∞ –њ–∞—А—В–Є–µ–є –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є вАФ –µ–µ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞–ї–∞ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞—В—М. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–њ–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤¬ї —Б—А–∞–Ј—Г –≤–Ј—П–ї–Њ –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М ¬Ђ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Б—В–∞—А—В¬ї. –Э–∞—З–∞–ї –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї, —Г–ґ–µ –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1926 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Т–µ–љ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б –њ–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤—Г—Е —В—Л—Б—П—З –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ—В 24 –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –∞ –Ъ—Г–і–µ–љ—Е–Њ–≤–µ-–Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ.
–Т—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –≤ 1930 –≥–Њ–і—Г –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ–µ, —В—А–µ—В–Є–є вАФ –≤ 1932 –≥–Њ–і—Г –≤ –С–∞–Ј–µ–ї–µ, —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є вАФ –≤ 1935 –≥–Њ–і—Г –≤ –Т–µ–љ–µ. –° –Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є –ї–Є—З–љ–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞–ї–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–є –њ—А–µ–Љ—М–µ—А, –≥–ї–∞–≤–∞ –Ь–Ш–Ф, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Р—А–Є—Б—В–Є–і –С—А–Є–∞–љ, –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–∞–љ—Ж–ї–µ—А –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. ¬Ђ–Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В¬ї –±—Л–ї —З–∞—Б—В—Л–Љ –≥–Њ—Б—В–µ–Љ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–Њ–≤ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–є ¬Ђ–µ–≤—А–Њ-–Љ–µ–ї–Њ—З–Є¬ї –≤—А–Њ–і–µ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –І–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Ї–Є–Є –Ь–∞—Б–∞—А–Є–Ї–∞, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 20-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Ы–Є–≥–Є –Э–∞—Ж–Є–є вАФ –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–∞-–Ю–Ю–Э¬ї.¬†
***
–Ґ–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ –і—А—Г–≥–Є—Е, –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Є–Љ–µ–љ–∞—Е —В–µ—Е, –Ї—В–Њ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–∞–Ї, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –Є–і–µ–Є –Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Є –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ, –љ–Њ –Є ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Ї–Њ—И–µ–ї—М–Ї–Њ–Љ¬ї. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –Ь–∞–Ї—Б–∞ –Т–∞—А–±—Г—А–≥–∞, вАФ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—Б—В–Њ–Љ¬ї. –Ш–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ вАФ –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, вАФ –±—А–∞—В–∞ –Я–Њ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є (—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ!) —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –≤–Є—Ж–µ-–њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–µ–±–µ–Ј—Л–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л (–§–†–°) –°–®–Р –≤ 1922вАФ1925 –≥–Њ–і–∞—Е, –Є –і–∞–ґ–µ –µ–µ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ 1926вАФ1927 –≥–Њ–і–∞—Е!¬†
–Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Ь–∞–Ї—Б –Т–∞—А–±—Г—А–≥ –±—Л–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–є–Ј–µ—А–∞ –Т–Є–ї—М–≥–µ–ї—М–Љ–∞ –Є –±–∞–љ–Ї–Є—А–Њ–Љ, вАФ –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –µ—Й–µ –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–±–µ–Ј—Л–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ (–њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б —Н–њ–Є—В–µ—В–Њ–Љ ¬Ђ–њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ¬ї) –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А–љ–∞ –Ш–У-–§–∞—А–±–µ–љ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є. –Э–µ—В, –Ї—А–∞—Б–Ї–Є –≤ —Н—В–Њ–є –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —В–Њ–ґ–µ. –Р —В–∞–Ї–ґ–µ вАФ –ї—М–≤–Є–љ—Г—О –і–Њ–ї—О —Б–Є–љ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—Г—З—Г–Ї–∞, –±–µ–љ–Ј–Є–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–µ–є—Е–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤. –Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ вАФ –Є –њ–µ—Б—В–Є—Ж–Є–і –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Ж–Є–∞–љ–Є–і–Њ–≤ ¬Ђ–¶–Є–Ї–ї–Њ–љ –Т¬ї, вАФ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –ї–∞–≥–µ—А—П—Е —Б–Љ–µ—А—В–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Л —Г–Љ–µ—А—В–≤–Є–ї–Є –њ–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—Б—З–µ—В–∞–Љ —Б–≤—Л—И–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е. –Р —Б–Њ—В–љ–Є –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—В–∞–ї–Є –ґ–µ—А—В–≤–∞–Љ–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ –ї—О–і—П—Е вАФ –њ—А–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є —Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є-–њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А–љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–є. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –У–Є—В–ї–µ—А–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —В–∞–Љ–Њ—И–љ–Є—Е ¬Ђ—В–Њ–њ–Њ–≤¬ї –і–∞–ґ–µ —Б–µ–ї–Є –≤ —В—О—А—М–Љ—Г, вАФ –њ—А–∞–≤–і–∞, —Г–≤—Л, –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –±—Г–і—Г—З–Є –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є¬ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–≤–Њ–і–Ї–µ —Г –°–®–Р, –§–†–У. –Ф–∞, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ь–∞–Ї—Б –Т–∞—А–±—Г—А–≥ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Н—В–Є—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—И–∞–љ, вАФ –±—Г–і—Г—З–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ —Г–µ—Е–∞—В—М –Є–Ј –љ–∞—Ж–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–§–∞—В–µ—А–ї—П–љ–і–∞¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —В–∞–Љ ¬Ђ—З–Є—Б—В–Њ–Ї¬ї –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–≤—А–µ–µ–≤. –Э–Њ –≤—Б—П —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–∞–Ј–∞ –Ш–У –§–∞—А–±–µ–љ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–≥–Њ –≤–Ј–љ–Њ—Б —Б –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –њ–Њ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є 60 —В—Л—Б—П—З –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –Љ–∞—А–Њ–Ї —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ —Б–њ–Њ–љ—Б–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –њ–∞–љ—К–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ.¬†
–Э—Г, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ–≤–Њ—Б—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Б–µ–Љ—М–Є¬ї —Б –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –±—А–∞—В—Ж–µ–Љ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–њ–Њ–≤¬ї –§–†–° –°–®–Р ¬†вАФ –Є–і–µ—П–Љ–Є –Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –ї—О–і–Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ–Њ—И–Є–±–∞. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А вАФ –С–µ—А–љ–∞—А–і –С–∞—А—Г—Е, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –і–∞–ґ–µ –њ–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ —Д–Є–≥—Г—А–∞. –Ґ–Њ–ґ–µ ¬Ђ—Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—Б—В¬ї, –Љ–Љ–Љ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, вАФ —Г–Љ—Г–і—А–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ –њ–Њ—Б—В—Л —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —В–Њ–њ-–Љ–µ–љ–µ–і–ґ–µ—А–Њ–≤ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А вАФ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Ь–Є—А–Њ–≤—Г—О, –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤—Б–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞–љ—Л) –њ—А–Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞—Е –°–®–Р, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П –Њ—В –Т—Г–і—А–Њ –Т–Є–ї—М—Б–Њ–љ–∞ –і–Њ –У–∞—А—А–Є –Ґ—А—Г–Љ–µ–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Э–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї—Б—В–∞—В–Є, вАФ —В–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ–Љ–µ–ї–Њ—З–Є¬ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤—П—Й–Є—Е –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–Є—В –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—В –Њ—З–µ–љ—М –Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ. –Ф–∞, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –С–∞—А—Г—Е –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ¬Ђ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –љ–Є—В–Є¬ї –Є –њ—А–Є –≠–є–Ј–µ–љ—Е–∞—Г—Н—А–µ-–Ъ–µ–љ–љ–µ–і–Є-–Ф–ґ–Њ–љ—Б–Њ–љ–µ, вАФ –љ–Њ, –≤–Є–і–љ–Њ, –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г ¬Ђ–і–µ–і—Г—И–Ї–µ¬ї –њ–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—О 80-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ (–≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї 95 вАФ –і–Њ 1965 –≥–Њ–і–∞) –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –Њ—В –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –І—В–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є —В–µ–љ–µ–≤–Њ–є вАФ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–і–Є–њ—Б—В–µ–є—В¬ї, –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї—Л –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—О—В –≤ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ –°–Ь–Ш —Б –Ј–∞–≤–Є–і–љ–Њ–є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О.¬†
–Ф–∞–ґ–µ –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А—Л –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –С–∞—А—Г—Е ¬Ђ–њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї—Б—П¬ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б—Г–њ–µ—А–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ –і—Г—Е–µ ¬Ђ—Н—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ!¬ї, вАФ –Ї–∞—Б–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤ –њ–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –Ј–∞–њ—А–µ—В—Г —П–і–µ—А–љ–Њ–≥ –Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г—О—Й–µ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–∞ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Ь–Р–У–Р–Ґ–≠, вАФ –љ–Њ –≤ —З–∞—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –њ–Њ—Б—П–≥–∞—О—Й–µ–є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –њ—А–µ—А–Њ–≥–∞—В–Є–≤—Л –°–Њ–≤–µ—В–∞ –С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ю–Ю–Э, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–µ—Б—В–Ї–Є—Е —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–є –љ–∞ –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Њ–±—Е–Њ–і —Н—В–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞! –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, —Б–∞–Љ–Є –°–®–Р –Њ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—ПвА¶ –і–∞–ґ–µ –Є –љ–µ –і—Г–Љ–∞–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П! –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј —Б–Њ–±–Є—А–∞—П—Б—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Є—О –љ–∞ ¬Ђ—П–і–µ—А–љ—Г—О –і—Г–±–Є–љ–Ї—Г¬ї. –•–Њ—В—П —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л вАФ –Ї—В–Њ –ґ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ–Э–Р–Ґ–Ю вАФ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Є—А–љ—Л–є, –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–є –±–ї–Њ–Ї¬ї (–Ґ–Ь вАФ –Ш—А–∞–Ї, –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П, –Ы–Є–≤–Є—П –Є –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ –љ–µ –і–∞–і—Г—В —Б–Њ–≤—А–∞—В—М) вАФ —В–∞–Ї —З–µ–≥–Њ –ґ –±—Л —Н—В–Њ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є –і—Г–±–Є–љ–Ї–Є –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Њ–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П? –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–µ ¬Ђ–Ъ–Њ–Ј—Л—А–µ–≤—Л¬ї вАФ –Є —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї—М–љ—Л–є ¬Ђ–њ–ї–∞–љ –С–∞—А—Г—Е–∞¬ї –±—Л–ї –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–≤–µ—В–Њ¬ї –≤ –°–Њ–≤–±–µ–Ј–µ –Ю–Ю–Э, –∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б—В–∞–ї –≤—В–Њ—А–Њ–є —П–і–µ—А–љ–Њ–є —Б—Г–њ–µ—А–і–µ—А–ґ–∞–≤–Њ–є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤ –њ–∞—А–Є—В–µ—В —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–ЉвА¶
***
–Ь–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б вАФ —Б —З–µ–≥–Њ –±—Л —Н—В–Њ —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –љ–Њ –Є –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –ї—О–і–Є —В–∞–Ї –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–і–µ—П–Љ–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Х–≤—А–Њ–њ—Л, вАФ –і–∞ –µ—Й–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ–∞—Ж–Є—Д–Є–Ј–Љ–∞ –≤–Ї—Г–њ–µ —Б –љ–µ–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –°–®–Р, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–Њ–ґ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є. –Я—А–Є—З–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±—П—В –Ј–∞ –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–Љ, ¬Ђ–њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ–∞–ї–Њ–є –Ї—А–Њ–≤—М—О¬ї вАФ —Б –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є (–њ—Г—Б—В—М –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ) —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ–Є, вАФ –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–≥–µ—И–µ—Д—В–Њ–Љ¬ї. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –њ–Њ–±–µ–і—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –і–Њ–ї–≥–∞—Е –Ї–∞–Ї –≤ —И–µ–ї–Ї–∞—Е вАФ –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д—Г–љ—В, –±—Л–≤—И–Є–є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є ¬Ђ–Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–∞–ї—О—В–Њ–є¬ї, –і–µ-—Д–∞–Ї—В–Њ —Г—Б—В—Г–њ–Є–ї —Н—В–Њ –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–Њ–ї–ї–∞—А—Г. –Я—Г—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї вАФ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–∞, –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1941 –≥–Њ–і–∞, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ —В—А–µ–њ–µ—В–∞–ї–Є –Њ—В —Б—В—А–∞—Е–∞ –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –У–Є—В–ї–µ—А–∞ –Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞—В—М—Б—П –µ–і–≤–∞ –љ–µ –љ–∞ –ї—О–±—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —А–∞–і–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ј–∞–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ–Ї—Г–Ј–µ–љ–Њ–≤¬ї.
–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Љ–Є—А–љ–∞—П –Є –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –°–®–Р –Є –Є—Е –±–Є–Ј–љ–µ—Б–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —В–∞–Ї –љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤–љ–µ–і—А–Є–ї—Б—П –≤ ¬Ђ–°—В–∞—А—Л–є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В¬ї, вАФ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—Г–њ–∞—П (–њ–∞—А–і–Њ–љ вАФ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—А—Г—П) –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л–µ, –љ–Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—П—Й–Є–µ—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А—Г—Е–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В–Є–≤—Л. –Т —В–Њ–є –ґ–µ –Т–µ–є–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –і–Њ–ї—П –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ –Є –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ —В—А–µ—В—М! –Э—Г, –∞ –±–Є–Ј–љ–µ—Б вАФ –њ—А–Є –њ—А–Њ—З–Є—Е —А–∞–≤–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, вАФ ¬Ђ–ї—О–±–Є—В —В–Є—И–Є–љ—Г¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –Љ–Є—А.
–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ–Њ–є —Н—В–∞ —Б–∞–Љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞ –і–ї—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞ –ї–Є—И—М –і–ї—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є. –Ф–∞–±—Л –љ–∞ –µ–µ, –ї—О–±–Є–Љ—Г—О, –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–Љ–±—Л –љ–µ –њ–∞–і–∞–ї–Є, вАФ —З—В–Њ, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Є –±—Л–ї–Њ —Б —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ –Є –≤ –Я–µ—А–≤—Г—О, –Є –≤–Њ –Т—В–Њ—А—Г—О –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–є–љ—Л. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1861вАФ65 –≥–Њ–і–Њ–≤ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –≤–µ–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –≤ –≥–Њ–ї–ї–Є–≤—Г–і—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–µ–≤–Є–Ї–∞—Е вАФ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞¬ї –Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –Ј–ї–Њ–і–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—А–і –≤–Ї—Г–њ–µ —Б –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–≤—И–Є–Љ–Є –Є–Љ–Є –Ї—Г–±–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є, вАФ –Є–ї–Є ¬Ђ–Ю—Б–∞–і—Л¬ї, –≥–і–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–ї–Њ–і–µ—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Г–ґ–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –С—А—О—Б–∞ –£–Є–ї–ї–Є—Б–∞.
–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –±—А–Њ—Б–Є—В—М –Х–≤—А–Њ–њ—Г –≤ —В–Њ–њ–Ї—Г –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ вАФ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ–±—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є –∞—А–Љ–Є–Є –њ–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Њ—Б—В—А–Њ –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–∞–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ј–∞–≥–Њ–љ—П—П —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±—П –≤–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Ї–∞–±–∞–ї—Г —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е (–і–∞, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–Њ–ґ–µ) ¬Ђ–С–∞—А—Г—Е–Њ–≤¬ї –Є ¬Ђ–Т–∞—А–±—Г—А–≥–Њ–≤¬ї. –Я—А–Є —З–µ–Љ –ґ–µ –Ј–і–µ—Б—М –њ–ї–∞–љ –Ъ—Г–і–µ–љ—Е–Њ–≤–µ-–Ъ–∞–ї–µ—А–≥–Є, вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л —А–∞—В–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞ ¬Ђ–Љ–Є—А–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ¬ї, —З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –≤–Њ–є–љ–Њ–є? –Ю–± —Н—В–Њ–Љ вАФ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—В–∞—В—М–ЄвА¶ –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х
![]() вАЛ
вАЛ