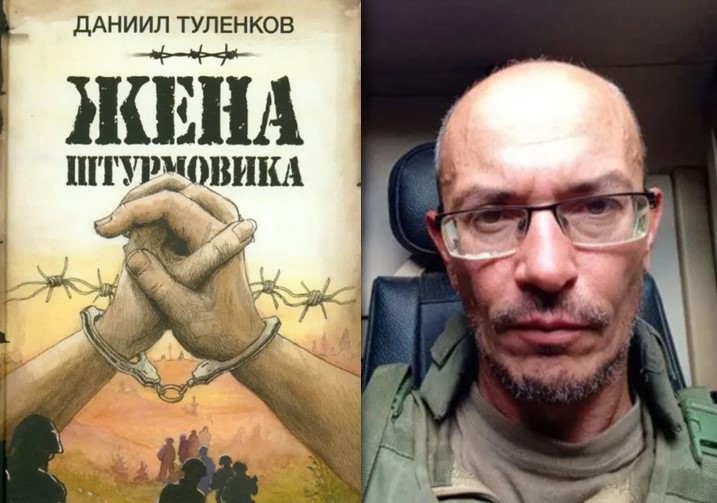Россия после 90-х – феникс
Россия после 90-х – феникс

Я хочу начать, как часто это делаю, с себя.
Являюсь я человеком не от мира сего. Тем странен. И, может, интересен кому-то.
Про себя я думаю, что наловчился чуять художественный смысл произведений искусства, который полагаю существующим идеально, не в «тексте»: в подсознании автора или в подсознании восприемника. «Текст», мол, только тот медиум, который переводит этот художественный смысл из подсознания в подсознание. А я – тот медиум, который – в порядке намёка – умею доводить до сознания уже моего восприемника то, что пришло через «текст» в моё подсознание.
Это муть для многих, но я не гонюсь за успехом. Плохо то, что я не принят научным сообществом. Только в некоторых книгах я вычитываю, что я прав. Но этого, наверно, мало. Оттого меня мучают сомнения, прав ли я, так строго подходя к произведениям, считающимися художественными, а мне зачастую кажущимися нехудожественными.
Мука ещё – художественные-по-моему находить.
Вот пример, как я дошёл до книги «Девять девяностых» (2015) Анны Матвеевой. – Я взял два литературных обзора Немзера (о 90-х) и Д. Быкова (с 1900 по 1950). У Немзера открыл на Вишневецкой. Не смог её читать. Сочинённые персонажи обсуждают с сочинителем такое вот своё, тут же сочиняемое, бытие. Быкова открыл с конца. Там – о «Молодой гвардии». Узнал, что была первая редакция, та, что написана до вмешательства Сталина. Почти документальная, мол. То есть по моим понятиям – не художественная. Стал читать – так и есть: не чувствуется, что подсознание Фадеева здесь где-то при дальнейшем чтении проявится. – Опять открыл Немзера. На Саломатине. «Синдром Кандинского». Не художника, а психиатра. Про наркомана. – Тоже безнадёжно. Недопонятностей и неожиданностей (это для меня – признаки подсознательного идеала) там будет полно (так и оказалось при попытке читать). Но они не те, что именно к идеалу выводят. Чтиво. – Тогда я спросил поисковик: «Призёры Большой Книги». И так набрёл на Матвееву. И решил, что буду, по уже сложившейся практике, как бы стенографировать свои мысли по поводу читаемого. Если вещь не дотянет до моего критерия художественности, так получится хотя бы статья-«фэ» жюри конкурса, как-то (не знаю пока, как) эту вещь отметившему.
Итак…
Самое начало обычно бывает впечатляющим.
***
«Я родился в самом начале восьмидесятых, в Свердловске, в бараке на улице Гурзуфской. Под окном нашей комнаты висел, как полковой барабан, громадный оцинкованный таз. Выбором времени и места рождения судьба сообщила, что в жизни моей не случится не только особенного успеха, но и простого человеческого счастья, которое принято считать его допустимой заменой».
Ничего обещающего. Надо, наверно, сменить тактику – дождаться появления у себя какой-то мысли. Или переживания.
Ну-с, хихикаю я по-глупому регулярно и громко.
«Собачка смотрела на меня и часто, будто для врача, дышала, улыбаясь».
И… как только сентиментальная моя душа наполнила один глаз слезой (сработал хэппи энд неожиданный, данный вопреки написанному уже в первом, процитированном, абзаце) – оказалось, что передо мной отдельные рассказы. И первый, вот, кончился.
Облом.
Частный хэппи энд на фоне сплошной мерзости катастройки и всего кошмара, последовавшего в России.
Рука автора – владыка.
А ведь я не среагировал на недопонятность (подчеркну её):
«Был июль, но я сумел попрощаться со всеми своими школьными знакомыми – даже Белокобыльской предложил писать мне письма, и она милостиво согласилась. Усики ее совсем не портили, она превращалась в симпатичную девушку. Но что мне было до этой девушки? Главное – передать новый адрес Стелле.
Дверь открыла Надежда Васильевна в белом махровом халате. Провела меня в комнату, уселась в кресло. Бледные ноги, которые я предпочел бы не видеть, она, как специально, закинула одну на другую. Вены, разрисовавшие кожу, были похожи на дождевых червей.
– Ты едешь в Англию? – удивилась Надежда Васильевна. – Я бы поняла, если бы туда поехала какая-то девочка.
– А Стелла дома? – спросил я. На мне был совершенно новый костюм из кусачей серой шерсти, был даже галстук, завязанный лично Андреем Сергеевичем [доверенным лицом опекуна-анонима].
– Стелла гостит у приятельницы, – сказала Надежда Васильевна и все-таки укрыла своих червей полой халата. – Могу передать, что ты заходил, но ее это вряд ли заинтересует.
Я так и не решился отдать странной старухе бумажку с адресом. Тем удивительнее было, что Стелла всё же написала мне в Англию и даже прислала свою фотографию – такие портреты в земляных, ретро-коричневых тонах делали в те годы в Доме быта».
Наглый приём детективного чтива.
«…детектив. В нем присутствуют все элементы манипулятивности субъектной организации…
Особая мастерица здесь – Агата Кристи: ее рассказчик описывает субъективную реакцию того или иного персонажа на событие – например, найденный в квартире труп – как удивление, а потом оказывается, что «объективно» это реакция самого убийцы. Например, швея приносит заказ в дом и в полном и неподдельном – то есть нарративно правдоподобном и ничем не опровергнутом в контексте – шоке обнаруживает труп заказчицы. Такова завязка. Развязка же в том, что детектив, добродушная старая дева мисс Марпл, по найденной рядом с трупом булавке для портняжной примерки обнаруживает, что убийцей и была эта швея. Таким образом, Кристи с редким нарративно-авторским цинизмом манипулирует уже нашей, читательской, субъектной реакцией» (Меерсон. Персонализм как поэтика. С.-Пб., 2009. С. 30).
«Я»-повествователь, обитатель барака, и Стелла – сироты. Но бабушка Стеллы, Надежда Васильевна, очень богатая дама (откуда у неё, в Свердловске, богатство в начавшем разрушаться СССР?), взяла Стеллу к себе. Так эти дети одиннадцати лет оказались в одном классе и влюбились друг в друга (что она в него, читателю не известно до нескольких строк перед концом). Девочка потребовала от бабушки тайно стать опекуншей парня и вырвать из дна, и та стала анонимной опекуншей, отправила учиться в Англию, чтоб поднять его до Стеллиного уровня. А когда бабушка умерла, парень был вынужден приехать на похороны (о чём и помыслить не мог, когда застрелили его старшего брата Димку на бандитских разборках). Тут-то тайна опекунства открылась. А на недопонятность «Тем удивительнее» я, при всей своей хвастливой чуткости, не среагировал.
Зато теперь я могу отомстить авторессе: это не та недопонятность, которая указывает на подсознательный идеал её. Она просто находится в слащавом тренде убаюкивать население страны, в которой 19 миллионов живут ниже черты бедности, – убаюкивать, что капитализм – это строй, что надо.
Как Фадеев пересластил Улю (своя же):
«Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде».
Я не зря не среагировал на недопонятность – это не художественное произведение. (Если я не ошибаюсь. Потому что рассказ кончается на кладбище, задушевной песней тёти «я»-повествователя, Иры, согласившейся за деньги на опекунство над племянником. Что она делала на кладбище, если на могиле Димки её, вот, нету? И почему руки Стеллы «были холодные и почему-то колючие, как чертополох, символ Шотландии»? И почему мама английского соученика звала «я»-повествователя русской душой? Да и в название рассказа, «Жемымо» {же мы мо-лоды}, – проакцентированная точка зрения персонажа-пацана – намекает что все его положительные оценки бытия: бандитов, безобразия и т.д. – не истина.)
Ладно. Второй рассказ, может, даст разгадку.
***
«Горный Щит» называется. В каждом предложении слышен голос автора, метящий всё окружающее признаками захолустья. (В него бегут от городской беды из-за катастройки или последовавшего времени.)
«От каждого дома к реке спускался длинный, как трамплин, огород, по периметру окруженный досками».
Опять хакаю от остроумия.
«Один из таких секретов – помнить про Вову. Вова скрывался в середине длинных слов, вроде «предчувстВОВАвшая» или «долженстВОВАть». Нашел Вову – пиши и не беспокойся, что сделаешь ошибку».
Ну есть, есть так называемое искусство слова. Если уж вспомнить и тут про художественный смысл как след подсознательного идеала, то можно и его тут присобачить. Если в отличие от идеалов, изменяющихся от духа времени и смутно требующих, каждый, выражения себя ещё до того, как изменение осознано, – счесть имеющимся всегда, во все времена, один неизменный идеал, одну неизменную ценность – жизни. – Вот её и выражает фонтанирующее на пустом, можно сказать, месте искусство слова.
«…спускался длинный, как трамплин, огород…».
Есть же не только художественное, но и эстетическое, менее заносчивое. Оно и понятнее большинству. Жаль только, что эстетическое ещё и художественным называют. Но вкусно-то как…
«…Палисадник окружен забором – как будто лыжи составлены одна к другой».
А вот и ЧТО-ТО. Татьяна купила малуху (маленький домик). А тот… молчит. (?) – Предвестие какого-то несчастья? Романтическая вещь?... Сказка? Образ красивого внутреннего мира Татьяны при плохом внешнем?
Брр. Прежние хозяева оставили в сенях коробку с… паспортами. (Убитых?)
Читаешь и ждёшь плохого.
Так и есть:
«А потом началось Это».
Всё прозаично. Какой-то хулиган стал портить одно, другое…
Страннейший рассказ.
Интеллигент по-русски это пониматель. Интеллигент этот – подвижница дела учения русскому языку Татьяна. – Вся жизнь кругом наладилась при капитализме с помощью его рациональной этики. И благополучная Англия опять мелькнула. А мальчик Вова, живший в малухе с бабушкой, не смог примириться с тем, что её продали и – гадил Татьяне. Она его застукала и… поняла. И продала малуху. И спустя 15 лет пришла на неё посмотреть, как на память о… об уроке традиционализма, что ли, который ей преподал молчаливый мальчик Вова. «…помнить про Вову». – Русский-то язык хоть не умер…
М-да. В предыдущем рассказе не зря мелькала «русская душа», выходит. А руки расчетливой Стелы «были холодные и почему-то колючие».
При такой тонкости – хочется думать – не исключено, что она, тонкость, – плод невнятности для сознания автора того, чем же это он вдохновлён, такое сочиняя.
Становится веселее… Как в наваждение какое-то попал. И хочется остановиться чтением и как-то крепко подумать, если получится. А нет – просто без мыслей сидеть и… даже и не знаю, что сказать. Нет слов.
Как несчастные от своего больного самолюбия украинцы поют в своём гимне: «Ще нэ вмэрла Украина»…
А ведь в 2014, когда писались «Девять девяностых», был, наоборот, взлёт русского духа…
Наверно девять будет рассказов о злых 90-х годах, раз название «Девять девяностых».
***
Третий рассказ – «Теория заговора».
Злая сатира, что ли? Грустно.
«Так вот, Пал Тиныч [учитель истории] готов был стать первым из тех, кто поднимется со своего места – и бросит вызов порочной системе [школьного образования-оболванивания]».
Грустно потому, что всезнающий повествователь подтрунивает над персонажем, а я так живу (об эстетическом образовании населения я говорю).
Так. Теперь сентиментальный кусок, как этот историк протаскивает в свои дополнительные уроки какие-то шматы культуры. – Сентиментальный я чуть не наполнил свои глаза слезой.
«История, литература, кино, география, музыка – без сокращений и ограничений. Для администрации у Пал Тиныча, если что, была легенда – они готовят сюрприз к Новому году. Как выкручиваться, историк еще не решил».
А по-моему, это непереносимая натяжка – таких универсумов-учителей не может быть, если тот не гений какой-то. Гений заражения переживанием. Тем, что Лев Толстой ошибочно считал искусством. Неприкладным, добавлю я. Ибо относительно прикладного он как раз был совершенно прав. Я боюсь, что и Матвеева их не различает и путает.
Так. Выгнали историка из лицея.
Я даже в растерянности. Передо мной выведен образ заговора по оболваниванию детей капитализмом. Чем выведен? Фигурой некого дон Кихота от культуры.
Жаль, я так и не прочёл «Дон Кихота». Я б, наверно, не посмел заподозрить Сервантеса в нехудожественности. А матвеевский рассказ – подозреваю. В сатире. А та – не художественна, ибо её автор прекрасно знает, против чего ополчается.
***
«Умный мальчик».
Нет слов. От растерянности.
Если б не обязательство стенографировать, что со мной происходит при чтении, я б об этом рассказе промолчал. – Я его не понял. – То, что и бывает с безусловно художественными произведениями.
Ну, может, меня потом когда-нибудь озарит.
Нет, одну непонятность надо обсудить сейчас. – Зачем надо было, чтоб читатель знал, что зачат был умный мальчик «на улице Коминтерна, ныне – Симона Петлюры»?
Я аж полез во всезнающий интернет, узнавать, когда была так улица переименована. – В 2009 году.
Два раза это в рассказе упомянуто. Один раз – перед выпиской из роддома, второй – при выборе имени:
«…на улице Симона Петлюры, бывшая Коминтерна».
Что: корреляция предательницы Украины и украинца, предателя-отца ребёнка с рациональностью как цивилизационным выбором Украины и бездушным большим умом, полученным ребёнком от генов отца?
Такое может быть от подсознания? И как это проверить?
Неужели это голос автора, пишущего в драматическом 2014 году, в голосе персонажа, когда персонажу вспоминается Петлюра?
«Отец мальчика живет в Киеве. «Младенец» по-украински – «немовля». Не говорящий то есть, а не просто маленький. Нине очень нравился украинский язык – красивый, мудрый, ласковый. И Киев ей тоже полюбился сразу – она хоть сейчас могла вызвать под веками любую видовую открытку. Хоть Андреевский спуск, хоть аллею в Ботаническом саду, хоть печального Владимира на горке. И обязательно – квартиру на улице Коминтерна, ныне – Симона Петлюры».
Считаем.
«…за полгода до окончания школы» мальчик ушёл из дома жить… к режиссёру. Бабушка вернула его домой, пообещав «оплатить учебу в Англии – и сразу после выпускных Шур улетел в Лондон». «…ехали из аэропорта домой – водитель, который вез их семнадцать лет назад из роддома». Продолжение «В конце мая». Значит, следующего года. Через 18 лет после рождения. 2014 – 18 = 1996. За 2009 – 1996 = 13 лет до переименования улицы Коминтерна в Симона Петлюры звучит внутренний голос персонажа, Нины, об этой улице. Значит о Петлюре – это голос автора в голосе персонажа.
Как Матвеева могла так оплошать? – От взбудораженности событиями на Украине во время сочинения рассказа в 2013-14-м. От обиды России на Украину за «москаляку на гиляку!».
Могло ли быть неосознаваемым то, под влиянием чего задумывалось произведение о драматическом преимуществе Рацио над русскостью? Ума над душой… Цивилизации над культурой…
Могло.
***
«Такая же».
Тут, похоже, «я»-повествователем будет автор. Но не данных рассказов, а чего-то другого автор («я» – мужчина, а Матвеева – женщина).
«Я ехал… Я всегда четко отслеживаю свои ассоциации – за это, если не вдаваться в подробности, мне и платят».
Так. Есть непонятность. Или я не знаю, что это.
Наш писатель – будем называть его так – собравшись наблюдать в вагоне, успевает сфантазировать:
«Тогда я подумал, что мне тоже надо выйти – пройти мимо одной и дождаться в тамбуре другую.
Я очень хотел увидеть этих женщин.
Конечно, я уже придумал, как они выглядят».
Это ж какие быстрые мысли надо иметь, чтоб, не подождав несколько секунд, начать нам описывать происходящее реально… со своих фантазий…
Какая-то нереальность:
«В. [та из двух наблюдаемых {фактически – слушаемых} женщин, которая должна по её словам скоро умереть; а наш писатель нам пересказывает] – осталась и устроилась работать в двухэтажное здание. Первый этаж занимали кресла и диваны, как в мебельном магазине, а на втором обитал мужчина, который с утра до вечера пил кофе. В соседней комнате сидели В. и еще несколько девушек такого же возраста – у них не было никаких обязанностей, кроме того, чтобы приходить иногда в кабинет к мужчине и курить с ним сигареты».
Дальше – галиматья поменьше, хоть чего там только не было. И всё – впромельк. Плюс не всё было слышно из-за смеха пассажирок-соседок. И… писатель, подумал, что всё это у В. выдумка. А подумал – по совершенно, казалось бы, реальному факту – кушания этою В. яблока, сорванного с яблони, холодного.
Какая-то нарочитая искусственность.
А теперь – номер. Женщина В. сошла, женщина А. позвонила кому-то рассказать про В. И выяснилось, что В. про себя всё наврала.
Но каково, мол, чутьё писателя…
А я ничему не верю. И пока даже и не пробую предполагать, что вся эта дребедень может означать всерьёз.
А ерунда продолжается:
«Я сел за стол – записать то, что случилось сегодня. Хотя знал, что этот день и так останется в памяти».
Но туфта же. Что записывать?
Хм, ну слаб же я…
«Возможно ли, что В. всего лишь не желала стать такой же, как все? Прожить понятную жизнь, которая закончится так же, как у всех?».
И писатель решил найти эту В. и предложить ей:
«– Здравствуйте, хотите яблоко? Вот только оно холодное».
И это предпоследнее предложение рассказа. А последнее – такое:
«Она ответит – и я снова услышу ее голос».
Это можно счесть не баловством? Писательским…
Я опять на мели. Интерпретаторской.
Или это таки ужасно: насколько мы все одинаковые? Массовое общество.
Или это они – ужасные? Западноевропейцы и на них ориентированные наши. (Действие происходит явно в Швейцарии. «…из города Ц. в город Л» – это из Цюриха в Лозанну. «…я выхожу в Б., так что не задерживайся» – между ними действительно Берн.) Для индивидуалистки в самом деле ужасно быть, как в заглавии, такой же. А «я»-повествователь – тоже индивидуалист, тяготящийся своей невыдающестью:
«Я шел по мосту и думал: отпуск скоро окончится. Вернусь в свой город, в пустую квартиру. Начну считать часы до того дня, когда можно будет пойти на работу. Шеф скажет о новой рекламной кампании: «За деньги и я смогу, а вы придумайте, чтобы так». Коллеги продолжат смеяться над тем, как я записываю свои ассоциации. Пиарщики всё так же будут любить каждого, кто придет к ним «на мероприятие». Агенты – переписываться годами и не узнавать друг друга при встрече».
Понятно, что он решил ещё раз услышать голос В., столь оригинальной.
Понятна и ерундовость, на которую я выше всё жаловался. – Не то, чтоб я в своей жизни страдал в своей исключительности. Нет. Я осознаю свою странность и уважаю общепринятость. А вот Матвеева не возвеличила ли русский коллективизм – умолчанием. Неким «фэ» всему заграничному, вместе с русскими, живущими там, некими предателями родины…
Это, кажется, называется минус-приёмом. Раз «фэ» загранице и ни слова о России, значит – ура России.
Однако как меня развернуло… Явная неожиданность, признак следа подсознательного идеала автора.
***
«Девять девяностых».
«Она получила диплом в тот год, когда умерла их страна».
Что за «их»? Кто повествователь? Как что-то далёкое, вспоминаемое итогово, всё рассказывается.
Нет, как-то по-кухонному всё. Буднично.
Не ф-фига себе! Родители отказались от глупого сына, Вани, и уехали в Москву, а соседка-подруга, Лина, вдова бездетная, взяла его себе и счастлива.
Раз – и счастлива. Раз – и отказались.
А потом родители вернулись, сына забрали, и покатилась у Лиины скучная ненужная жизнь. А девять девяностых – это ответ задачки, которую Ваня всё-таки для доброй Лины решил. – Вот. И весь сборник назван названием этого рассказа. И – опять я на мели.
Последняя фраза – о бабушках, торгующих тем, что вырастили:
«…с первым пучком редиса, чтобы продать его втридорога.
И Лина не станет их осуждать… Вырастить что-то живое – пусть даже пучочек редиса! – стоит большого, очень большого труда».
Непритязательность не ментальное ли свойство русского народа? Ну и что, что оно не блестящее. Зато своё. Неотъемлемое.
Потому и выжила Россия в девяностые.
***
«Безумный Макс».
Всё-таки поразительный автор – Матвеева. Так лихо описывать тёмных типов… Она ж точно среди них не жила. (Я проверил по Википедии – угадал.)
Да, что ещё хорошо: совершенно не представляю, что будет на каждой следующей строчке. Несёт… Заинтригован… Пошли какие-то совсем подозрительные подробности обо всём окружающем – сейчас что-то случится. («Безумный Макс» это ещё и название фильма.)
Так. Собственно – странность налицо. За стеной (подозрительно звукопроницаемой) соседнего, ненумерованного (?), номера в отеле – случается… смех «с довольно-таки мерзким подстаныванием в финале».
Ну и что?
Загадка продолжается. Комната без номера – кладовка, сказал администратор. Там никто не живёт.
Наконец… Максим (Макс) Перов ограблен.
Я перечитал и не понял. Он расписался за полученные деньги или нет? – Если нет. То что это за ограбление: принёсшая деньги Майя исчезла, пока Макс блевал в номере отеля, куда они пришли пересчитать деньги. Не понятно и почему нужен пересчёт, если все тут свои. И что это за предложение Майи было пересчитывать деньги на виду? И почему у неё осип голос, когда он предложил пересчитать у него в номере?
Максим упал на кровать от отчаяния. За стеной захохотали. И… явилась Майя с известием, что он будет жить в другом отеле.
Автору вольно потешаться над читателем…
И… в другом отеле, в итоге, тоже смех за стеной.
И тут я уже ничего не пойму. Вряд ли честно вставлять автору между нормальными рассказами белиберду. Неужели продолжение спасёт положение?
Эти авторские ремарки «из ближайшего будущего»…
Вроде бы рассказ с точки зрения то ли сумасшедшего…
Есть в рассказе слово «гелотология»... Оно означает лечение смехом…
То есть осмеяние реалий девяностых годов спустя 20 лет – предложение отнестись к ним как к наваждению?
Ничего себе. Я, наоборот, опасаюсь, как бы народ опять не сдурел и не повторил катастройку со всем последовавшим. Меня, захаживающего в фейсбук к либералам, как-то не хватает на юмор как на способ, чтоб бывшее не повторилось.
Техника манипулирования восприятием читателя у Матвеевой, что надо, как у Агаты Кристи, но это не то, чего я жду от истинно художественной литературы.
***
«Без фокусов».
Читаю и поражаюсь, как безэмоционально, хоть безжалостно трезво описывается жизнь некого дна человеческого.
«Памятник облеплен голубями, как помойный мешок – мухами».
Дно-дно, а я то и дело лажу в интернет осведомляться о незнакомом: «циклодол», «Ник Кейв», «Гарри Гудини».
Мало я написал про читаемое, а вот оно уже кончилось. – Смысл, наверно, такой: дурная бесконечность, как у попа была собака. Только три слова начала и конца одинаковые: «Никто не смог вспомнить».
Странно только, что ненавистной, понимай – хоть и не сказано – заграницы тут впервые нет. Или есть? Этот рок, этот австралийский рок-музыкант Ник Кейв… В пику такому:
«Горелов с Витечкой были профессиональные меломаны. Оба страстно ненавидели бардовскую песню».
***
Дальше идёт вещь под названием «Екатеринбург» со множеством глав и общими действующими лицами. – Стоит остановиться с разбором. – Что мы имеем? Нашёл я искомые следы подсознательного идеала? – Да. Иногда они находились. За это можно простить то, когда их не находилось.
Какой тип идеала обозначается в тех следах? – Трагического героизма.
Книга не зря написана в 2015 году. – После трагического и великого (возвращение Крыма) 2014-го на Россию так напала половина мира так называемыми экономическими санкциями, что премьер-министр сказал, что будь на месте России СССР, он бы не выдержал. Верно это или нет, но Матвеева с этим как бы согласна в свете заявленного мною трагического героизма. В более далёкой перспективе тоже ведь никто, строго, говоря, не знает. А упрямство драться – налицо – в политике. И скрыто, но есть, здесь, в этом сборнике рассказов о страшных девяностых и, понимай, о ещё более страшных иных, если народ опять сойдёт с ума и даст себя снова обмануть. Вот ради того, чтоб девяностые не повторились, и дерётся – скрыто – Анна Матвеева.