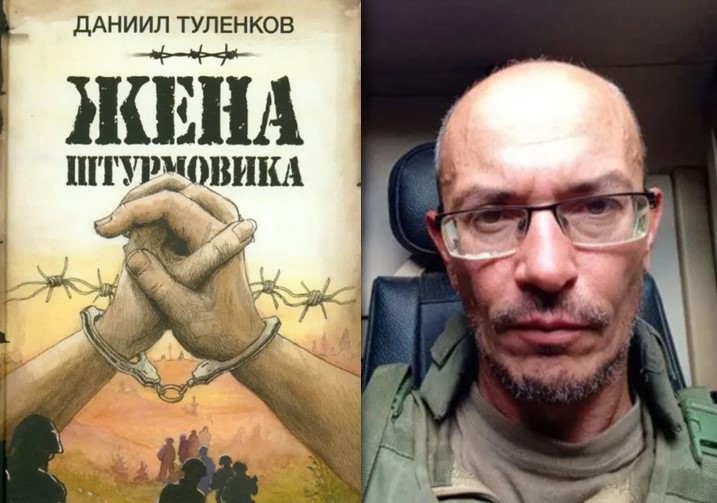Сто лет переходного возраста
Сто лет переходного возраста

Менее чем через десять лет нас ожидает круглая дата — столетие с момента принятия Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (ныне Американская ассоциация кинокомпаний) кодекса Хейса. Этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году, в 1934 году стал неофициальным действующим национальным стандартом США.
Производители фильмов были обязаны соблюдать три основополагающих принципа:
1) Картины, подрывающие нравственные устои зрителей, недопустимы. Следовательно, нельзя изображать преступления, злодеяния, пороки и грехопадения таким образом, чтобы они вызывали симпатию в зрительской аудитории.
2) Следует представлять нравственно правильные модели жизни.
3) Нельзя издеваться над законом, писаным или неписаным. Недопустимо склонять симпатии зрителей на сторону преступников и грешников.
Плюс частные положения:
1) Запрещалось издевательство над религией. Священник на экране не мог быть злодеем или комическим персонажем.
2) Запрещалось изображать употребление наркотиков, а употребление алкоголя могло быть изображено только там, где этого требовал сюжет.
3) Запрещалось раскрывать методы совершения преступлений. Сцены убийства должны были быть сняты так, чтобы не способствовать совершению подобных преступлений в реальной жизни.
4) Запрещался показ обнаженного тела и провокационных танцев. Сцены страсти (то есть просто поцелуи и объятия) допускались только в ключевых сюжетных эпизодах, их длительность и откровенность были ограничены.
5) Брак и семейная жизнь считались высшими ценностями; внебрачные отношения, пусть и уместные по сюжету, должны были быть представлены как недостойное поведение. При этом изображение смешанных браков было под запретом.
6) Запрещались любые, даже косвенные, ссылки на гомосексуальность и венерические заболевания. Показ человеческих родов (даже в виде силуэта) также был под абсолютным запретом.
7) Запрещался широкий спектр нецензурных слов.
8) Не приветствовался принцип «око за око».
Фильмы, снятые с нарушением кодекса, не запрещались, но и не выпускались в прокат кинотеатрами, принадлежавшими членам ассоциации. Однако в 1960-е годы студии отказались от соблюдения запретов устаревшего кодекса, а в 1967 году он был официально упразднен. Как раз когда возник итальянский неореализм и французская «новая волна». Новым направлениям в искусстве тесно стало в рамках благостности, дидактики и моральной догмы. Нигилизму всегда тесно в них.
У советской литературы тоже имелся свой кодекс Хейса — кодекс строителя коммунизма. Нарушавшие его бунтари оказывались вне официальной литературной тусовки и гордились тем, что принадлежат к андеграунду, изображают жизнь такой как она есть, не соблюдают норм и догм, предписанных властью. До поры до времени казалось, что цензура мешает искусству, разрушает творческое начало, преобразуя его в сервильное поведение «Чего изволите?» А потом настали 90-е… И внезапно стало ясно: на самом деле бунтари ничего не могут. Лишившись самой возможности бунтовать, лишившись стержня самоощущения — борьбы с цензурой — они потеряли и ориентиры. Оказывается, их мир был выстроен так же, как у любого революционера — вокруг тирании и диктатуры. Нет тирании с диктатурой — нет и бунтарей.
Вот и получается, что бунтари, выступающие от новой, альтернативной идеологии в целом и от нового, альтернативного искусства в частности, десятилетиями размахивавшие свободой слова перед носом публики, точно червячком-наживкой перед носом рыбины, облажались. И оказался это не червячок, а мормышка. Рыбка клюнет, а есть-то нечего. Поскольку никаких новых ценностей, которые бы предложил новому веку деятель искусства нового века, не воспоследовало. Началась аномия и, как следствие ее, дисфория.
Конечно, такое положение дел ничуть не ново. Еще Оскар Уайльд писал: «...в наше время выбор обстановки и цвета обоев полностью занял место средневекового копания в душе и обычно связан с не меньшими муками совести». И это в золотом веке литературы! Вот и 90-е порадовали нас «муками совести при выборе обоев». Сперва на бедные зрительские головы излилось «слишком много правды» — исследований, скандалов, разоблачений, однако то была своего рода прелюдия. Можно сказать, теплая ванна и освежающий душ. Следом хлынул лахар, грязевой потоп современных мифов. Кто постарше, помнит, как мы пережили этот вал чернухи. Когда молодая бездарь, сменившая старую бездарь, создавала нам со страниц и экранов комплекс неполноценности. Достойная замена доброму старому апотропному мышлению, отвращающему беду и выраженному в избирательной слепоте. К началу нового века мы смирились с тем, что прав именно тот, у кого больше прав. «Своим — всё, чужим — закон».
Вначале страна пережила эффект маятника, откат после пропаганды социалистических ценностей. Каковы же оказались новые ценности? Были ли они демократическими? Гуманистическими? Прогрессивными? Ничего подобного. Феодальными они оказались. Причем отнюдь не времен средневекового Возрождения и тем более не Возрождения, последовавшего за средневековьем. Это оказались ценности военного, разбойничьего, мародерского времени. Конец века, кичившегося своим гуманизмом и полным отказом от рабства, оказался именно таков.
С одной стороны, это явление никак нельзя назвать последствием душа из скандалов и разоблачений, которым нас окатило в 90-е. Все стадии его переживания в виде отрицания, гнева и романтизации нами уже пройдены. Old news, как говорят западные журналисты. С другой стороны, кроме откатов — реакции быстрой, призванной уравновесить чрезмерность открытий и предотвратить крушение образа мира (как же, предотвратишь его) — существуют и долговременные реакции.
Писатели, вместе со всеми искупавшись в водах Леты, то есть чернухи, принялись бойко живописать «подлую факин-жизнь в кризисе среднего возраста». Получалась (и по сей день получается) не изображение социальных язв, которое усердно декларирует автор и обслуживающие его хвалитики, а скорее панический писк: «Я не хочу жить в этом мире, мама. Мама, забери меня отсюда. Хоть кто-нибудь, заберите меня отсюда!»
Разумеется, молодежи, которая это читает, современная литература ничего предложить не в силах. Вместо этого литература идет следом за молодежью, пытаясь подольститься к новой аудитории (которая, надо признать, уже ничего не читает). Эффект от этого следования за вкусами публики и трефовым интересом налицо, его можно видеть в как бы новых как бы литературных жанрах.
Буквально про них писал Гашек: «Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретшнейдеру». Так, вместо того же исторического жанра родилась на свет «фолк-хистори», помесь любовного романа, боевика и хоррора, которым современные деятели искусства пугают молодое поколение и возмущают старое, еще помнящее, как все действительно было. И не по википедии, а по собственной биографии. Вместо реализма сыплются на читателя повести и рассказы, которые стоило бы назвать россказнями и которые, замечу, полны уже не той, прежней детски-диссидентской радости «раскрытия глаз себе и публике» — нет, это вялые, механические попытки авторов напугать, насмешить, а главное, надоить еще толику средств для монетизации своего нынешнего состояния. Состояния пролонгированного детства.
Все признаки незамутненного детского восприятия налицо, вернее, прослеживаются среди маловысокохудожественных приемов: и страшилки, рассказанные в походе у костра, и протестное поведение, свойственное переходному возрасту, и хулиганское желание отомстить училкам-родителям-взрослым вообще, и чистая детская любовь к резне-бойне-кровище, и самозабвенное подростковое нытье. Как верно заметил А.В. Андреев, «писатель ловит тебя на книгу „про нас“, а на самом деле впаривает тебе свои болячки». И только наивный, не вошедший в стадию взросления читатель (или зритель) не заметит, что его, мягко говоря, облапошивают с предлагаемой системой ценностей. С системой ценностей, которой нет.
Да и что может сформировать современный художник слова и кадра в умах современной публики (в основном публики 80-90-х годов рождения), какие ценности? В основном ценности, востребованные нигилистом, поймавшимся на мормышку. А в социопсихологическом плане это не что иное как ценности подростка, идеализм и романтизм переходного возраста, так и не упорядоченные в ходе взросления и не переросшие ни во что, достойное стать ориентиром. Шекспировский персонаж сэр Тоби называл это состояние души «пожилой ребенок».
И ведь не сказать, что писатель намеренно занимается инфантилизацией сознания масс. Порой он начинает писать очередное произведение как эпическое полотно, декларирует свой замысел как эпическое полотно — а потом, излагая что в голову взбредет (а взбредает, как правило, нечто содержащееся в подсознании под порогом памяти — детские обиды, психотравмы, гормональные атаки), выдает тинейджерский сетевой автофикшен на тему «Почему меня, такого прекрасного, никто не любит?» Так и хочется ответить: потому что ты уже не ребенок, ты взрослый, который должен отвечать за свои слова и поступки, а не требовать для себя сочувствия и особых условий.
Ну а то «вечное дитя», что у тебя в душе… Как говорила Красная шапочка, «ты неприятный ребенок». И не стоит надеяться, что публику отлупят плеткой (те же восхвалитики, возмущенные, если верить Е. Вежлян, тем, что «капризный современный читатель разучился понимать: смысл должен быть дан сразу, предоставлен по первому требованию») и она залюбит этого нытика-инфантила (пытающегося в ходе курса принудительного психоанализа ловить читателя на крючок мнимого сходства-единства) как миленькая.
В том-то и проблема современного писателя, а такоже его компаньонов-хвалитиков, что психоанализом занимаются добровольно. Причем оба, и специалист, и пациент. Заставить «пациента» исповедоваться или публику выслушать себя — нельзя. Первые несколько лет (где-то в начале XXI века) исповедальность в искусстве была любопытным явлением. Всё казалось, что за исповедью автора последует некая мысль, или эмоция, или сюжетный ход, или загадка (на которые усердно намекают критики вроде все той же Вежлян), которые для читателя будут новы, а не узнаваемо-скучны. Ан нет, все тот же поток сознания, все те же обращения к, простите за откровенность, к оральной, анальной и фаллической фазе развития — но не далее. Лишь бы не повзрослеть, лишь бы не войти в ту препорцию, где детское познание себя сменяется отвлеченными целями.
Неудивительно, что при такой бесперспективности и безыдейности официального искусства формирование каких-либо общественных ценностей происходит где-то за пределами современного искусства.
Проблема отчуждения идейной жизни от жизни искусства состоит вовсе не в навязывании кодексов и не в цензуре. Как говорила Мария Каллас о президенте Эйзенхауэре: «Ради Бога — пускай поет!» На деле цензуру в литературе (а точнее, в книгоиздате) организовывают сами господа литераторы, стараясь снизить конкуренцию и облегчить борьбу «избранных» (а точнее, назначенных) за изрядно потускневший читательский интерес. И никакой кодекс, повторюсь, им не нужен. Господа писатели и критики давно перешли на самообеспечение, еще немного — и у них получится замкнутый премиальный цикл, не предполагающий компонента вроде читательского интереса.
В качестве финального аккорда приведу мнение специалиста. На фоне неизбывно радостных прогнозов (читать стали больше! покупают книги, покупают, все прекрасно!) совсем не радостно звучит высказывание, втиснутое в последние строки: «...отсутствие социально значимых книг на фоне внешнего оживления литературной жизни, заметных книжных салонов и фестивалей. Издатель подчеркнул, что социально значимых и познавательных книг недостает и они малодоступны. По его словам, таковы сегодняшние реалии издательской практики».
Однако, какой знакомый прием: полная статья оптимизма, а все реалии в конце. Сами видите, старая идеология умерла, зато ее приемы и проблемы живы-живехоньки. Кто не хочет смотреть действительности в лицо, всегда может остановиться на позитивной ноте. И надеяться, что на его век, на следующие сто лет затянувшегося детства хватит всего — и идей, и культуры, и искусства, и публики…
Неизвестно, что именно нынче считается социально значимыми книгами, но в рамках своих представлений о таковых скажу одно: значимых, познавательных книг и в самом деле не хватает, какое бы внешнее оживление ни сопровождало публичные литературные мероприятия. Премиальный процесс — не замена литературному.