¬Ђ–Ъ —З–µ—А—В—Г –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ!¬ї
¬Ђ–Ъ —З–µ—А—В—Г –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ!¬ї
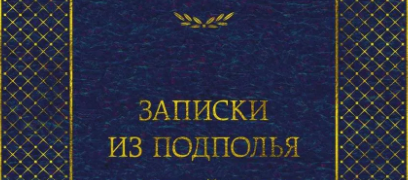
160 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —Б–≤–µ—В ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї –§.–Ь. –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–°–∞–Љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ –њ—П—В—М —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤: ¬Ђ–Я—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ¬ї (1866), ¬Ђ–Ш–і–Є–Њ—В¬ї (1868вАФ1869), ¬Ђ–С–µ—Б—Л¬ї (1870вАФ1872), ¬Ђ–Я–Њ–і—А–Њ—Б—В–Њ–Ї¬ї (1874) –Є ¬Ђ–С—А–∞—В—М—П –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤—Л¬ї (1878вАФ1880). –≠—В–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ ¬Ђ–Я—П—В–Є–Ї–љ–Є–ґ–Є–µ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї. –Э–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —П —В–∞–Ї–ґ–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –±—Л –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ —Б–≤–µ—В –≤ 1864 –≥–Њ–і—Г.
–Ф–∞–љ–љ—Г—О –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В ¬Ђ–њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ¬ї –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —В–≤–Њ—А–Є—В—М –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ, –∞ –Ї–∞–Ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д, —Б—В—А–µ–Љ—П—Й–Є–є—Б—П –љ–∞–є—В–Є –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ ¬Ђ–≤–µ—З–љ—Л–µ¬ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Є–љ—В–µ–Ј –≥–ї—Г–±–Њ—З–∞–є—И–µ–є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –Р —В–µ –Є–і–µ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–µ—В –µ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є (–њ–Њ —Б—Г—В–Є, –њ–Њ—З—В–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є) –≥–µ—А–Њ–є, –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤ —В–Њ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —Б—В–∞–ї–Є –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞—В—М –≥–µ—А–Њ–Є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –≤—Л—И–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Н—В–Њ –Є–і–µ—П–Љ–Є —Н–Ї–Ј–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Ї—В–Њ-—В–Њ вАФ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є¬ї, –Ї—В–Њ-—В–Њ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є –∞–±—Б—Г—А–і–∞¬ї, –Ї—В–Њ-—В–Њ вАФ ¬Ђ–њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ¬ї –Є —В.–і.¬†
–Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ф–ґ–µ–є–Љ—Б –°–Ї–∞–љ–ї–∞–љ, ¬Ђ–і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–є —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є¬ї. (–°–Ї–∞–љ–ї–∞–љ –Ф. –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Ї –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—М. –Я–µ—А. —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф. –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Њ–є –Є –Э. –Ъ–Є—А–µ–µ–≤–Њ–є. вАФ –°–Я–±.: –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В, 2006). –Т 1948 –≥–Њ–і—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Є–µ—А–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ч–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–µ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є¬ї –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ф–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є (—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є?) –Љ—Л—Б–ї–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є –і–∞–ї —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—С —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ¬ї. –Ш –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є¬ї –њ–µ—А–Є–Њ–і —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї.¬†
–Я–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–µ–і—С—В—Б—П –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ (–Ї —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞—Е, –њ–Њ–≤–µ—Б—В—П—Е –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—Е –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ; —Н—В–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –і–ї—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ). –°—О–ґ–µ—В–∞–Љ–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –љ–µ –±–Њ–≥–∞—В–∞. ¬†–Ю–љ–∞ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. ¬†–Я–Њ–≤–µ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –і–≤—Г—Е —З–∞—Б—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П ¬Ђ–Я–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ¬ї (11 –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≥–ї–∞–≤–Њ–Ї) –Є ¬Ђ–Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Љ–Њ–Ї—А–Њ–≥–Њ —Б–љ–µ–≥–∞¬ї (10 –≥–ї–∞–≤–Њ–Ї).¬†
¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е ¬Ђ–љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї¬ї –≥–µ—А–Њ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–ї–µ—З–µ–љ—Л –≤ —З–µ–Ї–∞–љ–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –і–∞–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ вАФ —З—В–Њ –≥–µ—А–Њ–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ, –Ї–∞–Ї —Г–≤–Њ–ї–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, —Г–є–і—П –≤ ¬Ђ–њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ¬ї.¬†
–Ф–∞–ї–µ–µ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –≥–µ—А–Њ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є вАФ –Њ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –±–µ–Ј –і—А—Г–Ј–µ–є, –Њ —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ—Б—В—Л—З–Ї–µ¬ї (–≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–є —В–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Љ) —Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –Є –і–≤–∞ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–µ—А–Њ–є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ (–љ–Њ —А–Є—Б–Ї–љ—Г–ї –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Б—Г–љ—Г—В—М—Б—П). ¬†
–Я–µ—А–≤—Л–є вАФ –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б –і–∞–≤–љ–Є–Љ–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є¬ї –љ–∞ –Њ–±–µ–і–µ; –≥–µ—А–Њ–є –Њ–±–Є–і–µ–ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±–µ–і–∞, —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї–Є–ї—Б—П, –Є –і–∞–ґ–µ —А–µ—И–Є–ї –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞ –і—Г—Н–ї—М. –Т—В–Њ—А–Њ–є вАФ —Н—В–Њ, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, ¬Ђ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ¬ї –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –Ы–Є–Ј–Њ–є, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—Г—В–Ї–Њ–є –Є–Ј –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. ¬†
¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Њ–±–Њ–±—Й–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П. –Ю–љ–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ–±—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П. –Р –≥–µ—А–Њ–є –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –Љ—Л—Б–ї–Є (—З—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е¬ї, –љ–µ –ї–Є—И–µ–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М—Б—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В). –Я–Њ –Љ–µ—А–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П –Ї –њ–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—О –Є—Б—В–Є–љ—Л, –љ–Њ, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –∞–±—Б—Г—А–і –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —В—А–∞–Ї—В–∞—В–Њ–Љ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –∞–±—Б—Г—А–і–∞¬ї.¬†
–Я–Њ–≤–µ—Б—В—М –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–∞ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ. ¬†–Ґ–∞–Ї, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤-–©–µ–і—А–Є–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–µ –Љ–µ–ї–Њ—З–Є¬ї –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї¬ї –њ–Є—Б–∞–ї —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П—П –Њ ¬Ђ–і—А—П–љ–Є¬ї –Є ¬Ђ–і—А—П–љ–љ—Л—Е –ї—О–і—П—Е¬ї, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї. –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї –Є –њ–Њ—Н—В –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Њ—В–љ—С—Б—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –Њ–і–Њ–±—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—О, –њ–Є—Б–∞–≤ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г: ¬Ђ–Ґ—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–Њ–і–µ –Є –њ–Є—И–Є¬ї. –Я—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –°—В—А–∞—Е–Њ–≤ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ –Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –≥–µ—А–Њ—П, –њ–Є—Б–∞–≤, —З—В–Њ:¬†
¬ЂвА¶–∞–≤—В–Њ—А —Б–∞–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П–ЉвА¶ –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В. –Э–Њ –Њ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –њ—А–µ–і–µ–ї –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–ї–µ–љ–Є—П –Є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Љ–∞ –Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї.¬†
–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Э–∞–±–Њ–Ї–Њ–≤–∞. –Э–Њ —Б—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ–љ –Њ—Б–Њ–±–Њ –≤—Л–і–µ–ї–∞–ї ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–≤:¬†
¬Ђ–≠—В—Г –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б—З–µ—Б—В—М –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П —Б —П–≤–љ—Л–Љ–Є –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞–Љ–Є –Љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ь–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –љ–µ–є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—В–Є–ї—П. –Ч–і–µ—Б—М —П—А—З–∞–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —В–µ–Љ—Л –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –µ–≥–Њ —Б—В–µ—А–µ–Њ—В–Є–њ—Л –Є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–Є. –≠—В–Њ –Ї–≤–Є–љ—В—Н—Б—Б–µ–љ—Ж–Є—П –і–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Й–Є–љ—Л¬ї.¬†
–Э–Њ —Б –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ –Є –і–∞–ґ–µ —Б –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М —В–µ, –Ї—В–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є. ¬†–Э–∞ ¬†¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є—Е –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Н—В –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –≤–µ—Е–Њ–≤—Ж—Л –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л вАФ –Э. –Р. –С–µ—А–і—П–µ–≤, –°. –Э. –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤, –Т. –Т. –†–Њ–Ј–∞–љ–Њ–≤, –Т. –°. –°–Њ–ї–Њ–≤—М—С–≤, –У. –Т. –§–ї–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –°. –Ы. –§—А–∞–љ–Ї, –Ы–µ–≤ –®–µ—Б—В–Њ–≤. ¬†–Ч–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —Н—В–Њ –§—А–Є–і—А–Є—Е –Э–Є—Ж—И–µ. ¬†–І—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞ —А—П–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –Р–ї—М–±–µ—А–∞ –Ъ–∞–Љ—О. ¬†–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Н—Б—Б–µ ¬Ђ–Ь–Є—Д –Њ –°–Є–Ј–Є—Д–µ¬ї (1942) –Ъ–∞–Љ—О —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В –Њ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Є –∞–±—Б—Г—А–і–љ–Њ—Б—В–Є. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –†–µ–љ–µ –Ц–Є—А–∞—А–і –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П: –§–µ–і–Њ—А –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є¬ї (1963).¬†
–ѓ —Г–ґ–µ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—О –Њ —В–Њ–Љ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ґ—Г—В —П –±—Л –Њ—Б–Њ–±–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї —А–Њ–Љ–∞–љ—Л ¬Ђ–Я—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ¬ї –§—А–∞–љ—Ж–∞ –Ъ–∞—Д–Ї–Є (1915 –≥.), ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї-–љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Ї–∞¬ї –†–∞–ї—М—Д–∞ –≠–ї–ї–Є—Б–Њ–љ–∞ (1952 –≥.), ¬Ђ–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ—Б–Є—Е–Њ–њ–∞—В¬ї –С—А–µ—В–∞ –Ш—Б—В–Њ–љ–∞ –≠–ї–ї–Є—Б–∞ (1991 –≥.), ¬Ђ451 –≥—А–∞–і—Г—Б –њ–Њ –§–∞—А–µ–љ–≥–µ–є—В—Г¬ї –†—Н—П –С—А—Н–і–±–µ—А–Є (1953).¬†
–Я–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї —Б–љ—П—В–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤. –Ы–Є–±–Њ –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—О, –ї–Є–±–Њ –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Є–ї—М–Љ—Л: ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –У—Н—А–Є –£–Њ–ї–Ї–Њ—Г —Б –У–µ–љ—А–Є –І–µ—А–љ–Є –Є –®–µ—А–Є–ї –Ы–Є –≤ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —А–Њ–ї—П—Е (1995, –°–®–Р); ¬Ђ–Я–Њ–і–њ–Њ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—Б–∞ –°–∞—А–Ї–Є—Б–∞ (–Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ–∞, 1981); ¬Ђ–Ф–µ–љ—М –Є –љ–Њ—З—М¬ї —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –Ц–∞–љ–∞-–С–µ—А–љ–∞—А–∞ –Ь–µ–љ—Г (–§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є—П, 1986); ¬Ђ–Ь–µ—Б—В—М¬ї —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –Ф—М—С—А–і—П –§–µ—Е–µ—А–∞ (–Т–µ–љ–≥—А–Є—П, 1977) –Є —В.–і. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Є–ї—М–Љ—Л: ¬Ђ–Ґ–∞–Ї—Б–Є—Б—В¬ї –Ь–∞—А—В–Є–љ–∞ –°–Ї–Њ—А—Б–µ–Ј–µ (1976 –≥.); ¬Ђ–Ф–ґ–Њ–Ї–µ—А¬ї –Ґ–Њ–і–і–∞ –§–Є–ї–ї–Є–њ—Б–∞ (2019); ¬Ђ–Т–љ—Г—В—А–Є¬ї —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –Ч–µ–Ї–Є –Ф–µ–Љ–Є—А–Ї—Г–±—Г–Ј–∞ (2012 –≥.) –Є –і—А. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ ¬†–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Д–Є–ї—М–Љ–µ ¬Ђ451 –≥—А–∞–і—Г—Б –њ–Њ –§–∞—А–µ–љ–≥–µ–є—В—Г¬ї (2018) –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є —Г–Ї—А–∞–і–Ї–Њ–є —З–Є—В–∞–µ—В –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї.
–†–∞–Ј–љ—Л–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е ¬Ђ–Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П—Е¬ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї¬ї. –•–Њ—В—П, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, —Г –≤—Б–µ—Е —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–∞ –Є —В–∞ –ґ–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–∞ –∞–±—Б—Г—А–і–љ–Њ—Б—В–Є, –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є, –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П. –Р –Љ—А–∞—З–љ–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–µ—В –Є–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е —В–Њ—З–µ–Ї —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –У–µ—А–Њ–є –≤–µ—А–Є—В –≤ –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г, —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ, –љ–∞—Г–Ї—Г. –Ш –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Г–Ї–Є —Б –µ–µ ¬Ђ–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є¬ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –Т–Њ—В —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї—П –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П –љ–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г: ¬†
¬ЂвА¶—Б–∞–Љ–∞ –љ–∞—Г–Ї–∞ –љ–∞—Г—З–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ (—Е–Њ—В—М —Н—В–Њ —Г–ґ –Є —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г), —З—В–Њ –љ–Є –≤–Њ–ї–Є, –љ–Є –Ї–∞–њ—А–Є–Ј–∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ-—В–Њ –і–µ–ї–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–µ—В, –і–∞ –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –∞ —З—В–Њ –Њ–љ —Б–∞–Љ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ, –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–ї–∞–≤–Є—И–Є –Є–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —И—В–Є—Д—В–Є–Ї–∞; –Є —З—В–Њ —Б–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ вАФ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –µ—Б—В—М –µ—Й–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л; —В–∞–Ї —З—В–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є –і–µ–ї–∞–µ—В, –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ–Њ –µ–≥–Њ —Е–Њ—В–µ–љ—М—О, –∞ —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ—О, –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –°–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Н—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л —Б—В–Њ–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М, –Є —Г–ґ –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Є –ґ–Є—В—М –µ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ. –Т—Б–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ—О, –±—Г–і—Г—В —А–∞—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –≤—А–Њ–і–µ —В–∞–±–ї–Є—Ж—Л –ї–Њ–≥–∞—А–Є—Д–Љ–Њ–≤, –і–Њ 100 000-–є –і–Њ–ї–Є –Є –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А—М; –Є–ї–Є, –µ—Й–µ –ї—Г—З—И–µ, –њ–Њ—П–≤—П—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–ї–∞–≥–Њ–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –≤—А–Њ–і–µ —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–Є—Е —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Б–µ –±—Г–і–µ—В —В–∞–Ї —В–Њ—З–љ–Њ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Њ –Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –љ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤, –љ–Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є¬ї.
–Я–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤¬ї –Є ¬Ђ–њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є¬ї, –љ–Њ –љ–µ—В –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞. –Р —А–∞–Ј —В–∞–Ї, —В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ –Љ–∞—И–Є–љ–∞ (–≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, вАФ –±–Є–Њ—А–Њ–±–Њ—В). –Р —Г –Љ–∞—И–Є–љ—Л –љ–µ—В –њ–Њ–љ—П—В–Є–є –і–Њ–±—А–∞ –Є –Ј–ї–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ—В –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ—А–∞–ї–Є. –Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї –†–µ–љ–µ –Ф–µ–Ї–∞—А—В (1596вАФ1650) –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —В–µ–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –µ—Б—В—М –µ—Й–µ –і—Г—И–∞. –Э–Њ —Г–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –≤ –њ—А–∞–≤–µ –Є–Љ–µ—В—М –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Г—О –Њ—В —В–µ–ї–∞ –і—Г—И—Г. –Ґ–∞–Ї —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –≤—А–∞—З –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Ц—О–ї—М–µ–љ –Ю—Д—Д—А–µ –і–µ –Ы–∞–Љ–µ—В—А–Є (1709вАФ1751), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –Є–і–µ–Є –≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—Е ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї-–Љ–∞—И–Є–љ–∞¬ї –Є ¬Ђ–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –і—Г—И–Є¬ї.¬†
–У–µ—А–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Є—Б—Б–Њ–љ–∞–љ—Б–∞. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –µ–≥–Њ —Б –Љ–ї–∞–і—Л—Е –љ–Њ–≥—В–µ–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –і—Г—Е–µ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –≤ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –ї—О–±—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –і–≤–∞–ґ–і—Л –і–≤–∞ –±—Г–і–µ—В —З–µ—В—Л—А–µ. ¬†–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ —Б —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞ ¬Ђ–і–≤–∞–ґ–і—Л –і–≤–∞ —З–µ—В—Л—А–µ¬ї –µ—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Т–µ—А–Є—В—М –≤ –≥—А—П–і—Г—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ вАФ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Њ–њ–Є—Б—М –≤—Б–µ—Е "—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е" –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤ –Є –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –≤—Л—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –≤—Б–µ "—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ" —Е–Њ—В–µ–љ–Є—П, —В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є —Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П. –Т–Њ–ї—П —Б–Њ–ї—М–µ—В—Б—П —Б —А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–Њ–Љ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—Б—П –≤ ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ–љ—Л–є —И—В–Є—Д—В–Є–Ї¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Г—О –Ї–ї–∞–≤–Є—И—Г¬ї. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Н—В–Њ–є –Љ–µ—З—В–µ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М—Б—П, –Є–±–Њ —А–∞—Б—Б—Г–і–Њ–Ї –љ–µ –≤—Б–µ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б—В—М. ¬† –Х—Й–µ –µ—Б—В—М —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Є –≤–Њ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –љ–µ –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л. ¬†–Э–∞—И –≥–µ—А–Њ–є –±—Г–љ—В—Г–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–µ—В –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–Є—А—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ¬ї, –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П —Ж–µ–ї—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ вАФ –Њ—В—Б—В–Њ—П—В—М —Б–≤–Њ—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М, —В. –µ. —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Г—О –≤–Њ–ї—О.
¬Ђ–Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞¬ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –≤ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї—Г —Б —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –£–і–∞—А—Л –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ ¬† —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ "–І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М?" ¬† –Я–Њ–і–њ–Њ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –≤ –±–µ—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –љ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ. –Т —А–Њ–Љ–∞–љ–µ "–І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М?" –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ы–Њ–њ—Г—Е–Њ–≤–∞ –Њ –≤—Л–≥–Њ–і–µ –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є.¬†
¬Ђ–Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ—Б—М –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є, вАФ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В –≥–µ—А–Њ–є –І–µ—А–љ—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ы–Њ–њ—Г—Е–Њ–≤, вАФ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В –≤–∞—И–∞ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞, –љ–Њ –і–∞—В—М –≤–∞–Љ –і—А—Г–≥—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –Є –≤—Л —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б—В–∞–љ–µ—В–µ –±–µ–Ј–≤—А–µ–і–љ—Л, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–µ–Ј —А–∞—Б—З–µ—В–∞ –≤—Л –љ–µ —Е–Њ—В–Є—В–µ –і–µ–ї–∞—В—М –Ј–ї–∞, –∞ –µ—Б–ї–Є –≤–∞–Љ –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–µ–ї–∞—В—М —З—В–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, вАФ –і–∞–ґ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —З–µ—Б—В–љ–Њ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї –±—Г–і–µ—В –љ—Г–ґ–љ–Њ... –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ј–ї—Л–µ —Г–≤–Є–і—П—В, —З—В–Њ –Є–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л—В—М –Ј–ї—Л–Љ–Є; –Є –Ј–ї—Л–µ —Б—В–∞–љ—Г—В –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є; –≤–µ–і—М –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–ї—Л–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Є–Љ –≤—А–µ–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—В—М –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є".
–Я–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Г–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ–∞, —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є ¬Ђ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–≥–Њ–Є–Ј–Љ–∞¬ї, –њ–Њ—И–ї–Њ–є –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–Є–Є –≤—Л–≥–Њ–і –Є –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї, –љ–∞–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Ј–ї–∞, —А–µ–±—П—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Љ–∞ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–ї–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П –±—Г—А–љ–Њ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Г–µ—В: ¬†
¬Ђ–Ю, —Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ, –Ї—А–Є—З–Є—В –Њ–љ, –Ї—В–Њ —Н—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–±—К—П–≤–Є–ї, –Ї—В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—Б–Є–ї, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –њ–∞–Ї–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, –∞ —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М, –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –µ–Љ—Г –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ, –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л, —В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –±—Л –і–µ–ї–∞—В—М –њ–∞–Ї–Њ—Б—В–Є; —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ —Б—В–∞–ї –±—Л –і–Њ–±—А—Л–Љ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–∞–ї –±—Л –≤ –і–Њ–±—А–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Б–≤–Њ—О –≤—Л–≥–Њ–і—Г, –∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–Є –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л–≥–Њ–і, —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞–ї –±—Л –і–µ–ї–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ? –Ю, –Љ–ї–∞–і–µ–љ–µ—Ж! –Ю, —З–Є—Б—В–Њ–µ –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ–µ –і–Є—В—П!¬ї
–У–µ—А–Њ–є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ —А–∞–і–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В.–µ. —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, –Њ–љ –≥–Њ—В–Њ–≤ –љ–∞ –ї—О–±—Л–µ, —Б–∞–Љ—Л–µ –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–µ–ї –±—Л –±—Л—В—М —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є ¬Ђ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–Љ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –Ф–µ–Ї–∞—А—В–∞. –Ш —В–∞–Ї–Њ–≤ –ї—О–±–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є, –ґ–Є–≤–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї:¬†
¬Ђ–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–≤–Њ–Є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—З—В—Л, —Б–≤–Њ—О –њ–Њ—И–ї–µ–є—И—Г—О –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–µ—В –Њ–љ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–± —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є—В—М, —З—В–Њ –ї—О–і–Є –≤—Б–µ –µ—Й–µ –ї—О–і–Є, –∞ –љ–µ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–ї–∞–≤–Є—И–Є¬ї.¬†
–Ґ–∞–Ї–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Г–і–µ—В –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е –Є –њ—А–Њ—Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Б–Њ—В–љ–Є –ї–µ—В –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В —В–≤–Њ—А–Є—В—М —Е–∞–Њ—Б –Є —А–∞–Ј—А—Г—Е—Г. –Ф–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –µ–Љ—Г –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–Њ–Ї–∞–ґ—Г—В, —З—В–Њ –Њ–љ –Ї–ї–∞–≤–Є—И–∞, –Њ–љ –Є —В—Г—В –љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–Љ–Є—В—Б—П, ¬Ђ–≤—Л–і—Г–Љ–∞–µ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Є —Е–∞–Њ—Б, –≤—Л–і—Г–Љ–∞–µ—В —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞—Б—В–Њ–Є—В-—В–∞–Ї–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ! –Я—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ –њ—Г—Б—В–Є—В –њ–Њ —Б–≤–µ—В—Г... –Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Њ–і–љ–Є–Љ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ–Љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ–µ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, —В. –µ. –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –љ–µ —Д–Њ—А—В–µ–њ–Є–∞–љ–љ–∞—П –Ї–ї–∞–≤–Є—И–∞!¬ї –Р –µ—Б–ї–Є —Е–∞–Њ—Б –Є —А–∞–Ј—А—Г—Е–∞ –±—Г–і—Г—В —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ—Л –≤–њ–µ—А–µ–і, вАФ ¬Ђ—В–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б–ї—Г—З–∞–є —Б–і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ–± –љ–µ вАЬ–Љ–µ—В—М —А–∞—Б—Б—Г–і–Ї–∞вАЭ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ!¬ї
–Я–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–є. –Ш –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Л—Б–ї—П—Е, –Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Е–Њ—В–µ–љ–Є—П—Е, –Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞—Е –Њ–љ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В —Б–≤–Њ—О —А–∞–Ј–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є–ї–Є –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ. ¬†–°–љ–∞—З–∞–ї–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ—В –Ї–∞–Ї –і–Њ–≥–Љ—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б –љ–µ–Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Н—В—Г –і–Њ–≥–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–µ—В. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –У–µ–≥–µ–ї—П —Б –µ–≥–Њ ¬Ђ—В–µ–Ј–Є—Б–Њ–Љ¬ї –Є ¬Ђ–∞–љ—В–Є—В–µ–Ј–Є—Б–Њ–Љ¬ї. –Э–Њ —Г –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –≤—Б–µ –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—Б–Є–љ—В–µ–Ј–Њ–Љ¬ї, –∞ —Г –≥–µ—А–Њ—П –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞¬ї –љ–µ—В –Є –≤ –њ–Њ–Љ–Є–љ–µ.¬†
–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ь–Њ—З—Г–ї—М—Б–Ї–Є–є (1992вАФ1948) –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ц–Є–Ј–љ—М –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –њ–Є—И–µ—В –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–≤–Њ–µ–љ–Є—П –≥–µ—А–Њ—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є:¬†
¬Ђ–Т—Б–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –Љ–Є—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—Л —Г –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–∞–Ј–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Х–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –ї—О–±—П—В, –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і—П, –Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і—П—В, –ї—О–±—П; —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є –µ–≥–Њ вАФ —Ж–Є–љ–Є—З–љ—Л, –∞ —Ж–Є–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї–љ—Л –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш–і–µ—О –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞–≤—В–Њ—А –≤–љ—Г—И–∞–µ—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Є–µ–Љ–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є "–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї"¬ї.
–ѓ—А—З–∞–є—И–Є–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ—А–Њ—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—О –Є –Њ—З–µ–љ—М –Є–Љ –і–Њ—А–Њ–ґ–Є—В. ¬†–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ —В—П–≥–Њ—В–Є—В—Б—П –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ–Љ –Є –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–Є—В –µ–≥–Њ. –Ш –≤–Њ—В, —А–∞–Ј–і–Є—А–∞–µ–Љ—Л–є —Н—В–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ–Љ, –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–µ—В:¬†
¬Ђ–Т–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ –ї—Г—З—И–µ, –∞ —З—В–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –ґ–∞–ґ–і—Г, –љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –љ–∞–є–і—Г! –Ъ —З–µ—А—В—Г –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ!¬ї
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–∞ –Є–Ј –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є —И–Є–Ј–Њ—Д—А–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–і–≤–Њ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї. –§–µ–і–Њ—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –Ї –њ–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—О –Ш—Б—В–Є–љ—Л. –£ –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ, –Є –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П –Њ–љ –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї –°–≤–µ—В—Г. –Я–Њ–Є—Б–Ї –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ, –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–Њ–± –Є –Њ—И–Є–±–Њ–Ї. –Ш –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ —В—Г –њ—А—П–Љ—Г—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–µ–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї –Ш—Б—В–Є–љ–µ. –≠—В–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —Б—В–∞–ї–Њ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ, –∞ –Ш—Б—В–Є–љ–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –≤–µ–ї–∞, —Б—В–∞–ї –•—А–Є—Б—В–Њ—Б. –С–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е:
- –Ы–µ–≤ –®–µ—Б—В–Њ–≤. ¬Ђ–Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ-–Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї, 1922 ¬†
- –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ь–Њ—З—Г–ї—М—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ц–Є–Ј–љ—М –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї, 1947¬†
- –С–Њ—А–Є—Б –С—Г–і–∞–љ–Њ–≤. ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї, 2018
–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Љ–µ—З—Г, —З—В–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—П¬ї –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї—Б—П –љ–∞–і –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —В–µ–Љ, –љ–∞–і —З–µ–Љ –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї—Б—П.¬†



