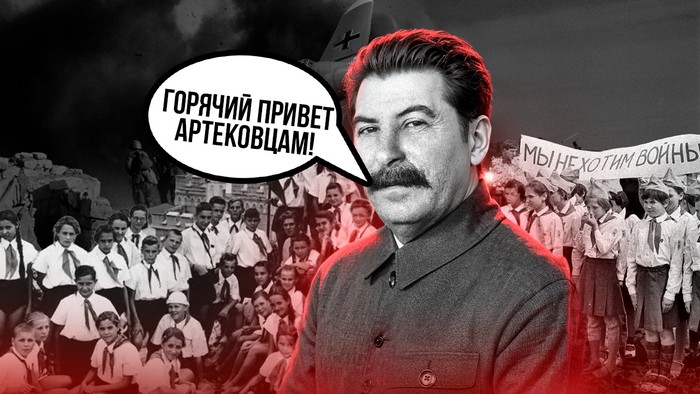Финская оккупация: апартеид и гетто
Финская оккупация: апартеид и гетто

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ
В прошлых материалах речь шла о том, какую «прекрасную и свободную европейскую жизнь» устроили финские «цивилизаторы» для советских граждан оккупированной части Карело-Финской ССР.
Но всё же это было еще не самое «дно», достигнутое этими нацистскими извергами в отношении мирного населения.
Которое все-таки пользовалось хотя бы крохами относительной свободы (насколько, конечно, это вообще возможно в условиях оккупации), — живя в своих домах, со своими семьями, работая хоть и по принуждению, — но все-таки какое-то определенное рабочее время. Финским подельникам гитлеровцев приходилось с этим мириться — ведь иначе наладить минимально сносную работу экономики на оккупированных территориях было немыслимо. Особенно с учётом того, что как минимум финское руководство было в этом смысле больше прагматиками, чем фанатиками, — а потому предпочло оставить почти без изменений коллективную форму организации труда в карело-финских совхозах и колхозах, артелях и промышленных предприятиях. Естественно, с учётом того, что получаемую оттуда сельскохозяйственную и промышленную продукцию оккупанты практически всецело вывозили в свой «Фатерлянд», — пардон, «Финлянд»-ию.
Ну, а как не изгалялись (и продолжают изгаляться на этот счёт) либералы всех мастей, именуя советскую экономику сталинской эпохи «рабством» — то ли «колхозным», то ли «фабричным» — рабство на подобном уровне технологий уже не работает. Что убедительно показала ещё древняя история, — когда относительно высокий уровень сельхозтехники в Римской империи так и оказался невостребованным подавляющим большинством рабовладельческих латифундий. Ибо доверять рабам: «говорящей скотине», по тогдашней терминологии, — сколь-нибудь сложные сеялки, жатки и прочие продвинутые (даже по меркам века так 19-го) орудия, пусть и на конной тяге, было бессмысленно — рабы эти «крутые гаджеты» просто ломали. Понадобились века феодализма, развитие капитализма с его наемными работниками, лично заинтересованными в результатах своего труда, — чтобы давние изобретения обрели новую жизнь.
Так и финские оккупанты — им, чтобы совсем не «запороть» производство важных для их «великой европейской державы» ресурсов, приходилось, «наступая на горло собственной русофобской песне», сохранять для работников наиболее важных предприятий и проектов минимально рыночные условия организации труда. Пусть и больше похожие на эпоху «дикого» (чтобы не сказать — «дичайшего») капитализма образца Англии века этак 16-го — с его мануфактурами и рабочим днём продолжительностью до 15-16 часов. Да еще и с явными примесями «крепостного права» — принуждением к труду.
***
Но финские фашисты не были бы фашистами — если б не попытались внести свои расистские «ноу-хау» даже в отношении сферы, в оптимальном функционировании которой они вроде бы должны были быть кровно заинтересованными. А первейшим таким «ноу-хау», конечно же, было позиционирование себя «высшей расой» — с сопутствующим объявлением представителей других национальностей расами «низшими», пусть и в разной степени. С прямо вытекающей отсюда дискриминацией последних — пусть и в разной степени. В общем, все то, что в 20-м веке стали называть коротким и ёмким словом — апартеид. Можно заметить, что последний в практике подельников Маннергейма приобрел просто-таки фантастическое сходство с наиболее известным вариантом этого печального явления образца Южно-Африканской республики до реформ президента де Клерка конца 80-х. Там, как известно, тоже все наличные граждане делились на три основных категории — белых, цветных и черных — с соответственно убывающим сверху вниз правами. Очень показательный отрывок из уже не раз цитированной книги советских военных журналистов М. Долгополова и А. Кафмана «Финские зверства»:
«Проводя паспортизацию, финны ввели два вида паспортов: в розовой обложке с дактилоскопическим оттиском большого пальца руки — для русских, в жёлтой обложке — для карелов. Русских рассматривали как преступников. Для русских рабочих был установлен более продолжительный рабочий день. Они получали по 5 марок в час. Карелам и вепсам платили по 12 и 15 марок, а финнам по 25 и 30 марок в час. Именно такую систему, по словам электромонтёра Николая Твердова, они ввели на Петрозаводской электростанции. Хлеба карелы получали на 100 граммов больше русских. Иногда карелы получали по карточкам мясо. Русские мяса не получали никогда. В Петрозаводске финские оккупанты ввели три категории продуктовых и промтоварных карточек: финские, карельские и русские. Русские, кроме муки и тухлой колбасы, ничего не получали, причём ежемесячная норма муки была для них на килограмм меньше, чем для карел».
То есть согласно финскому варианту апартеида в качестве «белых» рассматривались, конечно же, сами финны. Ниже стояли вроде бы «родственные» (но очень уж «дальние», судя по разнице в жалованье) карелы и вепсы, — а «низ пирамиды» предназначался, конечно же, для «русских недочеловеков». К слову сказать, попытки «вбить клин» между русскими с одной стороны — и карелами и вепсами с другой, — особым успехом не увенчались. Во всяком случае, когда еще до заключения перемирия в начале сентября 1944 года финское воинство начало «драпать» в свой «Фатерлянд-Финлянд», приглашая присоединиться к этому «драпу» своих якобы «родственников» из этих северных народностей, — подавляющее большинство предпочло уйти в леса, отсидевшись там до прихода Красной Армии. После чего с куда большей охотой принялось вступать в ее ряды, — чтобы принять, наконец, участие в добивании фашистов всех видов и национальностей…
***
Но если кто думает, что дискриминация русских ограничивалась только размером зарплат, цветом паспорта и величиной продуктового пайка — он глубоко ошибается. Ибо коренное различие между русскими и не-русскими жителями Карелии заключалось и ещё минимум в одной, крайне важной сфере — медицинского обслуживания. Снова даём слово одному из респондентов авторов книги «Финские изверги» — русской женщине-врачу Александре Фёдоровне Нестеровой:
«Финны меня захватили в посёлке Шелтозеро Медвежьегорского района и в конце 1941 г. вместе с семьёй привезли в Петрозаводск. То ли финны забыли про меня, то ли хотели показать свою гуманность, но они во всяком случае разрешили мне поселиться в городе, а не в лагерях. Русское население Петрозаводска осталось без медицинской помощи. Финны открыли больницы лишь для финнов, карелов и вепсов, куда русским было категорически запрещено обращаться. После 30 долгих хлопот мне было разрешено открыть больницу для русских всего на 30 коек в бывшем корьевом отделении по Ватвегорской улице. Наша больница должна была обслуживать население окрестных деревень. Ясно, что 30 коек никак не хватало. Наплыв больных был очень велик: кругом свирепствовали самые разнообразные болезни, вызванные голодом. Своей аптеки у нас не было, мы вынуждены были обращаться в финскую аптеку. Как правило, финская аптека отказывала в отпуске лекарств. Администрация требовала разрешения финского врача. За каждым пустяком приходилось обращаться к нему. Разговор с этим врачом обычно был краток. По существу, он даже не говорил, а просто вычёркивал из рецептов различные лекарства.
Разрешив нам открыть больницу, финны заявили, что они не намерены отпускать нам инвентарь, инструменты, перевязочные материалы. Всё это пришлось собирать буквально по кусочкам среди русского населения. Бинтов не было, вместо них мы употребляли тряпки, которые наши люди, а иногда и больные, стирали бесчисленное число раз. Просуществовала наша больница с грехом пополам до 16 ноября 1943 г., затем её перевели в лагерь для русских заключённых. Но и здесь финны постарались внести ограничения. Лагерникам в нашу больницу обращаться было запрещено. Мы постоянно чувствовали своё приниженное рабское положение. Финны аккуратно платили мне зарплату, но она равнялась заработной плате больничного сторожа, карела по национальности».
Поневоле вспоминается циничное выражение антисоветски настроенных политиков времён Гражданской войны (чаще всего вспоминают миллионера Рябушинского) о «костлявой руке голода», должной задушить порыв народных масс сбросить с себя иго многовекового гнета. Но, видимо, финским «цивилизаторам» одного голода показалось мало. А потому в качестве своего рода «контрольного выстрела» в отношении русского населения ими было задействовано ещё и радикальное ограничение доступа к медицинской помощи. Что более чем укладывается в общие признаки геноцида — преступления против человечества, не имеющего срока давности для замешанных в этом преступлении палачей...
***
Но даже вышеописанная геноцидная практика может показаться едва ли не гуманизмом в сравнении с тем, что довелось пережить немалой части советского населения оккупированной Карелии, которое финские фашисты посчитали если и не откровенно «лишним» — то как минимум не особо и нужным. После чего обрекли мирных граждан, «некомбатантов», согласно букве и духу международных конвенций по гуманному ведению войн, на участь фактических военнопленных, — заключив их в так называемые «переселенческие» (а на самом деле — обычные «концентрационные») лагеря! В них, по данным авторов вышецитированной книги, во время оккупации томилось до 25 тыс. мирных русских жителей — стариков, женщин и детей. К слову сказать, впервые изобрели это ужасное учреждение даже не гитлеровцы, — а ныне почитающие себя «главными спасителями мира от нацизма» фактические идейные вдохновители последнего — англосаксы. Задолго до «бесноватого фюрера» и его подельников «пыжившиеся» своим «бременем белого человека», несомого «неполноценным расам». Что, впрочем, не мешало бриттам изобрести бесчеловечную практику помещения в концлагеря семьи своих противников — тоже вполне себе белых южноафриканских поселенцев-буров.
Но что да — то да, окончательно отшлифовали эту чудовищную практику именно германские нацисты, прежде всего в ходе печально известного Холокоста. Правда, подчинённые Маннергейма не дошли до полного подражания своим «старшим братьям по нацисткой вере» в организации откровенных «лагерей смерти» образца Треблинки, — где подавляющее большинство прибывавших туда узников сразу же отправлялись в газовые камеры и печи крематориев. Но ведь «окончательное решение еврейского вопроса» проводилось ведомством Гиммлера сотоварищи не только в виде немедленного уничтожения сотен тысяч жертв изуверской «расовой теории» «истинных арийцев»!
Не менее важным элементом Холокоста была и система еврейских гетто, — в которых до поры до времени томились миллионы мирных жителей целыми семьями. Как правило, больше всего по чисто «технической» причине — для их уничтожения в максимально сжатые сроки даже у чудовищной в своем совершенстве гитлеровский машины геноцида не хватало «пропускной способности», — несмотря на работу на полную мощность. Тем не менее обитатели гетто в ожидании своей очереди могли прожить на месяцы, и даже годы подольше, — чем их товарищи по несчастью, сразу этапированные в фашистские «душегубки». Собственно, при подходе советских войск каратели обычно уже и не заморачивались «высоконаучными» изобретениями своих «яйцеголовых умников» из СС — с «Циклоном Б», крематориями и проч., — используя куда более простые методы умерщвления вроде массовых расстрелов.
***
Финны, к счастью, такие массовые расстрелы в лагерях для советских граждан не проводили. Что, увы, не исключало расстрелов единичных и отнюдь не редких — обычно под предлогом «пресечения попыток к бегству», — да и просто «нарушения лагерного распорядка». Да, в общем, причин преждевременно погибнуть хватало для заключённых таких лагерей и без пули охранника. Снова даём слово собеседникам советских военных журналистов из числа освобожденных от финской оккупации советских граждан:
«Учительница Клавдия Одоевская, попавшая в Петрозаводский лагерь с Ровской судостроительной верфи, рассказывает:
— В Петрозаводск по этапу мы прибыли в конце 1941 г. Нас поместили в лагерь № 4, обнесённый колючей проволокой. Меня с семьёй сестры (всего 8 человек) поместили в маленькой каморке. Продукты и все вещи, которые мы привезли с собой, финны отобрали. В лагере от плохого питания (мы ели крапиву, трупы собак, прошлогоднюю гнилую картошку) развилась большая смертность. В нашем бараке № 12 проживала семья Беловых. Из 7 человек за одну неделю у них умерло 5 — мать и четверо детей.
Весной 1942 г. весь 45 лагерь поголовно переболел цингой, а дети корью. У меня от кори умер ребёнок. В бараках было холодно. Зимой на полу постоянно лежал иней. Дрова для лагеря мы возили на себе. Еженедельно в нашем лагере умирало по 25 человек. Хоронили покойников так: из подростков, находившихся в лагере, была составлена бригада, которая под присмотром финского патруля рыла могилы. Гробы накладывались в ямы штабелями, и яма закапывалась лишь тогда, когда она полностью заполнялась гробами (по 25-30 гробов). Кладбище находилось по Соломенному шоссе, в 5-6 километрах от нашего лагеря».
В общем, все в полном соответствии с кратким объявлением, прибитым на заборе каждого такого места: «Переселенческий лагерь. Вход в лагерь и разговоры через проволоку воспрещены под угрозой расстрела». При этом, правда, авторами данного эвфемизма насчёт «переселенчества» не уточнялось, что оное возможно для узников разве что на тот свет... К слову сказать — эпитет «рабские условия содержания» был применим к таким учреждениям финских нацистов не только в смысле аллегории. Ещё цитата:
«Спрос на рабочую силу был велик. И тогда в лагерях для мирного гражданского населения устраивался настоящий невольничий рынок. Недалеко от центра Сегозерского района Паданы находился переселенческий лагерь, где томилось свыше тысячи русских мирных людей, которых финны считали военнопленными. В этот лагерь часто приезжали помещики, чтобы отобрать себе рабочих для своих хозяйств. Помещики внимательно осматривали пленных, ощупывали их, измеряли рост, заставляли, как лошадей, показывать зубы. Всё это делалось спокойно и методически, с чисто финской аккуратностью. Наиболее сильных, физически крепких помещики отводили в сторону, а затем угоняли к себе в имения».
***
Конечно же, не стоит думать, что советские люди содержались в устроенных финскими фашистами гетто, что называется, «на всем готовом» — пусть и в крайне недостаточном для даже элементарного физического выживания объеме:
«Мизерный кусок хлеба и несколько ложек воды, заправленной мукой, не могли удовлетворить истомлённого, изголодавшегося взрослого человека. Большая часть пленных весь суточный паёк съедала сразу, в момент выдачи, и до другого утра питалась одной водой. В таком состоянии людей в 6 часов утра выгоняли за 3-5 километров в лес на заготовку дров. Возвращаясь с работы, люди падали на дороге, будучи не в силах добрести до барака. Невыполнение нормы выработки, малейшее опоздание карались уменьшением пайка до половины, ударами палкой, плетью. Нередко в паре работали ребёнок 13-14 лет и больной старик 60 с лишком лет. Люди болели и умирали, как мухи».
Нет — за эти жалкие крохи обычно чудовищно низкого качества узникам приходилось тяжело трудиться! Снова цитата:
«Лидия Колосова и Антонина Кейкова просидели в лагере два с половиной года. Они работали там в качестве писарей и имели возможность наблюдать за лагерной жизнью:
— Заключённые должны были работать. Под строгой охраной их отправляли на лесозаготовки, на очистку городских улиц. Иных заставляли прислуживать офицерам. Среди заключённых были учителя и врачи. За малейшее нарушение лагерного режима финны подвергали заключённых порке резиновыми плётками, сажали в холодный карцер. Заключённым платили по 2-3 марки в день. На эти деньги можно было купить две коробки спичек. Начальник лагеря майор Куурема сам неоднократно избивал заключённых резиновой плёткой. После избиения Куурема всегда уходил довольный и весело улыбался, приговаривая: “Немного рука болит, сегодня русских наказывал”».
За что таким «майорам» и прочей озверевшей финской солдатне приходилось «наказывать» русских — то есть откровенно «беспредельничать», потешая свои мерзкие садистские наклонности? В немалой степени ответ на этот вопрос можно найти в этом отрывке:
«В исправительный лагерь (внутри основного) финны заключали провинившихся, т. е. тех, кто пытался убежать, самовольно уйти в город и т.д. Остальным заключённым подходить к исправительному лагерю было строго запрещено. Разговаривать с заключёнными в нём также не разрешалось. Попытки передать заключённым хлеб сурово карались. 21 июня 1944 г. гражданка Котомкина хотела передать своему сыну сапоги и попросила патруль исправительного лагеря пропустить её к сыну. Ответ патруля был короткий: он выстрелил в Котомкину».
Вскользь хочется отметить — произошло это 21 июня не 1941, или даже 42 года, — а уже года 44-го! То есть уже почти год спустя после «великого перелома» в Великой Отечественной войне в Курской битве — с последующим «бегом к Днепру» гитлеровского воинства и освобождением от него Красной Армией Левобережья Украины. Когда только клинические идиоты могли еще верить в победу Германии, — а подавляющее большинство правящих элит в странах-сателлитах Третьего рейха все серьезнее стали задумываться, как бы «сбежать с тонушего корабля» германского нацизма. Не исключая, кстати, и элит финских тоже — во главе с тамошним главнокомандующим маршалом Маннергеймом. Которые уже с 1943 года вели предварительные переговоры с Москвой относительно условий выхода из войны. Но, похоже, рядовых карателей в финской военной форме эта тенденция не коснулась — они продолжали свои зверства и за всего чуть более 2 месяцев до заключения перемирия. Видно, палач — это не только профессия, это образ жизни…
***
Вообще термины «садистские наклонности», «зверства», «финские изверги» при описании всех ужасов оккупации Советской Карелии кавычек не требуют — ибо отражают не аллегорическое преувеличение, но вполне себе реальную действительность. Особенно ярко это проявлялось в отношении к русским детям, разделившим судьбу своих заключенных в лагеря родителей. К слову сказать, от еще здравствующих знакомых и родственников преклонных лет, детьми переживших гитлеровскую оккупацию, порой можно услышать непривычно трогательные истории о том, как иногда их угощали конфетами отдельные вражеские солдаты. Чаще, правда, не немцы, — а их менее ожесточенные союзники вроде словаков или итальянцев. Которые, глядя на советских детишек, видимо, вспоминали о собственных детях, оставшихся дома… Но вот со стороны финских фашистов такие проявления гуманизма если и были, — то крайне редкими. Куда чаще с их стороны проявлялось откровенное зверство:
«В июне 1942 г. финнами было избито 15 детей за сбор ягод на территории лагеря, возле проволоки. Геннадия Миронова шести лет избили за то, что он осмелился играть возле лагерных ворот. Был избит прикладом 14-летний Николай Рожинов за то, что перекапывал убранное картофельное поле. Лагерь «Пала», расположенный на территории Олонецкого леспромхоза, ничем не отличался от других лагерей. Та же колючая проволока, тот же каторжный режим. В лагере финны заставляли работать всех заключённых в возрасте от 10 до 70 лет. 12-15-часовой рабочий день. Норма и для детей и для взрослых одинакова. Если взрослым платили от 3 до 6 марок в день (стоимость одной сигаретки), то детский труд не оплачивался вовсе. Василию Алёшину сейчас 17 лет. Он выглядит не по летам взрослым, этот ещё подросток, перенесший финскую неволю. Он побывал и в тюрьме, и на принудительных работах, и в исправительном доме:
— Нас заставляли работать. Мы рубили дрова, разбирали старые дома, корчевали пни, копали канавы, чистили уборные. Поднимали нас рано — в 6 часов утра. Начало работы в 8 часов, и так, с перерывами на обед и на ужин, — до 9 часов вечера. Я однажды не вытерпел и сказал, что мы голодны. За это меня посадили в карцер — в холодное нетопленное помещение. Перед тем как посадить, меня заставили снять всю одежду, так что в карцере я находился в одном белье».
Но содержание вышеизложенного рассказа, по крайней мере, вкладывается в то, что один из героев повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», «прогрессор» с Земли на далекой планете со средневековым укладом, не без черного юмора называет «нормальным средневековым зверством». Ну, видели «финские сверхчеловеки» в русских людях — лишь рабов, недалеко ушедших от животных. Вот и относились к ним сходным образом, — но хоть без совсем уж запредельных эксцессов. Могли дать умереть от голода, — но хоть специально не убивали. А вот в эпизоде ниже эта грань уже перейдена. Вот рассказ Бориса Комлева о том, как погиб его товарищ Котлин:
«Вечером мы возвращались из города в Петрозаводский лагерь № 6, где мы находились во время владычества финнов. Котлин шёл первым. Он несколько опередил нас и уже почти достиг проволоки, как мы услышали два выстрела. Мы стали осторожно ползти по земле и возле самого лагеря увидели кровь. Чуть поодаль стояла поломанная автомашина. В ней лежал Котлин. Он ещё дышал. Одна пуля у него засела в животе, другая в боку. Некоторые из лагерников видали, как финский часовой стрелял, а потом бросил тяжело раненного Котлина в машину. Нам приказано было после смерти Котлина похоронить его. Финны, очевидно, думали, что этим они запугают ребят, но мы продолжали бегать».
Пожалуй, эта леденящая душу история требует некоторого разъяснения. Слово «бегали» в отношении ребят означало ведь не бегство из лагеря в общепринятом смысле — подобно таковому в отношении содержащихся в подобных местах заключенных. Речь шла о максимум «самовольной отлучке» — с прозаической целью найти в городе хоть какую-то еду в дополнению к «голодному пайку» в лагере. После чего дети все равно возвращались назад — ведь другого жилья у них не было, да и родные тоже оставались в этом страшном месте. При этом подростка по фамилии Котлин лагерная охрана застрелила не во время оставления лагеря, — а при возвращении в него! Вместо того чтобы, в рамках вышеупомянутого «нормального средневекового зверства», задержать нарушителя, пусть даже каким-то образом его и наказав. К слову сказать, в советское время стрелять по «малолеткам» конвоирам запрещалось даже в случае их откровенного побега во время этапирования в колонию, — например, во время посадки в поезд. Но то ж — «страш-шный советский ГУЛАГ», — а здесь «просвещенные финские европейцы». Считающие, что за нарушение лагерного распорядка наказание, даже для детей, должно быть одно — расстрел…
В следующем материале мы продолжим разговор о бесчеловечных преступлениях финских фашистов на оккупированной ими территории СССР. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
![]()