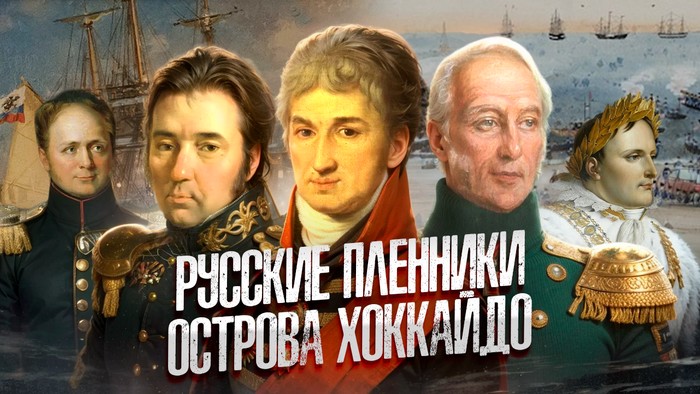–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞
–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞

80 –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥, 9 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1945 –≥–æ–¥–∞ —á–∞—Å—Ç–∏ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –ú–∞–Ω—å—á–∂—É—Ä—Å–∫—É—é –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—é –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ö–≤–∞–Ω—Ç—É–Ω—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –Ø–ø–æ–Ω–∏–∏. –í —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –≤–æ–π—Å–∫ –ó–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∞ –∏ –∫–æ–Ω–Ω–æ-–º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –ò—Å—Å—ã –ü–ª–∏–µ–≤–∞.¬Ý–¢–∞–Ω–∫–∏ –≤–µ–¥—å –±–µ–∑ –ø–µ—Ö–æ—Ç—ã (–∏–ª–∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã ¬´–∫–æ–Ω–Ω–æ–π –ø–µ—Ö–æ—Ǘ㬪 ‚Äî –ø–æ-—Å—Ç–∞—Ä–æ–º—É: ¬´–¥—Ä–∞–≥—É–Ω–æ–≤¬ª) –Ω–µ –≤–æ—é—é—Ç ‚Äî –µ—Å–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ —Ö–æ—Ç—è—Ç –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ —á–∞–¥–Ω—ã–µ –∫–æ—Å—Ç—Ä—ã. –ì—Ä—É–ø–ø—É —Ç–∞–∫–∂–µ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª–∏ –∏ —á–∞—Å—Ç–∏ –∞—Ä–º–∏–∏ –ú–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∏.
–ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏—Å—Ö–æ–¥—è –∏–∑ —á–∏—Å—Ç–æ –≥–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ñ–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤ –±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –¥—Ä—É–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –°–°–°–Ý —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ –∫ —Ä–∞–π–æ–Ω—É –≤—ã–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è –±–æ–π—Ü–æ–≤-–∑–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å—Ü–µ–≤ ‚Äî –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É –¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–¥—Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–π –¥—Ä—É–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∞—Ä–º–∏–π —Å–æ–≤–ø–∞–¥–∞–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Ä–æ–¥–æ–≤ –≤–æ–π—Å–∫ ‚Äî –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏—è. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —É –Ý–ö–ö–ê —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –∏ –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–µ–π, –∏ —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤, –∏ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–æ–≤. –ù–æ —á—Ç–æ–±—ã –ø–µ—Ä–µ—Å–µ—á—å –ø—É—Å—Ç—ã–Ω—é –ì–æ–±–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–∞–º–∏ –∂–µ –º–æ–Ω–≥–æ–ª—ã –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ ¬´–ø—É—Å—Ç—ã–Ω–µ–π —Å–º–µ—Ä—Ç–∏¬ª, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–µ–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ—Ä–æ–π –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–æ–≤–∞—Ç–æ ‚Äî –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ –∞–¥—Å–∫–æ–π –∞–≤–≥—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π –∂–∞—Ä–µ. –í—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ —Ç–µ –∂–µ —Ç–∞–Ω–∫–∏ ‚Äî –º–∞—à–∏–Ω—ã –∫–∞–ø—Ä–∏–∑–Ω—ã–µ, –∏—Ö –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–∏ –∏ –ø—Ä–æ—á–∏–µ —É–∑–ª—ã –æ–±—ã—á–Ω–æ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç–∞–Ω—ã –Ω–∞ –º–Ω–æ–≥–æ—Å–æ—Ç–∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã–µ –º–∞—Ä—à–∏. –î–∞–∂–µ —Å–µ–π—á–∞—Å –∏—Ö –æ–±—ã—á–Ω–æ –ø–æ–¥–≤–æ–∑—è—Ç –∫ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞–º –±–æ–µ–≤—ã—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π –Ω–µ —Å–≤–æ–∏–º —Ö–æ–¥–æ–º, ‚Äî –∞ –Ω–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã—Ö —ç—à–µ–ª–æ–Ω–∞—Ö. –£ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ –ª—é–±—ã—Ö –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∫–æ—á–µ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤, –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç, –±—ã–ª —É–∂–µ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–Ω–∏–π –æ–ø—ã—Ç —Ç–∞–∫–∏—Ö –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–æ–≤ ‚Äî –≤–µ—Ä—Ö–æ–º –Ω–∞ –ª–æ—à–∞–¥—è—Ö. –¢–∞–∫ —á—Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç –æ–ø—ã—Ç –Ω–µ–º–∞–ª–æ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏–ª—Å—è –∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–º –±–æ–π—Ü–∞–º ‚Äî –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –∫–æ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º –ü–ª–∏–µ–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏ –ø–æ –æ—Ä—É–∂–∏—é –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–µ–º–∞–ª–æ –Ω–∏–∑–∫–æ—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å –≤—ã–Ω–æ—Å–ª–∏–≤—ã—Ö –∏ –Ω–µ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∫ –∫–æ—Ä–º—É –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∂–µ –ª–æ—à–∞–¥–æ–∫ –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ ¬´–∑–∞–ø–∞—Å–Ω—ã—Ö¬ª –∏ –æ–±–æ–∑–Ω—ã—Ö –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü.¬Ý
–û–¥–Ω–∞–∫–æ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ —á–µ–º —Å–æ–π—Ç–∏—Å—å –ª–æ–± –≤ –ª–æ–± —Å —è–ø–æ–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –ø–æ–¥—Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏, —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ-–º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏–º –∫–æ–Ω–Ω–æ-–º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º —á–∞—Å—Ç—è–º –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø–æ–≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å —Å –µ—â–µ –æ–¥–Ω–∏–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–æ–º ‚Äî —Ç–æ–∂–µ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–∞–º–∏! –¢–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑ –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏ ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π¬ª, ‚Äî –æ–±—ã—á–Ω–æ –∏–º–µ–Ω—É–µ–º–æ–π –≤ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º –º–∏—Ä–µ ¬´–ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–æ–º¬ª. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –æ —Ç–æ–º –±–æ–µ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –±–æ–ª—å—à–µ–π —á–∞—Å—Ç—å—é –ª–∏—à—å –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –º–µ–º—É–∞—Ä–∞–º –ò—Å—Å—ã –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á–∞. –ñ–∏–≤–æ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—â–∏–º —ç–ø–∏–∑–æ–¥ –∏–∑ –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω—ã—Ö –Ω—ã–Ω–µ –∞–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ-–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π –Ω–∞ —Ç–µ–º—É ¬´–ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω—Ü–µ–≤ –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ¬ª. –ü—Ä–∏—á–µ–º –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å –≥–æ–ª—ã–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏, ‚Äî –∞, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö —Ñ–æ—Ä—É–º–∞—Ö, ‚Äî —Å ¬´–Ω–∞–±–æ—Ä–æ–º —Ä–æ—è–ª–µ–π –≤ –∫—É—Å—Ç–∞—Ö¬ª. –í—Ä–æ–¥–µ –Ω–µ–æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–º—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–µ–Ω–Ω—ã–º –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ –ø–∞—Ä–æ—á–∫–æ–π –º–æ—Ç–æ–ø–µ—Ö–æ—Ç–Ω—ã—Ö –¥–∏–≤–∏–∑–∏–π (–∞ –ª—É—á—à–µ ‚Äî –æ–±—â–µ–≤–æ–π—Å–∫–æ–≤–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏) –∏–∑ –¥–∞–ª–µ–∫–æ–≥–æ –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ.¬Ý–ö–∞–∫ –ø–∏—à–µ—Ç –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª:¬Ý
¬´–ù–æ –≤–æ—Ç –Ω–∞–¥ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–æ–º –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞—à–∏ –∏—Å—Ç—Ä–µ–±–∏—Ç–µ–ª–∏. –û–Ω–∏ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –∏ —è—Ä–æ—Å—Ç–Ω–æ –æ–±—Ä—É—à–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —á–∞—Å—Ç–∏ 1-–π –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–æ–π –¥–∏–≤–∏–∑–∏–∏ –∫–Ω—è–∑—è –î—ç–≤–∞–Ω–∞. –Ý–µ–≤ –º–æ—Ç–æ—Ä–æ–≤ –Ω–∞–≤–µ–ª —É–∂–∞—Å –Ω–∞ –ª—é–¥–µ–π –∏ –ª–æ—à–∞–¥–µ–π. –ú–∞—Å—Å–∞ –∫–æ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∑–∞–¥–≤–∏–≥–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –µ—â–µ –±–æ–ª—å—à–µ —É–ø–ª–æ—Ç–Ω—è—è —Å—Ç—Ä–æ–π. –û–±–µ–∑—É–º–µ–≤—à–∏–µ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã–µ, —à–∞—Ä–∞—Ö–∞—è—Å—å –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞, —Å–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–µ–¥–æ–∫–æ–≤ –∏ —Ç–∞–±—É–Ω–æ–º –º—á–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ —Å—Ç–µ–ø–∏, —É–Ω–æ—Å—è –Ω–∞ —Å–µ–±–µ —á—É–¥–æ–º —É–¥–µ—Ä–∂–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ —Å–µ–¥–ª–µ –≤—Å–∞–¥–Ω–∏–∫–æ–≤...¬ª

–ì–µ—Ä–æ–π –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ—é–∑–∞ –ü–ª–∏–µ–≤ –ò—Å—Å–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á
–í –æ–±—â–µ–º, –ª–∏—Ö–æ–π –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏—Å—Ç–∫–æ–π —Ä—É–±–∫–∏ —É –≤—Ä–∞–∂–¥–µ–±–Ω—ã—Ö –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –±–æ–π—Ü–æ–≤ —Å –Ω–∞—à–∏–º–∏ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å ‚Äî –∏—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–∞–∑–æ–≥–Ω–∞–ª–∏ –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è –≤—ã–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º, ‚Äî –¥–æ–±–∏–≤ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏–º –æ–≥–Ω–µ–º –∏ –∑–∞–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –∞—Ç–∞–∫–æ–π —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤ –∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏–∏. –•–æ—Ç—è –∫–æ–º—É-—Ç–æ –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö —É–ø–æ—Ä–Ω—ã—Ö, –Ω–µ –∂–µ–ª–∞–≤—à–∏—Ö –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å –±–µ—Å—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, –Ω–µ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ. –í –∏—Ç–æ–≥–µ –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏–π—Å—è –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö –ª–∏—á–Ω—ã–π —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –∞—Ä–º–∏–∏ –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞ —á–∞—Å—Ç—å—é –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –ø–ª–µ–Ω –∫ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ-–º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏–º —Å–æ—é–∑–Ω–∏–∫–∞–º, —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ ‚Äî –∫ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –ì–æ–º–∏–Ω—å–¥–∞–Ω–∞, —á–∞—Å—Ç—å ‚Äî –∫ –∞—Ä–º–∏–∏ —É–∂–µ –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–æ–≤ –ú–∞–æ –¶–∑–µ –î—É–Ω–∞. –ï—Å—Ç—å —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, —á—Ç–æ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –∏–∑ –¥–≤—É—Ö –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö –∫–∞—Ç–µ–≥–æ—Ä–∏–π –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –∏–∑ —Å—Ç–∞—Ç—É—Å–∞ –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ç–∞—Ç—É—Å –ø–æ–ª–Ω–æ–ø—Ä–∞–≤–Ω—ã—Ö –±–æ–π—Ü–æ–≤ –ø–ª–µ–Ω–∏–≤—à–∏—Ö –∏—Ö –∞—Ä–º–∏–π. –ù—É, –¥–∞ —Ç–æ –¥–µ–ª–æ –∂–∏—Ç–µ–π—Å–∫–æ–µ ‚Äî –≤ —Ö–æ–¥–µ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –≤–æ–π–Ω –µ—â–µ –∏ –Ω–µ —Ç–∞–∫–æ–µ —Å–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. –í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–º, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –æ—Ç –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã—Ö –∫ –±–µ–ª—ã–º –∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≥–µ—Ä–æ–∏ —Ç–æ–≥–æ –∂–µ ¬´–•–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –ø–æ –º—É–∫–∞–º¬ª –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ.¬Ý
–î–∞ —É–∂, —á—Ç–æ –Ω–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏ ‚Äî —Ç–∞–∫—Ç–∏–∫–∞ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω –ß–∏–Ω–≥–∏—Å—Ö–∞–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã 20 –≤–µ–∫–∞ —É–∂–µ –Ω–µ —Ç—è–Ω–µ—Ç. –•–æ—Ç—è, –µ—Å–ª–∏ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ, —Ç–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–µ –º–æ–Ω–≥–æ–ª—㬪 –±—ã–ª–∏ —ç–∫–∏–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω—ã –≤—Å–µ –∂–µ –ø–æ–ª—É—á—à–µ —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–∞–ª–µ–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–∫–æ–≤ ‚Äî –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∞–±–ª—è–º–∏ –∏ –ø–∏–∫–∞–º–∏, –Ω–æ –∏ –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤–∫–∞–º–∏ ¬´–ú–∞—É–∑–µ—Ĭª, ¬´–ê—Ä–∏—Å–∞–∫–∞¬ª, –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–º–∏ –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç–∞–º–∏ ‚Äî –∏ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏–º–∏ –¥–µ—Å—è—Ç–∫–∞–º–∏ –ø—É—à–µ–∫. –•–æ—Ç—è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —É–¥–∞—Ä–Ω–æ–π –º–æ—â–∏ –∞—Ä–º–∏–∏, –≤—Å–µ–≥–æ 3 –º–µ—Å—è—Ü–∞–º–∏ —Ä–∞–Ω–µ–µ —Å—É–º–µ–≤—à–µ–π –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω—É—é –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é –º–∞—à–∏–Ω—É –¢—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ —Ä–µ–π—Ö–∞, —ç—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –±—ã–ª–æ —á—Ç–æ —Å–ª–æ–Ω—É –¥—Ä–æ–±–∏–Ω–∞. –ù—É, —Ç–∞–∫ –∫—Ç–æ –∏–º –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä –≤ —Ç–∞–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ? –ú–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∞—è –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∞—è —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞ –∏–º–µ–ª–∞ –≤ —Å–æ—é–∑–Ω–∏–∫–∞—Ö –°–°–°–Ý ‚Äî –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É –µ–µ –∞—Ä–º–∏—è –∏–º–µ–ª–∞ –æ—á–µ–Ω—å –º–æ—â–Ω—É—é –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫—É. –ê –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏—è ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—è—謪 –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –Ω–∞ —è–ø–æ–Ω—Ü–µ–≤, ‚Äî –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ—Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∏–ª–∏ –µ–µ –∫—Ä–æ–º–µ —É—Å—Ç–∞—Ä–µ–≤—à–µ–≥–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–æ–≤–æ-–∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–ª–∞–º–∞ –ª–∏—à—å –æ–¥–Ω–∏–º —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–æ–º. –ò —Ç–æ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–º, ‚Äî –∏ —Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–Ω–Ω—ã–º –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω—É –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º —Å—é–∑–µ—Ä–µ–Ω–æ–º –Ø–ø–æ–Ω–∏–µ–π, ‚Äî –∞ –µ–≥–æ ¬´—Å—Ç–∞—Ä—à–∏–º –≤–∞—Å—Å–∞–ª–æ–º¬ª ‚Äî –ú–∞–Ω—å–∂–æ—É-–ì–æ, —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –º–∞—Ä–∏–æ–Ω–µ—Ç–æ—á–Ω–æ–π –ú–∞–Ω—å—á–∂—É—Ä–∏–µ–π –ø–æ–¥ —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã–º ¬´–∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—Å—Ç–≤–æ–º¬ª –ì–µ–Ω—Ä–∏ –ü—É –ò. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –∫–æ–µ –≤ –∫–∞–∫–∏—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∞—Ö —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è –µ—â–µ –∏ –æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö —à—Ç—É–∫–∞—Ö —É—Å—Ç–∞—Ä–µ–≤—à–∏—Ö —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤, ‚Äî –Ω–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ—Ç–æ—á–Ω–æ. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –Ω–∏ —Ç–æ—á–Ω–æ–π –∏—Ö —á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∏ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–π –≤ –ò–Ω–µ—Ç–µ –Ω–∞–π—Ç–∏ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. –ù—É, –∞ –ø—Ä–∏ —Ç–∞–∫–æ–º —É—Ä–æ–≤–Ω–µ, –≥–º, ¬´—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ—Å–Ω–∞—â–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏¬ª –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–±–µ–¥—ã –Ω–∞–¥ –∫—É–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–æ–º –≤–ø–æ—Ä—É –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å –º–µ–º –æ—Ç —à–µ–∫—Å–ø–∏—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–æ–ª—è –õ–∏—Ä–∞ ‚Äî ¬´–ò–∑ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏ –≤—ã–π–¥–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ!¬ª. –¢–∞–∫ —á—Ç–æ –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–º–µ—Ä–Ω—ã–π —Ñ–∏–Ω–∞–ª —Å —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º–æ–º –∞—Ä–º–∏–∏ –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –∫–æ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –∏ —Ç–∞–Ω–∫–∏—Å—Ç—ã –ü–ª–∏–µ–≤–∞ –≤–∫—É–ø–µ —Å —Å–æ—é–∑–Ω—ã–º–∏ –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏–º–∏ –±–æ–π—Ü–∞–º–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–∞–∂–µ –∏ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏, –≤—ã–≥–ª—è–¥–∏—Ç –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –ª–æ–≥–∏—á–Ω—ã–º. –•–æ—Ç—è —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–º –º–æ–Ω–≥–æ–ª–∞–º¬ª-—Ç–æ –æ—Å–æ–±–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏ –Ω–µ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Å—á–µ—Ç. –ù—É, —Ä–∞–∑–±–∏–ª–∏ –∏—Ö –∑–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π, ‚Äî –Ω–æ –≤–µ–¥—å –∏ –∫—É–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ –º–æ—â–Ω–∞—è –∞—Ä–º–∏—è –∏—Ö —Å—é–∑–µ—Ä–µ–Ω–∞, –ö–≤–∞–Ω—Ç—É–Ω—Å–∫–∞—è, –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –∫–∞–ø–∏—Ç—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ –º–∞–∫—Å–∏–º—É–º –Ω–∞ –æ–¥–Ω—É-–¥–≤–µ –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ –ø–æ–∑–∂–µ.¬Ý

¬Ý–í—Å–∞–¥–Ω–∏–∫–∏ –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞. –°—Ä–∞–∑—É –∏ –Ω–µ –ø–æ–π–º–µ—à—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ:¬Ý1930‚Äî1940-–µ –≥–≥.?
***
–ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –ø–æ—Å–ª–µ –∫—Ä–∞—Ç–∫–æ–≥–æ –∏–∑–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –±–µ—Å—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ-–º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–欪, —Ö–º, ¬´–≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞¬ª, —Å—Ç–æ–∏—Ç –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –∂–µ –æ–Ω–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞ —Å–≤–µ—Ç –ë–æ–∂–∏–π. –î–ª—è —á–µ–≥–æ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è —É–≥–ª—É–±–∏—Ç—å—Å—è –≤ —Å–æ–≤—Å–µ–º –¥—Ä–µ–≤–Ω—é—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é, ‚Äî –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å 13 –≤–µ–∫–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤–æ—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∑–≤–µ–∑–¥–∞, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —Å–∞–º–æ–≥–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–∞ –≤ –º–∏—Ä–µ ‚Äî –ß–∏–Ω–≥–∏—Å—Ö–∞–Ω–∞. –ö–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–∏ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ —Å–≤–æ–µ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –ó–∞–ø–∞–¥: ¬´–∫ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–º—É –º–æ—ė鬪, ‚Äî –Ω–æ –∏ –Ω–∞ –í–æ—Å—Ç–æ–∫ —Ç–æ–∂–µ. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –ö–∏—Ç–∞–π ‚Äî –°–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–π, –ø–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ, ‚Äî —Å—Ç–∞–ª –∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–π –∞–ø–ø–µ—Ç–∏—Ç–æ–≤ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞—Ç–µ–ª—è –µ—â–µ —Ä–∞–Ω—å—à–µ, —á–µ–º –ö–∏–µ–≤—Å–∫–∞—è –Ý—É—Å—å. –ì–æ—Ä–æ–¥–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π –∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –∂–µ—Ä—Ç–≤–∞–º–∏ —É—Å–ø–µ—à–Ω—ã—Ö —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤ –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –Ω–µ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—é—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è —É—á–∞—Å—Ç–∏—é –≤ –Ω–∏—Ö –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏—Ö –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä–æ–≤ —Å —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ—Å–∞–¥–Ω–æ–π —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–æ–π ‚Äî –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è –ø–æ—Ä–æ—Ö–∞, –∏–∑–æ–±—Ä–µ—Ç–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ –ü–æ–¥–Ω–µ–±–µ—Å–Ω–æ–π –∑–∞ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≤–µ–∫–∞ –¥–æ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã.¬Ý
5-–π –ø–æ —Å—á–µ—Ç—É –í–µ–ª–∏–∫–∏–π —Ö–∞–Ω –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤ –•—É–±–∏–ª–∞–π –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–µ 13 –≤–µ–∫–∞ —Å—Ç–∞–ª –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º –ø–æ —Å—á–µ—Ç—É –æ–±—â–µ–∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–º –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–º –ø–æ–¥ –∏–º–µ–Ω–µ–º –Æ–∞–Ω—å, ‚Äî –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–≤ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–µ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é, —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ –≤ 1260 –≥–æ–¥—É —Ç—É–¥–∞ –∏–∑ –ö–∞—Ä–∞–∫–æ—Ä—É–º–∞ –±—ã–ª–∞ –¥–∞–∂–µ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–µ–Ω–∞ –ø—Ä–µ–∂–Ω—è—è —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–∞ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –•—É–±–∏–ª–∞–π –≤ 1277 –∏ 1281 –≥–æ–¥–∞—Ö –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å –∫ —Å–≤–æ–µ–π –±–µ—Å–∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –µ—â–µ –∏ –Ø–ø–æ–Ω–∏—é, ‚Äî –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–≤ —Ç—É–¥–∞ –º–æ–≥—É—á–∏–π —Ñ–ª–æ—Ç –≤—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–∏—è. –ù–æ –æ–±–∞ —Ä–∞–∑–∞ –°—Ç—Ä–∞–Ω—É –í–æ—Å—Ö–æ–¥—è—â–µ–≥–æ –°–æ–ª–Ω—Ü–∞, –≤ –¥—É—Ö–µ —Ç–æ–≥–¥–∞—à–Ω–µ–π —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≤–µ–∫–æ–≤–æ–π –º–æ–¥—ã –ø–æ–≥—Ä—è–∑—à–µ–π –≤ —Ñ–µ–æ–¥–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –º–µ–∂–¥–æ—É—Å–æ–±–∏—Ü–∞—Ö, —Å–ø–∞—Å –æ—Ç –Ω–µ–∏–∑–±–µ–∂–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–Ω–∏—è –¥–∏—Å—Ü–∏–ø–ª–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–∞–º–∏ –º–æ—â–Ω—ã–π —Ç–∞–π—Ñ—É–Ω, ‚Äî –∏–º–µ–Ω—É–µ–º—ã–π –Ω–∞ —è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ ¬´–ö–∞–º–∏–∫–∞–¥–∑–µ¬ª. –ò–º–µ–Ω–µ–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤ 1945 –≥–æ–¥—É —Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —è–ø–æ–Ω—Å–∫–∏—Ö –ª–µ—Ç—á–∏–∫–æ–≤-—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤, –Ω–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω–æ –ø—ã—Ç–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è —Å–≤–æ–∏–º–∏ –∞—Ç–∞–∫–∞–º–∏ —Å–ø–∞—Å—Ç–∏ –Ø–ø–æ–Ω–∏—é –æ—Ç –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—è—â–∏—Ö —Å–∏–ª –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞.¬Ý
–ù–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è ‚Äî –¥–∞–º–∞ –∫–∞–ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—è, —É –Ω–µ–µ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã—Ö –ª—é–±–∏–º—á–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç. –í 1368 –≥–æ–¥—É –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫—É—é –¥–∏–Ω–∞—Å—Ç–∏—é –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª–∏ –∏–∑ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –∫–∏—Ç–∞–π—Ü—ã, –∞ –≤ 17 –≤–µ–∫–µ —É–∂–µ –∏ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤, –∏ —Å–∞–º–∏—Ö –∫–∏—Ç–∞–π—Ü–µ–≤ –ø—Ä–∏–±—Ä–∞–ª–∏ –∫ —Ä—É–∫–∞–º ¬´–º–æ–ª–æ–¥—ã–µ —Ö–∏—â–Ω–∏–∫–∏¬ª-–º–∞–Ω—å—á–∂—É—Ä—ã. –¢–∞–∫ —á—Ç–æ –º–æ–Ω–≥–æ–ª—ã –≤–Ω–æ–≤—å —Å—Ç–∞–ª–∏ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–∞–º–∏ –ö–∏—Ç–∞—è, ‚Äî —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É–∂–µ –Ω–µ –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –µ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤—è—â–µ–π —ç–ª–∏—Ç—ã, ‚Äî –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å—Ç–∞–ª–∏ –≤—ã—à–µ—É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—ã–µ –º–∞–Ω—å—á–∂—É—Ä—ã. –í–ª–∞—Å—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö, –≤ —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å, –±—ã–ª–∞ —Å–≤–µ—Ä–≥–Ω—É—Ç–∞ –≤ 1911 –≥–æ–¥—É ‚Äî –≤ —Ö–æ–¥–µ –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–Ω–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏. –ù–æ, –∫–∞–∫ –≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è, –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–µ—Ä–µ–¥—Ä–∞–ª–∏—Å—å –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ–π ‚Äî –∏ –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞. –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–µ –ø—Ä–µ–º–∏–Ω—É–ª–∏ –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è —è–ø–æ–Ω—Ü—ã, ‚Äî –Ω–∞—á–∞–≤ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –ø–æ–ª–∑—É—á–µ–π —ç–∫—Å–ø–∞–Ω—Å–∏–∏ –Ω–∞ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∫. –¢–æ–≥–¥–∞ –∏ –ø—Ä–∏—à–µ–ª —á–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—é –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –Ω–æ–≤—ã—Ö ¬´–Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã—Ö¬ª –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –µ–¥–∏–Ω–æ–≥–æ –ö–∏—Ç–∞—è.¬Ý
***
–ü–µ—Ä–≤—ã–º –∏—Ö –Ω–∏—Ö, —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –∫–ª–∞—Å—Å–∏–∫–æ–π –∂–∞–Ω—Ä–∞: —Å—Ç–∞–ª–æ ¬´–ú–∞–Ω—å—á–∂–æ—É-–ì–欪, ‚Äî –ø—Ä–µ–∂–Ω—è—è –ú–∞–Ω—å—á–∂—É—Ä–∏—è. –ö—É–¥–∞ –≤ 1931 –≥–æ–¥—É –≤—Ç–æ—Ä–≥–ª–∏—Å—å —è–ø–æ–Ω—Ü—ã ‚Äî –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–µ—Å—Ç–æ–ª —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–º–∏ –º–∞—Ä–∏–æ–Ω–µ—Ç–æ—á–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ö–∏—Ç–∞—è –ü—É –ò. –° –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–æ–º, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –±—ã–ª–æ –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–µ–µ. –ú–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∏ –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –¶–∏–Ω-—Ç–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –±–æ—Ä—å–±—É –∑–∞ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ –≤—ã—à–µ—É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –≤ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏ (–∏–ª–∏ ¬´–≤–Ω–µ—à–Ω–µ–π –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏¬ª) –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –¥–µ–º–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è ‚Äî –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–Ω–∏–µ –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —ç—Ç–Ω–æ—Å–∞. –ê –≤–æ—Ç –≤ –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏ ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–𬪠–º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤ –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ—Ç —Å–∏–ª—ã –¥–æ 20 %. –ü—Ä–∏ —Ç–æ–º —á—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ 80 % —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ ¬´—Ö–∞–Ω—å—ܗ㬪, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –¥–æ–º–∏–Ω–∏—Ä—É—é—â–∞—è –≤ –ö–∏—Ç–∞–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å.¬Ý
–í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ, –≤ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π –∂–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏ –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–µ —Å–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –º–µ–∂–¥—É –ø—Ä–∞–≤—è—â–µ–π –∏ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –Ω–µ —è–≤–ª—è–ª–æ—Å—å —á–µ–º-—Ç–æ –∏–∑ —Ä—è–¥–∞ –≤–æ–Ω –≤—ã—Ö–æ–¥—è—â–∏–º. –î–æ–ª—è —Ç–µ—Ö –∂–µ –º–∞–Ω—å—á–∂—É—Ä–æ–≤ –≤–æ–æ–±—â–µ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –µ—Å–ª–∏ –ø—Ä–æ—Ü–µ–Ω—Ç –æ—Ç –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –∏—Ö –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏, ‚Äî —á—Ç–æ –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª–æ –∏—Ö —ç–ª–∏—Ç–∞–º –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –ø–æ–¥ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–µ–º —Ç–µ—Ö –∂–µ —Ö–∞–Ω—å—Ü–µ–≤, –Ω–æ –∏ —Ä–µ–≤–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ –±–ª—é—Å—Ç–∏ —ç—Ç–Ω–∏—á–µ—Å–∫—É—é —á–∏—Å—Ç–æ—Ç—É —Å–≤–æ–∏—Ö —ç–ª–∏—Ç, –Ω–µ –¥–æ–ø—É—Å–∫–∞—è —á—É–∂–∞–∫–æ–≤ –Ω–∞ –º–∞–ª–æ-–º–∞–ª—å—Å–∫–∏ –∑–Ω–∞—á–∏–º—ã–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –∞—Ä–º–∏–∏ –∏ –≥–æ—Å–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç–µ. –ù–æ –≤—Å–µ –∂–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä–µ—á—å –∑–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç –æ –∫–∞–∫–æ–º-—Ç–æ ¬´–Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–º —Å–∞–º–æ–æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–∏¬ª, ¬´–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –≤–æ–ª–µ–∏–∑—ä—è–≤–ª–µ–Ω–∏–∏¬ª ‚Äî –≤—ã—à–µ—É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—ã–µ –ø—Ä–æ–ø–æ—Ä—Ü–∏–∏ –∫–∞–∫-—Ç–æ –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —Å–æ—á–µ—Ç–∞—é—Ç—Å—è —Å –¥–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è–º–∏.¬Ý
–í –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏ ¬´–æ–±—ã—á–Ω–æ–π¬ª-—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Å—ã–≥—Ä–∞–ª–∏ ‚Äî –æ–Ω–∞ –¥–æ–±–∏–ª–∞—Å—å –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ —Å—Ä–∞–∑—É, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, ‚Äî –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –º—è—Ç–µ–∂–Ω—É—é –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏—é, ‚Äî –Ω–æ –∏—Ö –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª–∏ –æ—Ç—Ä—è–¥—ã –±–µ–ª–æ–≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Å–∫–æ–≥–æ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –±–∞—Ä–æ–Ω–∞ –£–Ω–≥–µ—Ä–Ω–∞. –ê –£–Ω–≥–µ—Ä–Ω–∞ ¬´–ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥¬ª —É–∂–µ –æ—Ç—Ä—è–¥—ã –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –ê—Ä–º–∏–∏, ‚Äî –Ω—É, –∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–æ–≤, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Ç–æ–∂–µ. –û–¥–Ω–∞–∫–æ ¬´–≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—è—è –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏—謪 —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–µ–π –ö–∏—Ç–∞—è. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Å –Ω–∞—á–∞–ª–æ–º —è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤–µ–Ω—Ü–∏–∏ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ì–æ–º–∏–Ω—å–¥–∞–Ω–∞, –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤, —Ä–µ–∑–æ–Ω–Ω–æ —Ä–µ—à–∏–ª–∞, —á—Ç–æ –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –¥–∞–≤–∞—Ç—å –¢–æ–∫–∏–æ –ª–∏—à–Ω–∏—Ö —à–∞–Ω—Å–æ–≤ –≤ –ø–æ–∏—Å–∫–µ –ª–æ—è–ª—å–Ω–æ–π –¥–ª—è —Å–µ–±—è ¬´–ø—è—Ç–æ–π –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—ã¬ª –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –µ—â–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ö–∏—Ç–∞—è. –í —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ ‚Äî –∏–∑ —á–∏—Å–ª–∞ –æ–±–∏–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–æ–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º —Ö–∞–Ω—å—Ü–µ–≤ –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –º–µ–Ω—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤. –ê –ø–æ—Ç–æ–º—É —Å 1933 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏–∏ –¥–ª—è –í–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏. –î–∞—Ä–æ–º —á—Ç–æ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤ —Ç–∞–º –±—ã–ª–∞ –≤—Å–µ–≥–æ –ø—è—Ç–∞—è —á–∞—Å—Ç—å, ‚Äî –Ω–æ –≤–µ–¥—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∏—Ö –∑–Ω–∞—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∞ —Å–æ–±–æ–π –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —ç–ª–∏—Ç—ã. –¢–∞–∫ —á—Ç–æ —É–∂–µ –≤ 1934 –≥–æ–¥—É –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ–≤–æ–∑–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∞. –ü–µ—Ä–≤—ã–º –µ–µ –ª–∏–¥–µ—Ä–æ–º —Å—Ç–∞–ª –∫–Ω—è–∑—å –Æ–∞–Ω—å ‚Äî –ø–æ—Ç–æ–º–æ–∫ –ß–∏–Ω–≥–∏—Å—Ö–∞–Ω–∞, –≤—ã–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ —Å–≤–æ–π –ø–æ—Å—Ç –Ω–∞ —Å—ä–µ–∑–¥–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –∞—Ä–∏—Å—Ç–æ–∫—Ä–∞—Ç–æ–≤. –ù–µ –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–æ, —á—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ —Å–≤–æ–µ–π —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏ —Ç–æ–∂–µ, ‚Äî —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–µ–π –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—Å–∫–æ–π –¥–∏–Ω–∞—Å—Ç–∏–∏ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤—Å–µ–≥–æ –ö–∏—Ç–∞—è, –∞ –ø–æ—Å–ª–µ 1368 –≥–æ–¥—É ‚Äî —É–∂–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏. –í—ã–±–æ—Ä —ç—Ç–æ—Ç, –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏, –≤–ø–æ–ª–Ω–µ —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª –∏ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ì–æ–º–∏–Ω—å–¥–∞–Ω–∞ ‚Äî –ø—Ä–µ—Å—Ç–∞—Ä–µ–ª—ã–π –∫–Ω—è–∑—å –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏, —Ç–æ —Ö–æ—Ç—è –±—ã —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ–π –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏–∏ —Å –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –ö–∏—Ç–∞—è, ‚Äî –Ω–æ –∏ –Ø–ø–æ–Ω–∏–∏ —Ç–æ–∂–µ.¬Ý
–ù–æ —ç—Ç–æ—Ç –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç –Ω–µ —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª —É–∂–µ —è–ø–æ–Ω—Ü–µ–≤, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–≤—à–∏—Ö —Å–≤–æ—é –ø–æ–ª–∑—É—á—É—é —ç–∫—Å–ø–∞–Ω—Å–∏—é –Ω–∞ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∫. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —á—Ç–æ –∏–º –¥–ª—è —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–ª–∞–Ω–æ–≤ –≤ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –í–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏ –¥–∞–∂–µ –∏ –Ω–∞–ø—Ä—è–≥–∞—Ç—å—Å—è –æ—Å–æ–±–æ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ ‚Äî —Ç–∞–º —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ ¬´–∫–∞–Ω–¥–∏–¥–∞—Ç–æ–≤ –≤ –∑–∏—Ü-–ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–∏¬ª –∏ –±–µ–∑ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ –Ω–∞—Å–∏–ª–∏—è —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≤–æ–π—Å–∫ –ö–≤–∞–Ω—Ç—É–Ω—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –∏–ª–∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –¥–∞–∂–µ —è–ø–æ–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü—Å–ª—É–∂–±. –¢–∞–∫–∏–º ¬´–ú–∞–ª—å—á–∏—à–µ–º-–ø–ª–æ—Ö–∏—à–µ–º¬ª –∏ –≤—ã–∑–≤–∞–ª—Å—è —Å—Ç–∞—Ç—å –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω –∫–Ω—è–∑—å-—á–∏–Ω–≥–∏–∑–∏–¥ –î—ç –í–∞–Ω –î—ç–º—á–∏–≥–¥–æ–Ω—Ä–æ–≤. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–∏–π –≤—Ä–æ–¥–µ –±—ã –≤ —Ç–µ–Ω–∏ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ª–∏–¥–µ—Ä–∞ –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞ ‚Äî –∫–Ω—è–∑—è –Æ–∞–Ω—è: ‚Äî –Ω–æ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏–±—Ä–∞–≤—à–∏–π –≤ —Å–≤–æ–∏ —Ä—É–∫–∏ –≤—Å–µ –≤–ª–∞—Å—Ç–Ω—ã–µ –ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–∏—è. –ê –ø–µ—Ä–≤—ã–π –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏–∏ —Ç–æ —É—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫—É ¬´–ø–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—謪, —Ç–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è, ‚Äî –ø–æ–∫–∞ –µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Ç—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ 1938 –≥–æ–¥—É. –î–∞–∂–µ –Ω–µ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ –¥–æ–≥–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è, –∫—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ ‚Äî —Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω–æ –∏–∑—Ä–µ—á–µ–Ω–∏—é —é—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤ –µ—â–µ –î—Ä–µ–≤–Ω–µ–≥–æ –Ý–∏–º–∞ –ø—Ä–∏ —Ä–∞—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –ø—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–π: ¬´–ò—â–∏, –∫–æ–º—É —ç—Ç–æ –≤—ã–≥–æ–¥–Ω–æ!¬ª ‚Äî –ê –≤—ã–≥–æ–¥–Ω–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç—å –∫–Ω—è–∑—è –Æ–∞–Ω—è –±—ã–ª–∞, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –∫–Ω—è–∑—é –î—ç –í–∞–Ω—É, —Å—Ç–∞–≤—à–µ–º—É –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω—ã–º, –Ω–æ –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º –¥–∏–∫—Ç–∞—Ç–æ—Ä–æ–º –í–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏.¬Ý
***
–í–æ–æ–±—â–µ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∑–∞ –≤—Ä–µ–º—è –µ–≥–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –º–µ–Ω—è–ª–æ—Å—å:
- —Å 12 –º–∞—è 1936 –ø–æ 21 –Ω–æ—è–±—Ä—è 1937 ‚Äî –ú–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–µ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ,¬Ý
- —Å 22 –Ω–æ—è–±—Ä—è 1937 –ø–æ 1 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1939 ‚Äî –û–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã–µ –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–Ω—ã–µ –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ –∞–π–º–∞–∫–∏,¬Ý
- —Å 1 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1939 –ø–æ 4 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1941 ‚Äî –û–±—ä–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–µ –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞,¬Ý
- —Å 4 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1941 –ø–æ 10 –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è 1945 ‚Äî –ú–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–∞—è –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–Ω–∞—è —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞—Ü–∏—è.¬Ý
Хотя в остальном мире, кроме Японии, так и не признавшей де-юре эту мнимую государственность, сия территория для простоты продолжала именоваться «Мэнцзян», — что означает «монгольское пограничье». К слову сказать, полноценной хотя бы юридической независимости прояпонские «внутренние монголы» не дождались даже от своих покровителей. Вплоть до того, что их недо-государство было официально передано Токио под контроль Нанкинского правительства в 1940 году, — правда, когда в этой оккупированной японцами прежней столице Китая уже сидели местные коллаборационисты. С другой стороны, контроль китайских марионеток — японских оккупантов — над Мэнцзином тоже был достаточно условным. То есть князь Дэ Ван обладал в своих внутренних полномочиях довольно широкой автономией: на уровне ничуть не меньше, чем его предшественник Юань в бытность края автономией еще законной Китайской республики. Хотя, конечно же, когда речь заходила об отношениях с японцами — монгольская «автономность» вдруг как-то сразу внезапно на глазах резко «скукоживалась». Начиная с формирования под громким названием «Национальная армия Мэнцзяна» (НАМ), — в которой по странной случайности большинство ключевых постов занимали японские офицеры, гм, «инструкторы». Хотя с другой стороны, а чем же инструкторам в собственном смысле этого слова заниматься — как не инструкции, обязательные к исполнению, давать? Так что все правильно, «ловкость рук — и никакого мошенства», а — армия Дэ Вана тоже могла считать себя независимой…
–í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –µ–µ –±—ã–ª–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π, ‚Äî –Ω–µ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞—è –Ω–∞ –ø–∏–∫–µ, –ø–æ –æ–¥–Ω–∏–º –¥–∞–Ω–Ω—ã–º, 12-—Ç–∏, –ø–æ –¥—Ä—É–≥–∏–º ‚Äî 20 —Ç—ã—Å—è—á —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –î–ª—è ¬´–≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞¬ª —Å —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–µ–π –≤ –ø–æ–ª–º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–Ω—ã—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ (—Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–º–æ —Å –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–µ–π) –∏ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º –≤ 5 –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤ –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π ‚Äî –∫–∞–∫-—Ç–æ –º–∞–ª–æ–≤–∞—Ç–æ. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —á—Ç–æ —Å—Ä–µ–¥–∏ –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤-–∫–æ—á–µ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤ –≤ –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –∏—Ö –±—É—Ä–Ω–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ø—Ä–∏ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ ¬´–ø–æ–¥ —Ä—É–∂—å–µ¬ª —Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –¥–æ –ø—è—Ç–æ–π –¥–æ–ª–∏ –æ—Ç –æ–±—â–µ–π —á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ—á–µ–≤—å—è, ‚Äî –∏—Å–∫–ª—é—á–∞—è –ª–∏—à—å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω –∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–∂ –¥—Ä—è—Ö–ª—ã—Ö —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–æ–≤ –∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏—Ö –¥–µ—Ç–µ–π. –î–∞, –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤ –≤ –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ–≥–æ –æ–∫–æ–ª–æ 20 %. –ù–æ —Ç–∞–∫ –≤–µ–¥—å –∏ –≤ ¬´–¥–µ–≤—è—Ç–∏ –¥–∏–≤–∏–∑–∏—è—Ö¬ª –ù–ê–ú –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –¥–≤—É—Ö –∫–æ—Ä–ø—É—Å–æ–≤ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ —Ö–∞–Ω—å—Ü—ã! –ü–ª—é—Å –ø–æ—á—Ç–∏ 6 —Ç—ã—Å—è—á –∏–∑ –≤–æ–π—Å–∫–∞ —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –≥—Ä–æ–º–∫–∏–º –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º ¬´–í–µ–ª–∏–∫–∞—è —Ö–∞–Ω—å–∫–∞—è —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–∞—è –∞—Ä–º–∏—謪 –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏—Ö ¬´–ø–æ–ª–µ–≤—ã—Ö –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤¬ª, ‚Äî ¬´—Ä–∞–∑–±–∏–≤—à–µ–≥–æ –≥–æ—Ä—à–∫–∏¬ª —Å –ì–æ–º–∏–Ω—å–¥–∞–Ω–æ–º, ‚Äî –ø—É—Å—Ç—å –µ–µ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å—é –∏ –≤—ã–±–∏–ª–∏ –µ—â–µ –≤ 1936 –≥–æ–¥—É: –≤ —Ö–æ–¥–µ –±–µ—Å—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¥–ª—è –î—ç –í–∞–Ω–∞ –°—É—é–∞–Ω—å—Å–∫–æ–π –∫–∞–º–ø–∞–Ω–∏–∏ —Å –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–µ–π.¬Ý
–ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —ç—Ç–∏—Ö ¬´–Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª¬ª —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ ¬´–æ—Ç–±—Ä–æ—Å—ã –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞¬ª, ‚Äî —Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Ä–±–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏–ª–∏ –¥–µ–∑–µ—Ä—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–≤—à–∏–µ –∏–∑ –≥–æ–º–∏—å–¥–∞–Ω–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –≤–æ–π—Å–∫ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—ã. –ü—Ä–∏—Ç–æ–º —á—Ç–æ –∂–µ–ª–∞—é—â–∏—Ö –≤–∑—è—Ç—å –≤ —Ä—É–∫–∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ ¬´–¥–ª—è –∑–∞—â–∏—Ç—ã —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ–π –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏¬ª –∏–∑ —á–∏—Å–ª–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞ –±—ã–ª–æ –∏—Å—á–µ–∑–∞—é—â–µ –º–∞–ª–æ. –ß—Ç–æ, –≤ –æ–±—â–µ–º, –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –∏ —Å–∞–º–∏ —è–ø–æ–Ω—Ü—ã, ‚Äî –æ—Å–æ–±–æ –∏ –Ω–µ –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å –Ω–∞ ¬´—Ç—É–∑–µ–º—Ü–µ–≤¬ª: ‚Äî –¥–µ—Ä–∂–∞ –≤ –∏—Ö ¬´–≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ¬ª –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –∞—Ä–º–∏—é. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –Ω–µ–¥–∞—Ä–æ–º –Ω–æ—Å–∏–≤—à—É—é –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ ¬´–ì–∞—Ä–Ω–∏–∑–æ–Ω–Ω–∞—謪, ‚Äî —á—Ç–æ –ª–∏—à–Ω–∏–π —Ä–∞–∑ –ø–æ–¥—á–µ—Ä–∫–∏–≤–∞–ª–æ ¬´–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω—ã–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ĭª –∏ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ –µ–µ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–π, –∏ –ª–∏—á–Ω–æ–≥–æ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∞. –ù–µ –∑—Ä—è –∂ –µ—â–µ –≤ –≥–æ–¥—ã –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –∫ –≥–∞—Ä–Ω–∏–∑–æ–Ω–Ω–æ–π —Å–ª—É–∂–±–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–ª–∏ —á–∞—â–µ –ø–æ–∂–∏–ª—ã—Ö –∏–ª–∏ –æ–ø—Ä–∞–≤–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –ø–æ—Å–ª–µ —Ç—è–∂–µ–ª—ã—Ö —Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–π —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, ‚Äî –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —Å–ª—É–∂–±–∞ –≤ –æ–±—ã—á–Ω—ã—Ö ¬´–ª–∏–Ω–µ–π–Ω—ã—Ö¬ª —á–∞—Å—Ç—è—Ö –±—ã–ª–∞ —É–∂–µ –Ω–µ–ø–æ–¥—ä–µ–º–Ω–∞ –ø–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—é‚Ķ¬Ý
–ù–æ, —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, —è–ø–æ–Ω—Ü—ã, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –∏ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ ¬´–æ–ø–µ—Ä–µ—Ç–æ—á–Ω—É—é¬ª –∞—Ä–º–∏—é –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω–∞ (–∞–≥–∞, 9 –¥–∏–≤–∏–∑–∏–π –≤ –¥–≤—É—Ö –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞—Ö —á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –≤ 12 —Ç—ã—Å—è—á —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, ‚Äî –ø—Ä–∏—Ç–æ–º —á—Ç–æ –æ–¥–Ω–∞-–µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–æ–≤–∞—è –¥–∏–≤–∏–∑–∏—è –Ý–ö–ö–ê –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏–º–µ–ª–∞ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ —à—Ç–∞—Ç) –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ–π –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–∏–ª—ã. –¢–∞–∫, —Ä–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ —Å –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏–º–∏, –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ —É—à–µ–¥—à–∏–º–∏ –æ—Ç –Ω–µ–µ –ø–æ –±–æ–µ–≤—ã–º –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞–º –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏ –º–∞–ª–æ—Å—Ç—å –ø–æ—Ü–∞–ø–∞—Ç—å—Å—è, –ø–æ–∫–∞ –ø–æ–º–æ—â—å —è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ–π –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∞—Ä–º–∏–∏ –Ω–µ –ø–æ–¥–æ—Å–ø–µ–µ—Ç ‚Äî –∏–ª–∏ –∂–µ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –≤ —Ä–æ–ª–∏ ¬´–ø—É—à–µ—á–Ω–æ–≥–æ –º—è—Å–∞¬ª, –ø—ã—Ç–∞—è—Å—å –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å —Ö–æ—Ç—å —á—É—Ç–æ–∫ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–æ-–Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É –≥—Ä–æ–∑–Ω—ã—Ö –ø–æ–¥—Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–π. –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ –∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–µ –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1945 –≥–æ–¥–∞ ‚Äî –≤ —Ö–æ–¥–µ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è –≤–æ–π—Å–∫ –ó–∞–±–∞–π–∫–∞–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞ —Å –µ–≥–æ —Å–æ—é–∑–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∏–∑ –ú–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏‚Ķ
***
–ü–æ—Å–ª–µ —ç–ø–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º–∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π, —Ö–º, ¬´–º–æ—â–∏¬ª –î—ç –í–∞–Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç ¬´–ø–æ—Ç–æ–º–æ–∫ –ß–∏–Ω–≥–∏—Å—Ö–∞–Ω–∞¬ª –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—Ç—å –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–µ–ª–∏–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–∫–æ–≤ –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å –Ø–ø–æ–Ω–∏—é, –ø–µ—Ä–µ—à–µ–¥—à–∏–π –µ–π –≤ —É—Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –ø–ª–µ–Ω –∫ –ß–∞–Ω –ö–∞–π—à–∏. –ö–∞–∑–Ω–∏—Ç—å –µ–≥–æ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏, ‚Äî –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–≤ –≤ —Ç—é—Ä—å–º—É, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤ 1949 –≥–æ–¥—É, ‚Äî –∫–æ–≥–¥–∞ ¬´–∑–∞–ø–∞—Ö–ª–æ –∂–∞—Ä–µ–Ω—ã–º¬ª —É–∂–µ —É —Å–∞–º–∏—Ö –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤, —Ç–µ—Å–Ω–∏–º—ã—Ö –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–µ–π. ¬´–£—Ç–æ–ø–∞—é—â–∏–π —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –∑–∞ —Å–æ–ª–æ–º–∏–Ω–∫—ɬª ‚Äî –∏ –±—É–¥—É—â–∏–π –ª–∏–¥–µ—Ä –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –¢–∞–π–≤–∞–Ω—å –ø–æ—Å–ª–µ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –±–µ–≥—Å—Ç–≤–∞ —Ç—É–¥–∞ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –≤–Ω–æ–≤—å –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏—é ¬´–í–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–∏¬ª ‚Äî –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ —ç–ª–∏—Ç—ã —Å–º–æ–≥—É—Ç –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –µ–º—É —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫—É—é —Ç–æ –ø–æ–º–æ—â—å, —Ö–æ—Ç—è –±—ã –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–≤ –≤ –ª–æ—è–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤—Å–µ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–µ–µ –ø–æ–±–µ–∂–¥–∞—é—â–∏–º –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–∞–º. –¢–∞–∫ —á—Ç–æ ¬´–ø–æ—Ç–æ–º–æ–∫ –ß–∏–Ω–≥–∏—Å—Ö–∞–Ω–∞¬ª –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞–∑ —É–º—É–¥—Ä–∏–ª—Å—è —Å—Ç–∞—Ç—å –ª–∏–¥–µ—Ä–æ–º –º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–π —É–∂–µ ¬´–ê–ª–∞—à–∞–Ω—å—Å–∫–æ–𬪠—Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∏, ‚Äî –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–º–µ—Ä–Ω–æ –∫–∞–Ω—É–≤—à–µ–π –≤ –õ–µ—Ç—É –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ø–æ—Ç–µ—Ä–ø–µ–≤—à–∏–º –∫—Ä–∞—Ö —Ä–µ–∂–∏–º–æ–º –ì–æ–º–∏–Ω—å–¥–∞–Ω–∞.¬Ý
–í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –≤ –ö–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π –ù–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–µ –æ–ø—è—Ç—å –∂–µ –Ω–µ —Å–∫–ª–æ–Ω–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–æ—è–≤–ª—è—Ç—å –∫ –ø–æ–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–Ω–æ–º—É –æ–±–∞–Ω–∫—Ä–æ—Ç–∏–≤—à–µ–º—É—Å—è –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫—É —Å–∫–æ–ª—å-–Ω–∏–±—É–¥—å —è–≤–Ω—É—é –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ—Å—Ç—å. –í —Ç—é—Ä—å–º—É, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –æ–ø—è—Ç—å –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—Ç –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏, ‚Äî –Ω–æ –ø–æ—Å–ª–µ –æ—Ç—Å–∏–¥–∫–∏ –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –∏ –¥–∞–∂–µ –¥–∞–ª–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è. –ü–æ–¥–æ–±–Ω–æ —Ç–∞–∫–æ–º—É –∂–µ ¬´–∫–æ–Ω—Ü—É –∫–∞—Ä—å–µ—ė㬪 ¬´–ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞¬ª –∏ ¬´–∫–æ–ª–ª–µ–≥–∏¬ª –∫–Ω—è–∑—è –ø–æ –º–∞—Ä–∏–æ–Ω–µ—Ç–æ—á–Ω–æ–º—É —Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏—é —è–ø–æ–Ω—Ü–∞–º ‚Äî –ì–µ–Ω—Ä–∏ –ü—É –ò. –ë–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –≤–æ–ø—Ä–µ–∫–∏ —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–Ω–æ–π –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ª–æ–≥–∏–∫–µ ¬´–æ–¥–∏–Ω —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ ‚Äî –æ–¥–∏–Ω –≥–æ–ª–æ—Ŭª ‚Äî –Ω–æ–≤—ã–µ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ö–∏—Ç–∞—è –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –∑–∞ –í–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ú–æ–Ω–≥–æ–ª–∏–µ–π –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏—é, ‚Äî –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≤—Å–µ —Ç–µ –∂–µ –º–µ–Ω–µ–µ —á–µ–º 20 % –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞—é—â–∏—Ö —Ç–∞–º —ç—Ç–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –º–æ–Ω–≥–æ–ª–æ–≤ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ 80 % —Ö–∞–Ω—å—Ü–µ–≤ –∏ –ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π ¬´—Ç–∏—Ç—É–ª—å–Ω–æ–π –Ω–∞—Ü–∏–µ–𬪠–≤ –≥–æ–¥—ã —è–ø–æ–Ω—Å–∫–æ–π –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏–∏ –∫–æ–ª–ª–∞–±–æ—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–∏–∑–º.¬Ý
–•–æ—Ç—è —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –≤ –º—É–¥—Ä–æ—Å—Ç–∏ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–º—É –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É –Ω–µ –æ—Ç–∫–∞–∂–µ—à—å ‚Äî –∏ –ø–æ —Å–µ–π –¥–µ–Ω—å –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏ –æ —Å–∫–æ–ª—å-–Ω–∏–±—É–¥—å –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–Ω–æ-—Å–µ–ø–∞—Ä–∞—Ç–∏—Å—Ç—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏—è—Ö –≤ —ç—Ç–æ–º —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–µ –∫–∞–∫-—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞–µ—Ç. –í –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –°–∏–Ω–¥–∑—è–Ω-–£–π–≥—É—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞, ‚Äî –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –≤—ã–∑—ã–≤–∞—é—â–µ–≥–æ –∏—Å—Ç–µ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –æ–±–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–º–∏ ¬´–æ–±—â–µ—á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞–º–∏¬ª –ü–µ–∫–∏–Ω–∞ –≤ ¬´–ø—Ä–µ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è—Ö –±–æ—Ä—Ü–æ–≤ –∑–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω—É—é –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—ŗǗ嬪. –í–∏–¥–Ω–æ, –¥–µ–ª–æ –Ω–µ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –≤ –¥–∞–Ω–Ω–æ–º —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ ¬´—Ç–∏—Ç—É–ª—å–Ω—ã–º¬ª, ‚Äî –Ω–æ —á—Ç–æ –µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞—é—Ç ¬´–≥–Ω–æ–±–∏—Ǘ嬪 –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–µ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ. –° –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –∂–µ —É –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–∏—Ö —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π –∏–∑ –ü–µ–∫–∏–Ω–∞ –≤—Å–µ –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º –∞–∂—É—Ä–µ ‚Äî –ø–æ—É—á–∏—Ç—å—Å—è –±—ã —É –Ω–∏—Ö —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –°–°–°–݂Ķ –¢–∞–∫ —á—Ç–æ –Ω—ã–Ω–µ ¬´–≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ –ú—ç–Ω—Ü–∑—è–Ω¬ª –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ—à–ª–æ –≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –¥–∞–ª–µ–∫–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ ‚Äî –±–µ–∑ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã —Ö–æ—Ç—å –∫–æ–≥–¥–∞-–Ω–∏–±—É–¥—å –≤–æ–∑—Ä–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏‚Ķ¬Ý
![]() ‚Äã
‚Äã