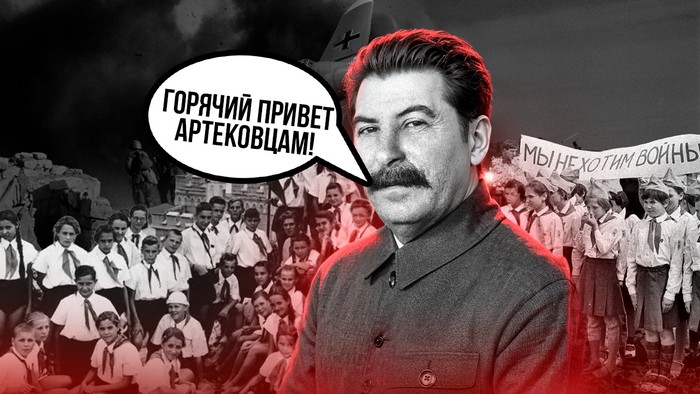–Я–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є вАФ –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–∞?
–Я–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞–і –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є вАФ –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–∞?

80 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1945 –≥–Њ–і–∞ –±–Њ–є—Ж—Л —В—А–µ—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Љ–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є...
–Э—Г, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П –≤—Б—П–Ї–Є—Е —В–∞–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Њ—З–љ—Л—Е —П–Ї–Њ–±—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ вАФ –Ь–∞–љ—М—З–ґ–Њ—Г-–У–Њ, –Ь—Н–љ—Ж–Ј—П–љ–∞ (—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є ¬Ђ–Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є¬ї) –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–Њ–ї–ї–∞–±–Њ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –Ъ–Њ—А–µ–Є.
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є ¬Ђ–љ–µ–Ј–∞–ї–µ–ґ–љ—Л–µ¬ї –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л –Є –Є—Е –∞—А–Љ–Є–Є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї–Є—Б—М —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –ї–Є—И—М –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —В–µ–Ј–Є—Б–∞ –∞–љ—В–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –Љ–∞—Б—В–µ–є вАФ –≤ –Є—Е –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ—Г–Љ–µ–љ—М—И–Є—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є.¬†–Ф–µ—Б–Ї–∞—В—М, ¬Ђ—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, вАФ –∞ –љ–∞ –і–µ–ї–µ –µ–µ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 650 —В—Л—Б—П—З, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ вАФ –±—Л–ї–Є —В–µ–Љ–Є —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є ¬Ђ—Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ —Н—В–Є —Б–∞–Љ—Л–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є-–Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Ї–Є —Е—Г–ґ–µ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є. –°–Ї–Њ—А–µ–µ —Г–ґ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В вАФ –µ—Б–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –µ—Й–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е, вАФ —В–Њ —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Є –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Є –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П —В—О—А—М–Љ—Л –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б—Г–і–Њ–≤ —Г–ґ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л—Е –Ъ–Є—В–∞—П, –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Є –Ъ–Њ—А–µ–Є. –Р —В–Њ –Є, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, ¬Ђ—Б–Ї–Њ—А—Л–є —Б—Г–і –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї вАФ –њ—А–Є—Б–ї—Г–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В–Њ–≤ –љ–µ –ї—О–±—П—В –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Љ–Є—А–µвА¶
–Э–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤—Б–µ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—Б—В–Ї–Њ-–∞–љ—В–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Є—Д–Њ—В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–і–љ–Є–Љ –ї–Є—И—М —Н—В–Є–Љ —В–µ–Ј–Є—Б–Њ–Љ! –Ъ—Г–і–∞ —В–∞–Љ вАФ –Њ–љ—Л—Е –Є–Ј —Г—Б—В –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–∞–ї–Њ–њ–Њ—З—В–µ–љ–љ–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ш –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Г–њ–Њ—А –≤ —Н—В–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –ї–ґ–Є–≤–Њ–µ –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–Є–µ. –Э—Г, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, вАФ –Ј–∞—З–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –°–°–°–† –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–±—К—П–≤–ї—П—В—М –≤–Њ–є–љ—Г ¬Ђ–љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–є, –љ–Є—З–µ–Љ –љ–∞–Љ –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–≤—И–µ–є, —Г–ґ–µ –Є —В–∞–Ї –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, вАФ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ—А—В–≤—Г—П –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В, —Г–ґ–µ –њ–Њ–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Е –У–Є—В–ї–µ—А–∞¬ї?¬†
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, вАФ —З—В–Њ –Ј–∞ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —Б–∞–Љ—Г—А–∞—П–Љ–Є –і–∞–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–Ї–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А—Л–≤–љ—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М –Љ–∞–ї–Њ. –° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –°–Т–Ю –≤ –љ–µ–є —В–Њ–ґ–µ –ї–Є—И—М –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ш –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ —Б—В–∞–ї–Є —Д–Є–≥—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±–∞–љ–і–µ—А–Њ–≤—Ж—Л —Б ¬Ђ–љ–µ–Ј–∞–ї–µ–ґ–љ–Њ–є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–Ї–Њ–±—Л ¬Ђ–Є –≤ –Э–Р–Ґ–Ю –љ–Є–Ї—В–Њ –±—Л –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї, –Є –љ–∞–њ–∞–і–∞—В—М –Њ–љ–Є –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О –њ–Њ–±–Њ—П–ї–Є—Б—М –±—Л, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, —Н—В–∞ –±—А–∞—В–Є—П —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –Є –Љ—Г—Е–Є –љ–µ –Њ–±–Є–і–Є—В¬ї. вАФ –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ–≥–∞–і–Є—В—М¬ї –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї—Г –Є –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Б–Њ—Б–µ–і—Г –љ–∞–і–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–µ ¬Ђ–Љ–Є—А–љ–Њ–Љ¬ї, –Ї–∞–Ї –Є –љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞, –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –±–ї–Њ–Ї–µ вАФ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±—Л—В—М –Є –µ–≥–Њ –±–µ—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ (–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—Й–Є–Љ –і–µ–љ—М–≥–Є –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ) –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ ¬Ђ–њ—А–Њ–Ї—Б–Є¬ї. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ —Г–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Р –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Є–≤–µ—А—Б–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Г–ґ–µ —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ъ—А—Л–Љ–∞ (—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –ї–Є–љ–Є–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ–µ—А–µ–і–∞—З, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В–Є–µ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞) –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ-–Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–Љ–Є –Љ–µ—З—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ –±—Г–і–µ—В –ї–Є–±–Њ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ вАФ –ї–Є–±–Њ –±–µ–Ј–ї—О–і–љ—Л–Љ¬ї –Є –≥–Њ—А—П—З–µ—З–љ—Л–Љ –±—А–µ–і–Њ–Љ –Њ ¬Ђ–≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е 1991 –≥–Њ–і–∞¬ї. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, ¬Ђ—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—П–Љ–Є –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї.
***
–° ¬Ђ–Љ–Є—А–љ–Њ–є –Є –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–≤—И–µ–є –љ–∞–Љ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є¬ї, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 30-—Е –і–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1945 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є —В–∞–Ї –ґ–µ. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Г–ґ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–љ—В–Є–Ї–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–Ї—В–∞ 13 –љ–Њ—П–±—А—П 1936 –≥–Њ–і–∞ —Б –љ–∞—Ж–Є—Б—В–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї –љ–∞ –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Н–Ї–Ј–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –µ–Љ—Г —В–µ—Б–љ–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞–љ–µ—В–µ. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Н—В–Њ—В –њ–∞–Ї—В —Б—В–∞–ї –ґ–Є–≤–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –љ–µ–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –Э–Р–Ґ–Ю вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і —Н–≥–Є–і–Њ–є –С–µ—А–ї–Є–љ–∞. –•–Њ—В—П —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ —Б—В–∞–ї–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ вАФ –≤–µ–і—М –У–Є—В–ї–µ—А —Б—В–∞–ї —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є ¬Ђ–µ–і–Є–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л¬ї вАФ –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –µ—Й–µ –≤–Њ—О—О—Й–µ–є –Р–љ–≥–ї–Є–Є –і–∞ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –®–≤–µ—Ж–Є–Є –Є –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є–Є. –Ш –Є–Ј –Р–љ—В–Є–Ї–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–Ї—В–∞ —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є. –Р —З—В–Њ 13 –∞–њ—А–µ–ї—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –Є–Љ–Є –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ —Б –°–°–°–† –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є—В–µ—В–µ –љ–∞ 5 –ї–µ—В вАФ —В–∞–Ї —Н—В–Њ –ґ –љ–µ –Њ—В ¬Ђ–Љ–Є—А–Њ–ї—О–±–Є—П¬ї, –∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –љ–∞ –і–≤–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞. ¬Ђ–Ь–Є—А–Њ–ї—О–±–Є–µ¬ї вАФ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –і–Њ –ї–µ—В–∞ 1939 –≥–Њ–і–∞ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, вАФ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –•–∞—Б–∞–љ –Є –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї ¬Ђ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –±–Њ–µ–Љ¬ї –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П.¬†
–†–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –ґ–µ —Н—В–∞ –љ—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ—Г—А–∞—П–Љ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Б —Ж–µ–ї—М—О –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –°–Є–±–Є—А–Є –і–Њ –£—А–∞–ї–∞. –Э–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ 20 –≤–µ–Ї–∞ вАФ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є 1904вАФ1905 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Ш–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —В–Њ–≥–і–∞ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –≤–µ—А–Њ–ї–Њ–Љ–љ—Л–Љ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Н—Б–Ї–∞–і—А—Г –≤ –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А–µ, –њ—А–∞–≤–і–∞, —Б –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –∞ вАФ –Р–љ–≥–ї–Є–Є, –Є–Ј–≤–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Ш —Е–Њ—В—П –њ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ –Я–Њ—А—Б—В–Љ—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ 1905 –≥–Њ–і–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Љ–Є–Ї–∞–і–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є (—Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є –±—Л–ї–∞ –ї–Є—И—М —О–ґ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –°–∞—Е–∞–ї–Є–љ–∞), вАФ –љ–Њ –≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г —Б–∞–Љ—Г—А–∞–Є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В—Л–≥—А–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–≤—Б—О, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–ї–µ–Ј–ї–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –Э–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ вАФ –≥–і–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—В–∞–Љ–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О. –Р –Њ—В—А—П–і—Л –∞—А–Љ–Є–Є –£–±–Њ—А–µ–≤–Є—З–∞ –≤—Л—И–≤—Л—А–љ—Г–ї–Є –Є–Ј –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –±–µ–ї–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Ж–µ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–∞, –ї–Є—И—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і. –Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —З–∞—Б—В–Є –†–Ъ–Ъ–Р –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –Є —Б –±–Њ—П–Љ–Є –Ј–∞–љ—П—В—М –љ–∞—И—Г ¬Ђ–ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ—Г —Г –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Ю–Ї–µ–∞–љ–∞¬ї, вАФ –љ–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Ж—Л –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї—А–Њ–≤—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Њ–Ї –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Є, –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–ї–Є —Г–њ–ї—Л—В—М –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О –±–µ–Ј —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л.
***
–Э—Г, –∞ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –∞–њ–њ–µ—В–Є—В—Л –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ, —А–∞—Б–њ–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –С–µ—А–ї–Є–љ–Њ–Љ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–Є вАФ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ—И–Ї—Г—А—Г –љ–µ—Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–≤–µ–і—П¬ї (—Б–Њ—А—А–Є вАФ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О) –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –і–µ–ї–Є—В—М —Г–ґ–µ –њ–Њ –£—А–∞–ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є —Е–Њ–і —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є–Є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –і–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –У–Є—В–ї–µ—А–∞ –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є –Я–∞–Ї—В –Њ –љ–µ–љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–≤ –°–°–°–† –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л —А–µ–є—Е–∞ —Е–Њ—В—П –±—Л –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П. –Ф–∞–≤ –љ–∞—Ж–Є—Б—В–∞–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б —В–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –Є ¬Ђ–њ–Њ–і–Ї–∞—А–Љ–ї–Є–≤–∞–ї¬ї –Є—Е —А–µ–ґ–Є–Љ, –і–∞–≤–∞—П –µ–Љ—Г ¬Ђ–љ–∞—А–∞—Б—В–Є—В—М –ґ–Є—А–Њ–Ї¬ї –і–ї—П —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Ж–µ–ї–µ–є —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Р–љ—В–Є–Ї–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є вАФ –∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –њ–∞–Ї—В–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–Љ –Ї—А–∞–є–љ–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Г—О ¬Ђ–њ–ї—О—Е—Г¬ї –Њ—В –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –љ–∞ –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї–µ, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є —И–∞–≥ –С–µ—А–ї–Є–љ–∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Я—А–Є—З–µ–Љ ¬Ђ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ¬ї –љ–∞ –У–Є—В–ї–µ—А–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≤ –ї—Г—З—И–Є—Е —Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е вАФ –љ–µ—В, –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Е–∞—А–∞–Ї–Є—А–Є, вАФ –љ–Њ —Г—И–ї–Є –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Г—О –Є–Љ–Є ¬Ђ–∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї—Г—О –њ–∞—А—В–Є—О¬ї, вАФ —Б—З–Є—В–∞–≤—И—Г—О –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є, вАФ –≤ —А–∞–љ–≥ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ю—В–і–∞–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞–Љ –Є–Ј –њ–∞—А—В–Є–Є ¬Ђ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є¬ї (—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–є), —Б—З–Є—В–∞–≤—И–µ–є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–є —Б —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–∞–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ґ–Є—Е–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞.¬†
–Т–Њ—В —В–Њ–≥–і–∞, —Б–њ—Г—Б—В—П 7 —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Я–∞–Ї—В–∞ –†–Є–±–±–µ–љ—В—А–Њ–њ–∞-–Ь–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤–∞¬ї, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є—В–µ—В–µ —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є. –Э–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Б—Г–≥—Г–±–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–ї—О–±–Є—П, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –≤—Б–њ—Л—Е–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –Ї —Б—В—А–∞–љ–µ, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В—А–Њ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є ¬Ђ–Ј—Г–±–Њ–≤–љ—Л–є —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В¬ї —Г –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–≥–Њ, —Е–Љ, ¬Ђ–Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –µ—Й–µ —В–Њ–ґ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є). –Я—А–Њ—Б—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –У–Є—В–ї–µ—А—Г –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є¬ї –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –і–≤–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞ вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –°–®–Р (–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Р–љ–≥–ї–Є–µ–є –Є –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і–Є–µ–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –Є –≤ –Р–Ј–Є–Є), вАФ –љ–Њ –Є —Б –°–°–°–†. –Э–Њ –і–∞–ґ–µ —Н—В–Њ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї—В –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ—А–∞—Б—Б–ї–∞–±–Є—В—М—Б—П¬ї –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Ш–±–Њ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —А–µ–є—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ ¬Ђ–і–Њ–ї–±–Є–ї¬ї ¬Ђ–°—В—А–∞–љ—Г –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞¬ї –Ј–∞–Љ–∞–љ—З–Є–≤—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї –і–µ–ї–µ–ґ—Г —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –Љ–Є—А–∞, вАФ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤ –≤ –≤–Њ–є–љ—Г —Б –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ.¬†
–Р –≤–µ–і—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –Є –љ–µ –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є! –Ы–Є—И—М –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є –≤ –і—Г—Е–µ: ¬Ђ–Э—Г –≤–Њ—В, –і–Њ–є–і–µ—В –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В –і–Њ –Т–Њ–ї–≥–Є вАФ —В—Г—В –Љ—Л –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —Б –≤–∞–Љ–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–Љ¬ї. вАФ –Ш –≤–µ–і—М –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –±—Л –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ вАФ —Е–Њ—В—М –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ј—П—В–Є—П –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ 1941-–Љ, вАФ —Е–Њ—В—М –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ 1942-–Љ! –Ш –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–є¬ї –њ–∞—А—В–Є–Є –≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –±—Л –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —Г—Б–њ–µ—Е–Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –ѓ–Љ–∞–Љ–Њ—В–Њ –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞–Љ –≤–µ—Б—В–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—О –Ш–љ–і–Њ–Ї–Є—В–∞–µ–Љ, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж —Б–∞–Љ–Њ–є –Ш–љ–і–Є–Є вАФ –Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Р–Ј–Є–µ–є –Є –Р–≤—Б—В—А–∞–ї–Є–µ–є. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –≤ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –љ–µ—Г–і–∞—З –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ вАФ –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –µ–є —Г–і–∞—А–∞ –≤ —Б–њ–Є–љ—Г –≤—А—П–і –ї–Є –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –±—Л —Б–∞–Љ—Г—А–∞—П–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ–Є –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–∞—В—А–∞—В–∞–Љ–Є вАФ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —В—П–ґ–µ—Б—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–† –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –±—Л –љ–∞ –Ґ—А–µ—В—М–µ–Љ —А–µ–є—Е–µ.¬†
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –°—В–∞–≤–Ї–µ –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ-—В–∞–Ї–Є –њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, вАФ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–µ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є—В–µ—В–∞ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ф–∞–±—Л ¬Ђ–Љ–Є—А–љ–∞—П, –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–∞—П¬ї –£–Ї—А–∞вА¶, –њ–∞—А–і–Њ–љ, –ѓ–њ–Њ–љ–Є—П, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–∞ –Ј–∞—Е–∞–њ–∞—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П –≤–Њ–ґ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–Њ –£—А–∞–ї–∞ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –≤ 30-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ъ–Є—В–∞—П, вАФ –∞ —Б –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –Є –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є —В–Њ–ґ–µ.¬†
***
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ, вАФ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А —Б—Л–≥—А–∞–ї –Є –Ї—А–∞–є–љ–µ –≤–∞–ґ–љ—Г—О, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л —А–Њ–ї—М. –Ш–±–Њ —Б–∞–Љ—Г—А–∞–є—Б–Ї–Є–µ –∞–њ–њ–µ—В–Є—В—Л –љ–∞ –°–Є–±–Є—А—М вАФ —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ, –∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є вАФ –≤—Б–µ –ґ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ. –Я—А–Є—З–µ–Љ –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і—А—Г–≥–Њ–µ —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є (–і–∞ –Є –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Њ–ґ–µ) –≤–Њ–є–љ—Л. –Э–∞—З–∞–ї–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–∞ –≤ –µ–µ —Е–Њ–і–µ –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ, –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ –њ–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ –Ъ—Г—А—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤—Л –і–∞–ґ–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Г –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –Ґ–Њ–Ї–Є–Њ –љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ–µ—А–µ–і –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–Љ, –љ–Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –µ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—Ж–Є–µ–є –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –∞–љ—В–Є—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є –≤ –Я–µ—А–ї-–•–∞—А–±–Њ—А–µ, –§–Є–ї–Є–њ–њ–Є–љ–∞—Е, –°–Є–љ–≥–∞–њ—Г—А–µ, —А—П–і–µ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, —З–∞—И–∞ –≤–µ—Б–Њ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Ю–Ї–µ–∞–љ–µ –≤—Б–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –£–≤—Л, –і–ї—П —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤ вАФ —В–µ–Љ–њ—Л —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —В–µ—Е –ґ–µ –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ —Г –љ–Є—Е –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е —Г –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј—Л. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Є–Ї–∞–і–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –љ–µ –љ–∞–љ–µ—Б–ї–∞ –Є–Љ —Г–і–∞—А —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ (–±–ї–∞–≥–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ –Є –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ —Г –љ–∞—Б –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ), вАФ –∞ –љ–µ –Љ–µ—З—В–∞—В—М –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–†.¬†
–Э–Њ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є-—В–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є—В–µ—В–µ –Њ—В –∞–њ—А–µ–ї—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ 5 –ї–µ—В –љ–Є–Ї—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—П–ї! –Х–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –ї—О–±–∞—П –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –і–µ–љ–Њ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ (—З—В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –µ–µ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є), вАФ –љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞-—В–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ. –Р —В–µ–Љ –ґ–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞–Љ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –њ—А–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–µ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є вАФ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —Б –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є (—Е–Њ—В—М –≤ –Р—Д—А–Є–Ї–µ, —Е–Њ—В—М –≤ –°–Є—Ж–Є–ї–Є–Є, —Е–Њ—В—М –і–∞–ґ–µ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є) –њ–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Г –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤ –њ–Њ–і–Љ–µ—В–Ї–Є –љ–µ –≥–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ.¬†
–°—В–∞–ї–Є–љ –ґ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї –љ–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —А–∞—Б—З–µ—В—Л —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—В—П–љ—Г—В—М –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –≤ –≤–Њ–є–љ—Г —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є, вАФ –і–∞–±—Л, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, ¬Ђ—В–∞—Б–Ї–∞—В—М –і–ї—П –љ–Є—Е –Ї–∞—И—В–∞–љ—Л –Є–Ј –Њ–≥–љ—П¬ї. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ —Г –І–µ—А—З–Є–ї–ї—П –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є –±—Л–ї–Є –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—З–µ—В—Л вАФ –Њ—Б–ї–∞–±–Є—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—А—Л–≤ –†–Ъ–Ъ–Р –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Ї–Є —З–∞—Б—В–Є —Б–Є–ї –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ ¬Ђ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Њ—О–Ј–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М¬ї –≤ –≤–Є–і–µ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Є–і–µ–Є —Д–Є–Ї—Б¬ї –Њ—В–Ї—А—Л—В—М ¬Ђ–≤—В–Њ—А–Њ–є —Д—А–Њ–љ—В¬ї –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е. –І—В–Њ–±—Л –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ–Њ–і–Љ—П—В—М –њ–Њ–і —Б–µ–±—П –≤—Б—О –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г, вАФ –љ–µ –њ—Г—Б—В–Є–≤ —В—Г–і–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –Р—А–Љ–Є—О. –Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О —Б–Є–ї–Њ–є вАФ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ф–∞—А–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї–Є, –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –∞–≥–µ–љ—В–∞, —И–µ—Д–∞ –∞–±–≤–µ—А–∞ –Ъ–∞–љ–∞—А–Є—Б–∞, вАФ –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤, вАФ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П ¬Ђ–і–µ—А–ґ–∞–ї –њ–∞–ї–µ—Ж –љ–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Ї—А—О—З–Ї–µ¬ї –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–Є—В–ї–µ—А–∞ вАФ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Т–∞–ї—М–Ї–Є—А–Є—П 21 –Є—О–ї—П 1944 –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –љ–∞—З–∞—В—М—Б—П —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Г–ґ–µ –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є: ¬Ђ–Э–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ–µ¬ї, вАФ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –І–µ—А—З–Є–ї–ї—П –≤ –Љ–∞–µ 1945, вАФ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –≤–Ј—П—В—Л—Е –≤ –њ–ї–µ–љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В. –Ф–∞—А–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї–Є, –§–ї–µ–љ—Б–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ф–µ–љ–Є—Ж–∞, –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞ –У–Є—В–ї–µ—А–∞, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Є —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є(!) —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—П 45-–≥–Њ. –Я–Њ–Ї–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е ¬Ђ–±—Л–≤—И–Є—Е¬ї –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М-—В–∞–Ї–Є –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞—В—М, вАФ –∞ –Є—Е –љ–µ–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї—Г—О –Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є—В—М –≤ –ї–∞–≥–µ—А—П –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј —П–Ї–Њ–±—Л ¬Ђ–ї–∞–≥–µ—А–µ–є¬ї, –∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ.
***
–Р –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–ї–∞–љ–∞–Љ, –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–Љ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Є—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є (—З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАФ ¬Ђ—Г–Ї—А–∞—Б—В—М —Г –љ–µ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Я–Њ–±–µ–і—Г¬ї), –≤ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А¬ї. –Ш–±–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М –≤–Њ–є–љ—Г —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї, вАФ –љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–Ј—Г, –≥–Љ, –њ—А–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, вАФ –ї–Є—З–љ–Њ –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –Њ–±—Е–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ґ–µ–≥–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –љ–Њ—П–±—А—П 1943 –≥–Њ–і–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–±—Й–µ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –°–°–°–† –љ–∞—З–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–∞ –ѓ–ї—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1945 –≥–Њ–і–∞, –∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ вАФ –ї–Є—И—М –љ–∞ –Я–Њ—В—Б–і–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є, вАФ –Є—О–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞, —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Э–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–Є –µ—Й–µ –≤ –Ґ–µ–≥–µ—А–∞–љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—Б–Њ–Љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М вАФ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А–Њ–є–Ї–Є¬ї –Њ—В —З–µ—А—З–Є–ї–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М ¬Ђ–≤—В–Њ—А–Њ–є —Д—А–Њ–љ—В¬ї –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е, –љ–Њ –≤ –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є.¬†
–Э—Г, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –і–ї—П –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–∞ –љ–µ–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ–Љ ¬Ђ–Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—П –µ–≤—А–Њ—З–ї–µ–љ—Б—В–≤–∞¬ї –і–ї—П ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Є –љ–µ–Ј–∞–ї–µ–ґ–љ–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Н—В–Є–Љ–Є –±–∞—Б–љ—П–Љ–Є –Ї–Њ—А–Љ—П—В —Г–ґ–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П, –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ф–Њ–±–Є–≤–∞—П—Б—М –Њ—В –Ъ–Є–µ–≤–∞ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Г—Б—В—Г–њ–Њ–Ї вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —А–∞–Ј–≤—П–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л –≤ 2014 –≥–Њ–і—Г –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –Ч–∞–њ–∞–і–∞. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Т–Њ–ї—М—Д–∞ —Б –Ф–∞–ї–ї–µ—Б–Њ–Љ –≤ –С–µ—А–љ–µ, –Є –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є –њ–ї–∞–љ ¬Ђ–Э–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ–µ¬ї –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, вАФ —З—В–Њ –≤ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є: –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–Є–і–Ї–∞¬ї –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ—Г—А–∞–µ–≤ –Є–Љ –љ–µ –і–Њ–ґ–і–∞—В—М—Б—П.
–Ъ—Б—В–∞—В–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤—Б—П —Н—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –ї–Є—И–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Љ–µ—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ ¬Ђ–і–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –±—Л –Є —Б–∞–Љ–Є –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ—Л –Є –Э–∞–≥–∞—Б–∞–Ї–Є —Б —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є –Є—Е –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М¬ї. –Ґ–∞–Ї –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –ґ —В–Њ–≥–і–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ —Б–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П, вАФ –∞ —В–∞–Ї–Є –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л? –Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –Я–Њ—В—Б–і–∞–Љ–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 45-–≥–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ –Р–ї–∞–Љ–Њ–≥–Њ—А–і–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤ –Љ–Є—А–µ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –±–Њ–Љ–±—Л. –Я—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –љ–µ –†—Г–Ј–≤–µ–ї—М—В, вАФ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–є, —З—В–Њ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞ –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Н—В—Г –Ј–∞–і–∞—З—Г –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М ¬Ђ—З–µ—В—Л—А–µ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е¬ї: –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е –І–ї–µ–љ–Њ–≤ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Ю–Ю–Э, вАФ –љ–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–є –µ–≥–Њ –Ґ—А—Г–Љ—Н–љ. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –°–®–Р –≤ —Ж–µ–љ—В—А —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –і–Њ–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ –љ–∞ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є.
***
–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –і–ї—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ —Б—В–∞–ї —Г–ґ–µ —А–∞—Б—З–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ —Е–Њ–і–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ю–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–µ –Њ—Б–ї–∞–±–Є—В—М –љ–∞—И –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї (—Е–Њ—В—М –Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —Г–ґ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ), вАФ —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –±—Л –љ–∞—И–Є–Љ –≥–Њ—А–µ-—Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –њ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г –Х–≤—А–Њ–њ—Л —Б –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ–Ј—Л—А–µ–є. –Э–Њ —А–∞—Б—З–µ—В—Л —Н—В–Є –±—Л–ї–Є –±–µ–Ј–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л. –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л/–њ–Њ—В–µ—А–Є –њ—А–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л, –і–∞ вАФ –і–∞–ґ–µ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –±–Њ–µ–≤ –љ–∞ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—Е –Ї –С–µ—А–ї–Є–љ—Г. –°–Ї–Њ—А–µ–µ —Г–ґ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ ¬Ђ–Ї–∞–ї—М–Ї–∞¬ї —Б –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 45-–≥–Њ, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–ї–µ–љ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤–µ—А–Љ–∞—Е—В–∞. –Ф–∞, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Є —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є —Н–Ї—Б-–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –ї–Є—З–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В, вАФ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Є –≤–Ј—П—В–Є–Є –Ъ–µ–љ–Є–≥—Б–±–µ—А–≥–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б—А–µ–і–Є –∞—В–∞–Ї—Г—О—Й–Є—Е –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Є –≤ —А–∞–Ј—Л –љ–Є–ґ–µ, —З–µ–Љ —Г –Ј–∞—Б–µ–≤—И–Є—Е –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П—Е –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤. –≠—В–Њ –Ї –ї–Є—Ж–µ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ —Б—В–µ–љ–∞–љ–Є—П–Љ —П–Ї–Њ–±—Л ¬Ђ–ї—О–±—П—Й–Є—Е –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ¬ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П вАФ ¬Ђ–∞—Е, –љ—Г –Ј–∞—З–µ–Љ –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–є–љ—Г —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М, —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є –±—Л –Є —Б–∞–Љ–Є —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М, –∞ —В–∞–Ї —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ 9 –Љ–∞—П¬ї.
–С–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –≤ —Е–Њ–і–µ –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–Њ –ґ–∞–ї–Ї–Њ. –Э–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Г–ґ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ вАФ –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –Ј–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—МвА¶ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, вАФ —З—В–Њ–±—Л –ґ–µ—А—В–≤–∞ —Н—В–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –љ–∞–њ—А–∞—Б–љ–Њ–є. –Р –≤–Њ—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В ¬Ђ–∞—Г–Ї–љ—Г—В—М—Б—П¬ї –љ–∞ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ–Є –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ. –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–µ–і—М —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –µ—Й–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 1943-–≥–Њ вАФ –µ—Б—В—М –і–∞–љ–љ—Л–µ, —З—В–Њ –У–Є—В–ї–µ—А —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –°—В–∞–ї–Є–љ—Г —В–∞–Ї–Њ–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В. –Я—А–∞–≤–і–∞, вАФ —Б –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞ –µ–≥–Њ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —А–µ–є—Е–Њ–Љ¬ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є, –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є. –Ш –њ–Њ–є–і–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В вАФ –љ–∞—И–Є –±–Њ–є—Ж—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–≥–Є–±–∞—В—М. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А—П–і –ї–Є —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ вАФ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П (–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Г–ґ–µ –Є –±–µ–Ј –У–Є—В–ї–µ—А–∞, —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–∞) –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞ –±—Л —А–µ–≤–∞–љ—И–∞. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, вАФ —З—В–Њ –µ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –±—Л –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Є –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –С—А–Є—В–∞–љ–Є—П вАФ –њ—А–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є, –∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї —Н—В–Є–Љ –њ–ї–∞–љ–∞–Љ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –°–®–Р. –Р —В–∞–Ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —И–ї–Є –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ (—В–Њ–є –ґ–µ –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є) –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –°–°–°–† (–њ—А–Є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–≤—И–Є—Е —Б–і–∞—В—М—Б—П –љ–∞—Ж–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –Ъ—Г—А–ї—П–љ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–ї–µ) вАФ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ 9 –Љ–∞—П. –Э–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –ґ–µ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Є—Е —Г–њ–Њ—А–Њ—В—Л—Е –љ–µ–і–Њ–±–Є—В–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–≤—Л–Љ–Є –Є —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ вАФ –њ—Г—Б—В—М –Є —Ж–µ–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—М?
–Ш –≤–Њ–є–љ—Г —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є –°—В–∞–ї–Є–љ –љ–∞—З–∞–ї, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ ¬Ђ—А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤—Г¬ї, вАФ —Е–Њ—В—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г. –Ю–љ-—В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Є–≥—А–∞–µ—В –Ј–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —Б —И—Г–ї–µ—А–∞–Љ–Є¬ї, вАФ –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–∞ –Є—Е –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П. –Ш –≤ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —Б –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –≤—В–Њ—А–Њ–є —Д—А–Њ–љ—В –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е вАФ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–љ—Л–є –Љ–Є—А —Б –С–µ—А–ї–Є–љ–Њ–Љ, вАФ –Є –і–∞–ґ–µ –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–Љ –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–Ъ–Ъ–Р –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–µ –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П —Г–є—В–Є –Є–Ј –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Є —Ж–µ–љ–Њ–є —Б–Њ—В–µ–љ —В—Л—Б—П—З –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—И–Є—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤.¬†–Ш –і–∞–ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є –≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–µ –≥–Њ–і—Л вАФ —В–µ –ґ–µ –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А, –¶—Г—Б–Є–Љ–∞, –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г, вАФ –і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ–ґ–µ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–і–µ—А–∞ –љ–µ —Б–∞–Љ—Г—О –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–Є–і—Л вАФ –Њ–±–Є–і–∞–Љ–Є, –љ–Њ –µ—Б–ї–Є —В–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є—В –і—А—Г–≥–Њ–є —В–≤–Њ–є,¬†–љ—Г, –њ—Г—Б—В—М –њ–Њ–Ї–∞ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї, –љ–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ–±—П –љ–Њ–ґ –Ј–∞ –њ–∞–Ј—Г—Е–Њ–є, вАФ —Н—В–Њ –ґ ¬Ђ–≤—Л—Б—И–Є–є –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Є–ї–Њ—В–∞–ґ¬ї!¬†
–Э–Њ –≤ —В–Њ–Љ-—В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —Н—В–Є–Љ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ (–∞ –љ–∞ –і–µ–ї–µ вАФ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ) –ї–∞–≤—А—Л –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л—Е –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ –± –і–ї—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –љ–µ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–є –Є —З—Г—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л. ¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞¬ї, вАФ —Б —А–Є—Б–Ї–Њ–Љ –≤ –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ–µ—А–µ–є—В–Є –≤ ¬Ђ–≥–Њ—А—П—З—Г—О¬ї, –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–∞ вАФ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ –Є –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ –≤–Њ—И–ї–Є —Б –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –≤ —З–Є—Б—В–Њ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ, –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –љ–Є—Е –≤—А–∞–≥–∞: –У–Є—В–ї–µ—А–∞. –Э–Њ, –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–∞¬ї –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–ї—П –љ–Є—Е –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –і–∞–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞.¬†–Ш –Њ—В–і–∞—В—М –Є–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–і–Є–љ–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–і –Є—Е –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Є –≤—Б—О –Р–Ј–Є—О. –Т –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л —В–µ –ґ–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –љ–µ –њ—А–µ–Љ–Є–љ—Г–ї–Є –љ–∞—В—Л–Ї–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–Ј, вАФ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–† —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–њ—А–Њ–Ї—Б–Є¬ї. –Ґ–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ъ–Є—В–∞—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, вАФ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ї–Є–і–µ—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В –І–∞–љ –Ъ–∞–є—И–Є. –Р –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В—Л –Ь–∞–Њ –¶–Ј–µ–і—Г–љ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –ї–Є—И—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, вАФ –њ–Њ–Ї–∞ —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В—Г–њ–∞—П —Б–Є–ї–∞–Љ –∞—А–Љ–Є–Є –У–Њ–Љ–Є–љ—М–і–∞–љ–∞. –Ш –Њ–Ї–∞–ґ–Є—Б—М —В–Њ—В –ґ–µ –Я–Њ—А—В-–Р—А—В—Г—А –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –љ–µ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є, –∞ вАФ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є: вАФ –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Є—Б—Е–Њ–і –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ вАФ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ 1949 –≥–Њ–і—Г –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –°—В–∞–≤—И–µ–є –≤–µ—А–љ—Л–Љ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–Љ –°–°–°–† (–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ч–∞–њ–∞–і–∞) –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –•—А—Г—Й–µ–≤ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ—И–µ–≤—Л–Љ –∞–љ—В–Є—Б—В–∞–ї–Є–љ–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –љ–µ ¬Ђ—А–∞–Ј–±–Є–ї –≥–Њ—А—И–Ї–Є¬ї —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –Я–µ–Ї–Є–љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Е ¬Ђ—Б–Ї–ї–µ–Є—В—М¬ї —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –ї–Є—И—М –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –°–Т–ЮвА¶¬†
–Ф–∞ –Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞ –°–®–Р –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ѓ–ґ–љ—Г—О –Ъ–Њ—А–µ—О, –љ–Њ –Ъ–Њ—А–µ—О –µ–і–Є–љ—Г—О, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—П–µ—В. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –ї–Є—И—М —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–Њ—А–µ–є—Б–Ї–Є–є –ї–Є–і–µ—А –љ–∞—И–µ–ї –≤ —Б–µ–±–µ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ вАФ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, вАФ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –і–∞–ґ–µ –Њ—В —П–Ї–Њ–±—Л —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Ю–Ф–Ъ–С. –Р –≤–µ–і—М –≤—Б–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ ¬Ђ–Є–≥—А–∞—О—Й–Є–µ¬ї –і–Њ —Б–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–љ—Г—Б—Л –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –°–°–°–† —Ж–µ–љ–Њ–є –њ–Њ—В–µ—А—М –≤—Б–µ–≥–Њ-—В–Њ 12 —В—Л—Б—П—З –љ–∞—И–Є—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤! –°—А–∞–≤–љ–Є–Љ—Л—Е —Б —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, вАФ–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –±–Є—В–≤–∞—Е —В–Њ–є –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –±–Њ–є—Ж–∞–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є—В—М –Є –њ–ї–µ–љ–Є—В—М –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ—Г—О(!) –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О.
–Э—Г –∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Н—В–∞ —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –µ—Й–µ –Є –њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –±–Њ–љ—Г—Б–Њ–Љ вАФ —А–µ–≤–∞–љ—И–µ–Љ –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ—Л–є –Я–Њ—А—Б—В—Б–Љ—Г—В—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А 1905 –≥–Њ–і–∞, –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –±–µ–Ј–і–∞—А–љ—Л—Е —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–≤, вАФ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В —Б–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М —Б–Њ —Б—З–µ—В–Њ–≤. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–µ–≤—Ж–∞–Љ ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ—П—В–µ–ґ–∞ –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –≤–∞—А–≤–∞—А–Њ–≤¬ї. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Ж–µ–љ–Њ–є –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—М –Є –Љ—Г–і—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, вАФ –љ–Њ –Є –љ–∞–і –і–∞–≤–љ–Є–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µвА¶
![]() вАЛ
вАЛ