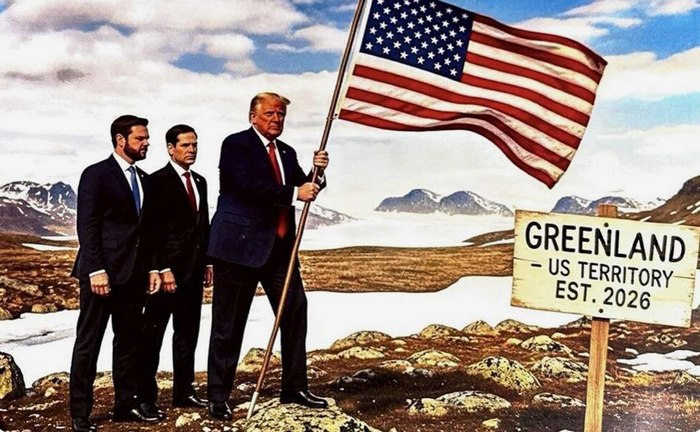–°–Є—Н—В–ї—Б–Ї–∞—П –≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ 1919 –≥–Њ–і–∞
–°–Є—Н—В–ї—Б–Ї–∞—П –≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ 1919 –≥–Њ–і–∞

–°–Є—Н—В–ї—Б–Ї–∞—П –≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ 1919 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–є –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –≤ –°–Њ–µ–і–Є–љ—С–љ–љ—Л—Е –®—В–∞—В–∞—Е –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–Є. –•–Њ—В—П –µ—С –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –≤–µ—А—Д–µ–є –љ–∞ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Г, –Њ–љ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ—А–Њ—Б–ї–∞ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ (–Р–§–Ґ) –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±–Є–Ј–љ–µ—Б–∞, –≤ —В–∞–Ї–ґ–µ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–µ —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —В—А—Г–і –±—Г–і–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.
–І–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П —Ж–∞—А–Є–ї–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. 65 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞. –С–∞—Б—В—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –µ–і—Г, —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е —Б –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–Њ –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ—Н—А–∞ –°–Є—Н—В–ї–∞, —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Р–§–Ґ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М.
–Ю–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ. –Э–µ—Г–і–∞—З–∞ —Б—В–Њ–ї—М –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е –Љ–µ—А –њ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—О –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –љ–∞ –≤–µ—А—Д—П—Е, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ –∞–љ—В–Є–њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Є ¬Ђ–Њ—Е–Њ—В—Л –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е¬ї, –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, –∞–љ—В–Є–њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ—Л–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Г —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –љ–Њ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–±, —Б–ї–µ–і—Г—П —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ, —В–∞–Ї–ґ–µ –і–∞–≤–∞–ї–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г. –Т –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ —Н—В–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –°–Є—Н—В–ї–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞–Љ–Є. –Т –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ —Н—В–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—П–ї–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –Љ–µ—З—В–∞–≤—И–Є–µ –Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —В—А—Г–і–µ.
–Ч–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞
–У–Њ—А–Њ–і –°–Є—Н—В–ї, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1853 –≥–Њ–і—Г, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М –≤–Њ–ґ–і—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є вАФ –°–Є–∞—В–ї—П, –≤ 1919 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –і–ї—П —А–µ—И–∞—О—Й–µ–є –±–Њ—А—М–±—Л —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –†–∞–±–Њ—З–Є–µ –њ–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–і–љ–Є–Љ–Є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ. –Т —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ, –њ–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е, —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ, —А–Њ–Ј–љ–Є—З–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї—П—Е –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј—Л, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –•–Њ—В—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є —В—А—Г–і–∞, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —З–ї–µ–љ—Л –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –≤—Е–Њ–ґ–Є –≤ —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є—О, –љ–Њ –Є—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є (–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Є –љ–Њ—А–Љ—Л) –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е —Г –Р–§–Ґ.
–Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –°–Є—Н—В–ї–∞ (–Њ–љ–Є –ґ–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ-—Ж–µ—Е–Њ–≤–Є–Ї–Є –љ–∞ –≤–µ—А—Д—П—Е) –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є—О —З–µ—А–µ–Ј –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—В –°–Є—Н—В–ї–∞ (–¶–Ґ–°–°). –Ю–љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї–Є –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Р–§–Ґ, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Л –і–ї—П —В–∞–Ї–Є—Е ¬Ђ–љ–µ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е¬ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є, –Ї–∞–Ї: –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В, –њ–Њ—З—В–∞–ї—М–Њ–љ –Є –њ–Њ—А—В–Њ–≤—Л–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–Є—Н—В–ї—Б–Ї–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≤–µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П –Р–§–Ґ –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л (–Є –≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є ¬Ђ—Г–Њ–±–±–ї–Є¬ї) —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞—Е –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —А—П–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –£–Њ–±–±–ї–Є (Wobblies) вАФ —Н—В–Њ —Б–ї–µ–љ–≥–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ш–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–Є—А–∞¬ї (Industrial Workers of the World, IWW). –≠—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—З–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–є –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Ј–∞ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —В—А—Г–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 20 –≤–µ–Ї–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –°–®–Р.
–Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤
–†—П–і–Њ–≤—Л–µ —З–ї–µ–љ—Л –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞—О—Й–µ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є –Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–є. –Я—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–∞—П –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞ The Union Record (–°–Њ—О–Ј–љ—Л–є –†–µ–Ї–Њ—А–і), –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї—Б—П –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–є –Ї–ї—Г–± –ї–µ–≤—Л—Е –Њ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –≥–і–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–Є, вАФ –Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–∞—П —Н–Ї—Б–Ї–ї—О–Ј–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Р–§–Ґ: –Ї–∞–Ї –Є –≤ –Ъ–∞–ї–Є—Д–Њ—А–љ–Є–Є, –Р–§–Ґ –≤ –°–Є—Н—В–ї–µ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ –Є–Ј –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –±–µ–ї—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Ј–∞ –≤—Л—В–µ—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Ш, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –°–®–Р, –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Р–§–Ґ –≤ –°–Є—Н—В–ї–µ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—П–і—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Ж–≤–µ—В–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є (–≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л—Б—П—З —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є –∞—Д—А–Њ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ.
–Ч–∞–ї–Њ–ґ–Є–≤ —Н—В—Г —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 50-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ 19 –≤–µ–Ї–∞, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Р–§–Ґ –≤ –°–Є—Н—В–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ —В—А—Г–і–∞, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є. –Т–Њ–є–љ–∞ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–ї–∞ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ —Д–ї–Њ—В–∞–Љ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Г—О –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —Б—Г–і–∞—Е –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є —Д–ї–Њ—В, –∞ –ї–Є—И—М –∞—А–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Г –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є —В.–і. –Ъ–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є —Д–ї–Њ—В–∞ (–І–Ъ–§), —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –≤–µ—А—Д—П—Е. –Ч–∞–Ї–∞–Ј—Л –І–Ъ–§, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й—С–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≤–µ—А—Д—П—Е –°–Є—Н—В–ї–∞ –≤ 1917 –≥–Њ–і—Г, –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –±—Г—А–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Т –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ —Е–Њ–Ј—П–є—З–Є–Ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–љ—П—В—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –њ—П—В–Є —В—Л—Б—П—З –љ–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Ш —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –ї—О–і–Є –≤ –Ю—А–µ–≥–Њ–љ, –Љ–∞–љ–Є–Љ—Л–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –≤–µ—А—Д—П—Е.¬†
–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–Љ—Г —З–Є—Б–ї—Г –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–Є—Е –≤–µ—А—Д–Є, —Б—В—А–Њ–Є–≤—И–Є—Е —Б—Г–і–∞ —Б–Њ —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–љ–Њ–Љ, —А—П–і—Л –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ –°–Є—Н—В–ї–∞ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є —Б 15 000 –і–Њ 60 000 –Ј–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ—А—Д–µ–є –±—Л–ї–Є —Г–Њ–±–±–ї–Є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є–Ј –Њ—В–і–∞–ї—С–љ–љ—Л—Е –ї–µ—Б–Њ–Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї–∞–≥–µ—А–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–≤–љ–µ—Б–ї–Є –≤ —Б–Є—Н—В–ї—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Є –±–Њ–µ–≤—Г—О —Б–Є–ї—Г.
–≠—Е–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є
–Э–Њ –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 10 –ї–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –Є –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞, —В–Њ –≤ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —В–∞–Є–ї–Є—Б—М –Є –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –і–ї—П –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–≥–Њ –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Ъ–ї–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є—П –≤ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–µ –Є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї—Г—О –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О 1917 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞–Є—Б–µ—А—М—С–Ј–љ–µ–є—И–Є–µ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—К—С–Љ–∞ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞ –Є —Б–њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї–µ–≤—Л—Е –≤ –°–®–Р. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –Љ–Є—А –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є –і–ї—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ. –Ъ —П–љ–≤–∞—А—О 1919 –≥–Њ–і–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–µ—А—Д–Є –°–Є—Н—В–ї–∞, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л. –Ь–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–≤–Њ–і—Л —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М —Б —А–µ–Ј–Ї–Є–Љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —З–Є—Б–ї–∞ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤.
–Э–∞ —Д–Њ–љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –≤–µ—А—Д–µ–є –°–Є—Н—В–ї–∞ –Є –І–Ъ–§ –≤–Ј—П–ї–Є –Ї—Г—А—Б –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –њ—Г—В—С–Љ. –Я–µ—А–≤–Њ–µ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –ї–µ—В–Њ–Љ 1917 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –І–Ъ–§ —Г—З—А–µ–і–Є–ї–∞ –°–Њ–≤–µ—В –њ–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О —В—А—Г–і–∞ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–є (–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Ї–∞–Ї –°–Њ–≤–µ—В –Ь—Н–є—Б–Є –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –≠–≤–µ—А–Є—В–∞ –Ь—Н–є—Б–Є) –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –Є–љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤. –°–Њ–≤–µ—В –Ь—Н–є—Б–Є –±—Л—Б—В—А–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –≥–љ–µ–≤ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –°–Є—Н—В–ї–∞, –≤–µ–і—М –Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –µ–і–Є–љ—Л–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –љ–Є–ґ–µ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –І–Ъ–§ –І–∞—А–ї—М–Ј –Я—М–µ–Ј –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–Ј–Њ–Ј–ї–Є–ї —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –љ–∞—А—Г—И–Є–≤ —Б–≤–Њ—С –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ –°–Є—Н—В–ї–∞ –≤–µ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –≤–µ—А—Д–µ–є –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О, –∞ –љ–µ –±—Л—В—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В–∞-–њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –±–∞—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–і–і–∞–ї–Є—Б—М –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–Љ, –≤–µ–і—М –µ—Й—С —И–ї–∞ –Я–µ—А–≤–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ. –Э–Њ –Њ–љ–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Н—В–Њ —Б –Њ–±–Є–і–Њ–є, –Є —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–і–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –≤–µ—А–љ—Г—В—М —Б–µ–±–µ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Г—О –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Г –Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞.¬†
–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1918 –≥–Њ–і–∞ –°–Њ–≤–µ—В –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –њ—А—П–Љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –Є –µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ—Л —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї—Г –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Б–≤–Њ–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Я–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Ј–∞—И–ї–Є –≤ —В—Г–њ–Є–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ—А–Є–±–∞–≤–Ї—Г –Ї –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ ¬Ђ—Н–ї–Є—В–љ—Л—Е¬ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є (–Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е ¬Ђ–Њ–±—Л—З–љ—Л—Е¬ї), –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –ґ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л –љ–Є–Ј–Ї–Њ–Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ. –Х—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Я—М–µ–Ј –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –≤–Љ–µ—И–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–≤ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П, –Є–ї–Є –ґ–µ —В–µ –ї–Є—И–∞—В—Б—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –і–ї—П –Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–љ–Є –ї–Є—И–∞—В—Б—П –њ—А–Є–±—Л–ї–Є. –Ш–Ј-–Ј–∞ ¬Ђ–Њ—И–Є–±–Ї–Є¬ї –њ–Њ—Б—Л–ї—М–љ–Њ–≥–Њ (–≤–µ–і—М –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–∞–ї—М–Њ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥-–Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г–≥–Њ–≤) —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –≤ –Њ—Д–Є—Б –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞, –∞ –љ–µ –≤ –Њ—Д–Є—Б—Л –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є. –Ю–љ–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–µ—З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л –љ–∞ –≤–µ—А—Д—П—Е: –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –°–®–Р, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–≤—И–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞, —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Њ—Б—М —Б–≤–µ—Б—В–Є –љ–∞ –љ–µ—В –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–µ —Ж–µ—Е–Њ–≤. –£—В—А–Њ–Љ 21 —П–љ–≤–∞—А—П 1919 –≥–Њ–і–∞ —В—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤–µ—А—Д–Є –°–Є—Н—В–ї–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞ –љ–µ —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞.
–Ь–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ –і–ї–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ...
–Я–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –њ–Њ–і –∞—В–∞–Ї–Њ–є: –±–∞–Ї–∞–ї–µ–є—Й–Є–Ї–Є –ї–Є—И–Є–ї–Є –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є—П —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞ –Њ–±–ї–∞–≤—Г –љ–∞ –Њ—Д–Є—Б—Л –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Љ–µ—И–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ–±—Л —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П. –°–Њ–≤–µ—В –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—В –°–Є—Н—В–ї–∞ (–¶–Ґ–°–°) —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—Б–µ–Њ–±—Й—Г—О –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї—Г –≤ –Ј–љ–∞–Ї —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –і–µ–±–∞—В—Л —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ.
¬Ђ–Ь—Л –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В–∞–≤—П—В –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Є, —В–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –±—Г–і–µ—В –љ–∞—И —З–µ—А—С–і¬ї, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —А–∞–±–Њ—З–Є–є-—И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, ¬Ђ–µ—Б–ї–Є –°–Є—Н—В–ї—Г —Н—В–Њ —Б–Њ–є–і—С—В —Б —А—Г–Ї, –≤–Њ–є–љ–∞ –≤—Л–є–і–µ—В –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –°–Є—Н—В–ї–∞¬ї, вАФ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –¶–Ґ–°–° –Ф–ґ–µ–є–Љ—Б –Ф—Г–љ–Ї–∞–љ. –°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–µ—А–Њ–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –°–Є—Н—В–ї –Ї–∞–Ї —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л –Є –љ–µ—Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ—Л —А–∞–±–Њ—З–Є–µ¬ї. –Я–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Њ–≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї—Г. –¶–Ґ–°–° –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –і–∞—В—Г –љ–∞ 6 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П.
–Т—Б–µ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г!
–Т —В–Њ —Г—В—А–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є. 65 000 –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–µ–≤ –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Л —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї —В—Л—Б—П—З —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –≤ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞—Е, —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞. –Т –Ї–ї—О—З–µ —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–≥—А–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ —П–њ–Њ–љ–Њ-–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –±–∞—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л –Ј–∞ —Н—В–Њ –≤—В–Њ—А–Њ—Б–Њ—А—В–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–≤—И–Є–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –љ–Њ –љ–µ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П—Е –¶–Ґ–°–°. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–Љ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П. –І—В–Њ–±—Л –љ–∞–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е, –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є–µ –њ–Њ–≤–∞—А–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є, –∞ –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –≥–Њ—А—П—З—Г—О –µ–і—Г –≤ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –±–∞—А–∞–Ї–Є, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ ¬Ђ–њ—Г–љ–Ї—В—Л –њ–Є—В–∞–љ–Є—П¬ї. –Ф–ї—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–Ї—Г –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е –±–Є–і–Њ–љ–Њ–≤ –Є –±–µ–ї—М—П –Є–Ј –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж. –Р –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л –≤–Њ–є–љ—Л –Є–Ј –Ы–µ–є–±–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Г–ї–Є—Ж—Л –±–µ–Ј –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ—Г–±–µ–і–Є—В—М¬ї —Б–Њ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –Љ–Є—А –Є –Є–Ј–±–µ–≥–∞—В—М —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–є —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і 6 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П.
–≠—В–Є –Љ–µ—А—Л –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—О. –Э–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –∞–љ—В–Є–њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –¶–Ґ–°–° –Љ–Њ—Й–љ—Л–є —Г–і–∞—А. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Ї–∞—Б–∞–ї—Б—П Seattle City Light (–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П –°–Є—Н—В–ї–∞: –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –і–∞—О—Й–µ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г). –¶–Ґ–°–° –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —А–µ—И–Є–ї, —З—В–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –і–ї—П —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ—С–≤ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М. –Ь—Н—А –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ю–ї–µ –•—Н–љ—Б–Њ–љ, –њ–Њ–і —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї—Г –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї—Ж–Є–µ–є –Є 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї —Г–ї—М—В–Є–Љ–∞—В—Г–Љ: –ї–Є–±–Њ –≤—Л –і–∞—С—В–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М Seattle City Light –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М, –ї–Є–±–Њ –µ—О –±—Г–і–µ—В —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –≥–≤–∞—А–і–Є—П.¬†
–Я—А–µ—Б—Б–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї–∞ –љ–µ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –¶–Ґ–§–§, –∞ —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е —И—В—А–µ–є–Ї–±—А–µ—Е–µ—А–Њ–≤ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–Є—П. –®—В—А–µ–є–Ї–±—А–µ—Е–µ—А—Л вАФ —Н—В–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є —Б–∞–ґ–∞—О—В –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞, —З—В–Њ–±—Л —В–µ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї–Є –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Э–Њ –≤ –°–Є—Н—В–ї–µ –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–µ –љ–∞—И–ї–Њ—Б—М, –Є –Є—Е —Е–Њ–Ј—П–є—З–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≤–Њ–Ј–Є—В—М –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є –Р–§–Ґ, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М, —З—В–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –≤ –°–Є—Н—В–ї–µ —Б–Њ—А–≤—С—В –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ —Б—В—А–∞–љ—Л, –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї—Г –љ–µ—Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –∞–Ї—Ж–Є–µ–є, —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –Є –њ—А–Є–≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Є –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞—В—М —Г—Б—В–∞–≤—Л –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤. –І—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –±—Л –Є—Е –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —Б –і–≤—Г—Е —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–≤, –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ј–∞—В–Є—Е–ї–∞. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є—Е –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г, 8 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –∞ –Ї –њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї—Г –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—Б—В–∞. –¶–Ґ–§–§ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї –∞–Ї—Ж–Є—О –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М, 11 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П.
–Т—Л–≤–Њ–і—Л. –Ш—В–Њ–≥–Є. –†–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є
–Х—С –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –±—Л–ї–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ–Є. –° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—Д–µ–є–љ—Л—Е —Ж–µ—Е–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–Є –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї–Є –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Г. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є—Б—М, —Б–Є—Н—В–ї—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Є—Е ¬Ђ–Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л–є —Ж–µ—Е¬ї. –Ч–∞–Ї—А—Л—В—Л–є —Ж–µ—Е, –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞. –Т —А—П–і–∞—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –ї–Є–і–µ—А–Њ–≤-–±–Њ–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–љ—Ж—Г ¬Ђ–і—Г–љ–Ї–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞¬ї вАФ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–љ—Л–Љ–Є –і–µ—П—В–µ–ї—П–Љ–Є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.¬†
–Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Б–Є–ї–Є–ї–Є—Б—М. –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –∞–≥–µ–љ—В—Л –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –≥–∞–Ј–µ—В ¬Ђ–£–Њ–±–±–ї–Є¬ї –Є ¬Ђ–Ѓ–љ–Є–Њ–љ –†–µ–Ї–Њ—А–і¬ї –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ –≤ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–Љ —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ, –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ–µ, –Є –њ–Њ–і—Б—В—А–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ї –Љ—П—В–µ–ґ—Г, —З—В–Њ, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–µ–і–≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ —А–µ–є–і–Њ–≤ –Я–∞–ї–Љ–µ—А–∞. –Ь—Н—А –•—Н–љ—Б–Њ–љ —Б—В–∞–ї –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ, –±—А–Њ—Б–Є–≤ –≤—Л–Ј–Њ–≤ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ—Г (–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г –і–ї—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М).
–Э–Њ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П —В—А—Г–і–∞ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–є. –•–Њ—В—П –Њ–љ–∞ –Є –љ–µ –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–∞–і –љ–∞—С–Љ–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ, –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ —В—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±–Њ–є—В–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ –≤ —Б—Д–µ—А–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–≤ –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П. –≠—В–∞ –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –≤–µ—В–≤—М —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –°–Є—Н—В–ї–∞ –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–ї–∞ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1919 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Њ–љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л, –Њ—Е–≤–∞—В–Є–≤ —Б—В–Є–≤–Є–і–Њ—А–љ—Л–µ (—Н—В–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–µ –Є —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Ї–µ —Б—Г–і–Њ–≤), –Љ—П—Б–љ—Л–µ, –њ–∞—А–Є–Ї–Љ–∞—Е–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Є —Б–±–µ—А–µ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤—Л–µ –Є –≥–∞–ї–∞–љ—В–µ—А–µ–є–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—Л –Є –љ–∞–±–Є—А–∞—О—Й—Г—О –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М –≥–∞–Ј–µ—В—Г ¬Ђ–Ѓ–љ–Є–Њ–љ –†–µ–Ї–Њ—А–і¬ї. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ¬ї –≤—Л–≥–љ–∞–ї–Є –Є–Ј –њ–∞—А—В–Є–Є, –Ј–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –ї–µ–≤—Л–Љ–Є.
–Т –±–Њ–ї–µ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е –Є –Є—Е –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З—С–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є –≤ –±–∞–Ј–Њ–≤—Л—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї—П—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–≥–Њ—А–љ–Њ–і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–є, —Б—В–∞–ї–µ–ї–Є—В–µ–є–љ–Њ–є) –Є вАФ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ (–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П —Г–≥—А–Њ–Ј–∞). –°–Є—Н—В–ї—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є–Ј –°–Є—Н—В–ї–∞ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј, –≥–і–µ –Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ. –Э–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П...
–Ю –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –ї–Є—Ж–∞—Е –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є:
–Ф–ґ–µ–є–Љ—Б –Ф—Г–љ–Ї–∞–љ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-—Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –±—Л–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—С–Љ –¶–Ґ–°–° –≤ 1919 –≥–Њ–і—Г. –С—Г–і—Г—З–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ, –Њ–љ –±—Л–ї —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ ¬Ђ–њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ¬ї –ї–Є–і–µ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –≤ –°–Є—Н—В–ї–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ, –љ–Њ –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –±–∞–ї–ї–Њ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ—Б—В –Љ—Н—А–∞ –≤ 1920 –≥–Њ–і—Г.
–У–∞—А—А–Є –Ю–ї—В, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ Union Record, –≤—Л—А–Њ—Б –≤ –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–µ Equity –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –С–µ–ї–ї–Є–љ–≥—Е–µ–Љ–∞, —И—В–∞—В –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ. –Ю–љ –±—Л–ї –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В–Њ–Љ –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –Є –і–Њ –Ф—Г–љ–Ї–∞–љ–∞ –±—Л–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—С–Љ CLC. –Т —Б–≤–Њ–µ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ –Њ–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –Ј–∞ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ –Є –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л.
–Р–љ–љ–∞ –Ы—Г–Є–Ј–∞ –°—В—А–Њ–љ–≥, –±—Л–ї–∞ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–µ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л Union Record —Б 1918 –њ–Њ 1921 –≥–Њ–і. –Х—С —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П ¬Ђ–Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –≥–і–µ¬ї, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1919 –≥–Њ–і–∞, —Б—В–∞–ї–∞ –≥–Є–Љ–љ–Њ–Љ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–є –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –°—В—А–Њ–љ–≥ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б –ї–µ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є, –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ—З—С—В–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—П –Ь–∞–Њ –¶–Ј—Н–і—Г–љ–∞.
–Ю–ї–µ –•—Н–љ—Б–Њ–љ, –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А –≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞–љ –Љ—Н—А–Њ–Љ –°–Є—Н—В–ї–∞ –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г. –Ф–Њ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є –Њ–љ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–љ—П–ї —Б—В–∞—В—Г—Б –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П, —Г—И–µ–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П –Ї–∞—А—М–µ—А–Њ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞.
–®–∞—А–ї—М –Я—М–µ–Ј, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Є –±–Є–Ј–љ–µ—Б–Љ–µ–љ, –±—Л–ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –І–Ъ–§ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є. –Я–†–Ю–Ф–Ю–Ы–Ц–Х–Э–Ш–Х –°–Ы–Х–Ф–£–Х–Ґ
![]() вАЛ
вАЛ