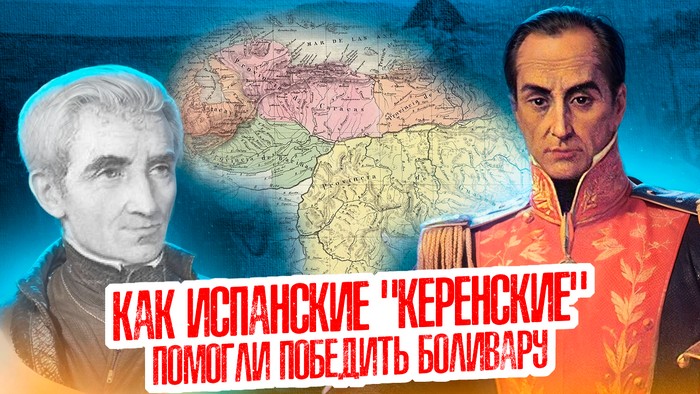–≠–Љ–±–∞—А–≥–Њ –°–®–Р –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ—Г–±—Л 1960: —В–Њ—З–µ—З–љ—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л
–≠–Љ–±–∞—А–≥–Њ –°–®–Р –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ—Г–±—Л 1960: —В–Њ—З–µ—З–љ—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л

–†–Њ–≤–љ–Њ 65 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1960 –≥–Њ–і–∞, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ф—Г–∞–є—В–∞ –≠–є–Ј–µ–љ—Е–∞—Г—Н—А–∞ –Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н–Љ–±–∞—А–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ъ—Г–±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ–є –∞–Ї—Ж–Є–µ–є. –≠—В–Њ –±—Л–ї —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–є, —Е–Њ—В—П –Є –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї—Л–є —Е–Њ–і вАФ –≤ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ–µ —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –§–ї–Њ—А–Є–і—Л. –І—В–Њ–±—Л –њ–Њ–љ—П—В—М —Б—Г—В—М, –љ—Г–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ—Л–є —Г–Ї–∞–Ј, –∞ вАФ –Ї–∞–Ї –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—О —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–њ–љ–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є –°–®–Р –љ–∞ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –§–Є–і–µ–ї—П –Ъ–∞—Б—В—А–Њ. –Р –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–ЇвА¶
–Т –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –љ–∞ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Ъ–∞—Б—В—А–Њ вАФ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–љ—П–ї –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–≤—Л–ґ–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Я—А–Є—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞ –Ъ—Г–±–µ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 1959 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А–∞ –§—Г–ї—М—Е–µ–љ—Б–Є–Њ –С–∞—В–Є—Б—В—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1960 –≥. —Н—В–Є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л —А—Г—Е–љ—Г–ї–Є. –Ъ —Б—В–∞–і–Є–Є –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–њ–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П:
–Х—Й–µ –≤ 1959 –≥. –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –∞–≥—А–∞—А–љ–∞—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞, —Н–Ї—Б–њ—А–Њ–њ—А–Є–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –ї–∞—В–Є—Д—Г–љ–і–Є–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –±—Г—А–ґ—Г–∞ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П–Љ: —В–∞–Ї–Є–Љ –Ї–∞–Ї, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, United Fruit (—Б–∞—Е–∞—А–љ—Л–є —В—А–Њ—Б—В–љ–Є–Ї, ¬Ђ—Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј–Ї–∞¬ї); –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ–≥–ї–Њ–Љ–µ—А–∞—В –Є–Ј –Ґ–µ—Е–∞—Б–∞ The King Ranch; ¬Ђ—В–∞–±–∞—З–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ—Б—В—А—Л¬ї —Б–µ–Љ—М—П –§—Н–љ—И–Њ—Г, –Љ–љ. –і—А.¬†
–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –ґ–µ —В–Њ—З–Ї–Њ–є –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ-–Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1960 –≥–Њ–і–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–≤:¬†
- —Б–∞—Е–∞—А–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤,¬†
- —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є ITT,¬†
- —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–≤,¬†
- –љ–µ—Д—В–µ–њ–µ—А–µ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ–љ–µ—Д—В—П–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞¬ї 1960-–≥–Њ: –Ј–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ Esso, Standard Oil –Є Shell etc. вАФ –њ–µ—А–µ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –љ–µ—Д—В—М.¬†
–Ю–±—Й–Є–є —Г—Й–µ—А–± –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ ~$1-2 –Љ–Є–ї–ї–Є–∞—А–і–∞ –њ–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї—Г—А—Б—Г. –Т—Б–µ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ¬†–Ъ–∞—Б—В—А–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є вАФ –њ—А–Є—В–Њ–Љ –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ: вАФ –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї –°–°–°–†. –Т —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1960 –≥–Њ–і–∞ –≤–Є—Ж–µ-–њ—А–µ–Љ—М–µ—А –°–°–°–† –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –У–∞–≤–∞–љ—Г. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –°–°–°–† –Њ–±—П–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞–Ї—Г–њ–∞—В—М –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–∞—Е–∞—А, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –љ–µ—Д—В—М, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –Ї—А–µ–і–Є—В—Л. –Ф–ї—П –°–®–Р —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –Ъ—Г–±–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Њ-–Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А –•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л! –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –љ–∞ —В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ–∞ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–є, –Њ–љ–∞ —Б—В–Њ–Є—В —В–Њ–≥–ЊвА¶
–Ч–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞
–Э–∞—З–∞–ї–Њ 1960 –≥–Њ–і–∞... –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –§–Є–і–µ–ї—П –Ъ–∞—Б—В—А–Њ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–∞, –љ–Њ –Ъ—Г–±–∞ –µ—Й—С –љ–µ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –°–®–Р —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є–і–µ—А–∞ —Б–Њ –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б—В—Г—Й–Є–Љ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –•—А—Г—Й—С–≤, –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –¶–Ъ –Ъ–Я–°–°, —А–µ—И–∞–µ—В –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –≤ –У–∞–≤–∞–љ—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ¬ї вАФ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–∞ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ–∞. –Ч–∞–і–∞—З–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–∞—П: –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ —Н—В–Є –Њ–±–≤–µ—И–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–Њ–≥ –і–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ ¬Ђ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –±–Њ—А–Њ–і–∞—З–Є¬ї, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Є —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є–Љ–µ—В—М —Б –љ–Є–Љ–Є –і–µ–ї–Њ? –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–≤–Њ–і вАФ –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–є –≤ –У–∞–≤–∞–љ–µ. –Э–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П —Ж–µ–ї—М –±—Л–ї–∞ вАФ –Ј–∞–≤—П–Ј–∞—В—М –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П.
–Т—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –≤–Є–Ј–Є—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –±—Л–ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —В–µ—Е —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–є –љ–∞ —Б—В—Л–Ї–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є –∞–≤–∞–љ—В—О—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–∞ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ–∞ –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г –≤ 1960 –≥. вАФ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—В, вАФ —В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П ¬Ђ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П¬ї –≤ –і—Г—Е–µ —И–њ–Є–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–Є–ї–ї–µ—А–∞. –Я—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П вАФ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤—Б—С –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є ¬Ђ–љ–µ–≤–Ј—А–∞—З–љ–Њ–є¬ї —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —В—А–Є–≤–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ-—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞!
–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ —Б–Њ—И—С–ї —Б —В—А–∞–њ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–∞, –µ–≥–Њ –ґ–і–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —И–Њ–Ї. –У–∞–≤–∞–љ–∞ –±—Г—А–ї–Є–ї–∞, —Е–Љ–µ–ї–µ–ї–∞ –Њ—В —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –Я–Њ–≤—Б—О–і—Г –±—А–Њ–і–Є–ї–Є –≤–µ—Б—С–ї—Л–µ, –њ—М—П–љ–Њ-–Ј–∞—А–Њ—Б—И–Є–µ –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—Ж—Л —Б –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є, –≥—А–µ–Љ–µ–ї–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞; –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ, —А–∞–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ј–∞–њ–∞—Е —Б–Є–≥–∞—А. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В —Б–Њ –Ј–ї–∞—В–Њ–≥–ї–∞–≤–Њ–є —З–Њ–њ–Њ—А–љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є. –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≥—Г—А–Љ–∞–љ –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–ї—О–±, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ –љ–∞—И—С–ї –Њ–±—Й–Є–є —П–Ј—Л–Ї —Б –§–Є–і–µ–ї–µ–Љ –Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–Њ–Љ –†–∞—Г–ї–µ–Љ. –Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞ –≥–ї–∞—Б–Є—В, —З—В–Њ –Є—Е –њ–µ—А–≤–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –і–ї–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—З—В–Є —Б–µ–Љ—М —З–∞—Б–Њ–≤! –Ю–±–ї–∞–і–∞–≤—И–Є–є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В—М—О, –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –±–µ–Ј –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є, —З—В–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї –Э.–°. –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –µ–і–≤–∞ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї. –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ–± –°–°–°–†, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞—Б—В—А–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Є–Ј–ї–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –Є–і–µ–Є –Є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –Є –ї–Є—З–љ–∞—П —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—П. –Ю–њ—Л—В–љ—Л–є –њ–∞—А—В–Є–µ—Ж, —Б–∞–Љ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А, 65-–ї–µ—В–љ–Є–є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –±—Л–ї –Њ–±–∞—П—В–µ–ї–µ–љ, –≥–Є–±–Њ–Ї, –Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ —Г–Љ–µ–ї –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞—В—М —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ –љ–µ –і–∞–≤–Є–ї –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є, –∞ –≤—С–ї —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б—В—А–µ–ї—П–љ—Л–є –≤ –±–Њ—П—Е –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ¬ї —Б—В–∞—А—И–Є–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й.
–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–є —В–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–µ... –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ, –Ъ–∞—Б—В—А–Њ —Б–Њ —Б–≤–Є—В–Њ–є —Г–ґ–Є–љ–∞–ї–Є –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ –≥–∞–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–≠–ї—М-–Ь–Њ—А–Њ—З–µ¬ї. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Ї –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ—Г –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–љ—В –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –µ–Љ—Г –Ї–Њ–Ї—В–µ–є–ї—М ¬Ђ–Ф–∞–є–Ї–Є—А–Є¬ї:
вАФ –°–µ–љ—М–Њ—А, –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–ґ–µ–љ—В–ї—М–Љ–µ–љ–∞.
–≠—В–Њ –±—Л–ї –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —И–њ–Є–Њ–љ—Б–Ї–Є–є —В—А—О–Ї. –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ, –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—П, —З—В–Њ –љ–∞–њ–Є—В–Њ–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ, –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П, –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–ї, –љ–Њ вАФ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Є–ї –±–Њ–Ї–∞–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ю–љ –љ–µ –њ—А–Є—В—А–Њ–љ—Г–ї—Б—П –Ї —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є—О. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ ¬Ђ–і–ґ–µ–љ—В–ї—М–Љ–µ–љ–Њ–Љ¬ї –±—Л–ї, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –∞–≥–µ–љ—В –¶–†–£. –°–µ–є –Ї—Г—А—М—С–Ј–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –ї–Є—И–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л.
–Р –≤–Њ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П. –Ю –≤—Б—В—А–µ—З–µ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ–∞ —Б –•–µ–Љ–Є–љ–≥—Г—Н–µ–Љ —Г –љ–µ–≥–Њ ¬Ђ–љ–∞ –і–∞—З–µ¬ї –≤ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М–µ –У–∞–≤–∞–љ—Л, –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞ (–Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–∞) —Б ¬Ђ–Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї вАФ –Э. –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–∞ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Г—В—Л–ї–Њ–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–і–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –і—П–і—П –•—Н–Љ —В—Г—В –ґ–µ —А–µ—И–Є–ї –Њ—В–Ї—Г–њ–Њ—А–Є—В—М –Є –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–µ—В—М—Б—П, –љ–ЊвА¶ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј —И—В–Њ–њ–Њ—А–∞. –Ц—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В –У–µ–љ—А–Є—Е –С–Њ—А–Њ–≤–Є–Ї, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≤–Ј—П–ї –≤–Њ–і–Ї—Г –Є –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –µ—С —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ –ї–∞–і–Њ–љ—М—О —Б–љ–Є–Ј—Г, –њ–Њ –і–Њ–љ—Л—И–Ї—Г: ¬Ђ–Ґ–µ–њ–µ—А—М —П –њ–Њ–љ—П–ї, –Ї–∞–Ї –°–°–°–† –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї¬ї, вАФ –њ–Њ—И—Г—В–Є–ї –•–µ–Љ–Є–љ–≥—Г—Н–є. –Э–∞ –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–µ –Э. –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Ї–љ–Є–≥–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Ъ–∞—А–Љ–µ–љ–∞ –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞вА¶ [–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ –≤–Є–і–µ–ї—Б—П –Є —Б –І–µ –У–µ–≤–∞—А–Њ–є, –љ–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –і—А—Г–≥–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—ПвА¶]¬†
–Т–Њ–Њ–±—Й–µ, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М, –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ –±—Л–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –љ–µ—Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Ю–љ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї—Г—О —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї—Г, –≥–і–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј–Ї—Г –±–∞–љ–∞–љ–Њ–≤. –Т–Є—Ж–µ-–њ—А–µ–Љ—М–µ—А —Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–ї –µ—С –љ–∞ –њ–ї–µ—З–Њ, —З–µ–Љ –њ—А–Є–≤—С–ї –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤. –≠—В–Њ—В –Ї–∞–і—А –Њ–±–Њ—И—С–ї –≤—Б–µ –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Є —Б—В–∞–ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ ¬Ђ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є¬ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є–Є. –Э–Њ –±—Л–ї –Є –і—А—Г–≥–Њ–є, –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ—А–Є—С–Љ–Њ–≤ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ—Г –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —Б–Є–≥–∞—А—Г. –Ю–љ, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–≤–Ј—П—В—Л–є –Ї—Г—А–Є–ї—М—Й–Є–Ї, –≤–Ј—П–ї –µ—С, –љ–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ј–∞–Ї—Г—А–Є—В—М, –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, –њ–Њ–љ—О—Е–∞–ї, –њ–Њ–Ї—А—Г—В–Є–ї –≤ –њ–∞–ї—М—Ж–∞—Е, вАФ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞—П—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, вАФ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–ґ—С–≥. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Г –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Ъ—Г–±—Л. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ—Б—В –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ.
–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ґ–Т –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В:
–Я–Њ –Є—В–Њ–≥—Г –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ–∞, –њ—А–Њ–і–ї–Є–≤—И–∞—П—Б—П 10 –і–љ–µ–є, —Г–≤–µ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –°–®–Р, –Њ–љ —Б–Љ–Њ–≥:
–Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П –Њ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –і–Є–њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –°–°–°–† –Є –Ъ—Г–±–Њ–є, –њ—А–µ—А–≤–∞–љ–љ—Л—Е –µ—Й—С –њ—А–Є –С–∞—В–Є—Б—В–µ. [–Ф–Њ –њ–Њ–±–µ–і—Л –Ъ—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –≤ 1959 –≥. –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –°–°–°–† –Є –Ъ—Г–±–Њ–є –±—Л–ї–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б 1952.]
–Ч–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –і–ї—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є: –°–°–°–† —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ј–∞–Ї—Г–њ–∞—В—М –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–∞—Е–∞—А, вАФ —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ –і–ї—П –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, вАФ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –љ–µ—Д—В—М.
–£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –ї–Є—З–љ–Њ–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ —Б –§–Є–і–µ–ї–µ–Љ –Ъ–∞—Б—В—А–Њ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Є–Ј–Є—В–∞ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ–∞ –Ъ–∞—Б—В—А–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ –°–°–°–† –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –љ–∞–і—С–ґ–љ—Л–Љ –њ–∞—А—В–љ—С—А–Њ–Љ.
–Я–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —В–Њ—З–Ї–Њ–є –љ–µ–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞. –Т—Б–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і, –≤ 1961 –≥–Њ–і—Г, –§–Є–і–µ–ї—М –Ъ–∞—Б—В—А–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є—В –Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –∞ –≤ 1962 –≥. –Љ–Є—А –±—Г–і–µ—В —Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ —П–і–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є–Ј-–Ј–∞ –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞... –Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –ґ–µ –≤—Б—С –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —В–Њ–є —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є, –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –і—А–∞–Љ–∞—В–Є–Ј–Љ–∞ –Є —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є–Є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–∞ –Ь–Є–Ї–Њ—П–љ–∞ вАФ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞–ґ—С–≥ –њ–µ—А–≤—Г—О —Б–Є–≥–∞—А—Г –і—А—Г–ґ–±—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –Є –У–∞–≤–∞–љ–Њ–є.
¬Ђ–°–∞—Е–∞—А–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞¬ї
–Т –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ъ–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б –°–®–Р —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–ї –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–≤–Њ—В—Л –љ–∞ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Ї—Г –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞—Е–∞—А–∞ вАФ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞. –≠–є–Ј–µ–љ—Е–∞—Г—Н—А –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Н—В–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –≤ –Є—О–ї–µ 1960 –≥., –љ–∞–љ–µ—Б—П —Б–Њ–Ї—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А –њ–Њ –±—О–і–ґ–µ—В—Г –У–∞–≤–∞–љ—Л. –°–°–°–† –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, –Ј–∞—П–≤–Є–≤, —З—В–Њ –Ї—Г–њ–Є—В –≤–µ—Б—М —Б–∞—Е–∞—А, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –°–®–Р. –°—Г—В—М –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞ –Њ–± —Н–Љ–±–∞—А–≥–Њ –Њ—В 19 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1960 –≥., –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –≠–є–Ј–µ–љ—Е–∞—Г—Н—А–Њ–Љ, –±—Л–ї –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–Њ–є, –∞ —Ж–µ–ї–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Н–Љ–±–∞—А–≥–Њ –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В. –Х–≥–Њ –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є: –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–ї—Б—П —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В –≤—Б–µ—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –Є–Ј –°–®–Р –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г. –Т –≤–Є–і–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї—Г–±–Є–љ—Ж–∞–Љ –Ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ. –≠—В–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –љ–µ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–Љ –ґ–µ—Б—В–Њ–Љ, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В вАФ –њ—А–∞–≥–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ —А–∞—Б—З—С—В–Њ–Љ.
–Ю–љ–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ—Г –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–є –≤ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–µ –Є вАФ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–ї—Г—З–Є–Ї –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л¬ї —Б –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ—Г–±—Л, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ—В–і–µ–ї—П—П –µ–≥–Њ –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ъ—Г–±—Г, –∞ –Ј–∞–і—Г—И–Є—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г. –Ч–∞–њ—А–µ—В –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, –Ј–∞–њ—З–∞—Б—В–µ–є –і–ї—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Љ–∞—И–Є–љ –Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–∞—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ, —Б–њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –Ї–Њ–ї–ї–∞–њ—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–≤–µ—А–≥–љ–µ—В —А–µ–ґ–Є–Љ –Ъ–∞—Б—В—А–Њ. –Э–ЊвА¶ –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –±—Л–ї–Є –љ–µ–і–Њ–Њ—Ж–µ–љ–µ–љ—Л, —З—В–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –ї–Є—И—М —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ —Н—Б–Ї–∞–ї–∞—Ж–Є–Є. –†–∞—Б—З—С—В –≠–є–Ј–µ–љ—Е–∞—Г—Н—А–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –±–µ–Ј –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –Є —А—Л–љ–Ї–∞ —Б–±—Л—В–∞ —Б–∞—Е–∞—А–∞ –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ —А—Г—Е–љ–µ—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Є—П –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –љ–µ —Г—З–ї–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤:
–≠—В–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –°–°–°–† –Ї —Й–µ–і—А–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є: –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –∞ –њ—А–µ–≤–Ј–Њ–є—В–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О, –≤–Є–і—П –≤ –Ъ—Г–±–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ.
–Ъ–Њ–љ—Б–Њ–ї–Є–і–Є—А—Г—О—Й–Є–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В: –≤–љ–µ—И–љ—П—П —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ —Б–њ–ї–Њ—В–Є–ї–∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ъ–∞—Б—В—А–Њ. –≠–Љ–±–∞—А–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –∞–Ї—В ¬Ђ–Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є¬ї, –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ –ґ—С—Б—В–Ї–Є–µ –Љ–µ—А—Л –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—В—А–∞–љ—Л.
–≠—Д—Д–µ–Ї—В –і–Њ–Љ–Є–љ–Њ: —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ —Н–Љ–±–∞—А–≥–Њ (–љ–µ –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й–µ–µ, —Б –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є) –љ–µ —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ, –њ—А–Є–≤–µ–і—П –Ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —Н—Б–Ї–∞–ї–∞—Ж–Є–Є. –Т—Б–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, 3 —П–љ–≤–∞—А—П 1961 –≥–Њ–і–∞, –°–®–Р —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –Ъ—Г–±–Њ–є. –Р 3 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1962 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –Ф–ґ–Њ–љ –§. –Ъ–µ–љ–љ–µ–і–Є, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, –і–∞–љ–љ—Л—Е –≠–є–Ј–µ–љ—Е–∞—Г—Н—А–Њ–Љ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї —Г–Ї–∞–Ј –Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н–Љ–±–∞—А–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Н–Љ–±–∞—А–≥–Њ –Њ—В 19 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1960 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–µ —Д–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ, –∞ —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ґ–Њ –±—Л–ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Є–ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –∞ –Ъ—Г–±–∞ –Є –°–®–Р –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–љ—О—О —Н–њ–Њ—Е—Г –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—Й—Г—Й–∞—О—В—Б—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А.
![]() вАЛ
вАЛ