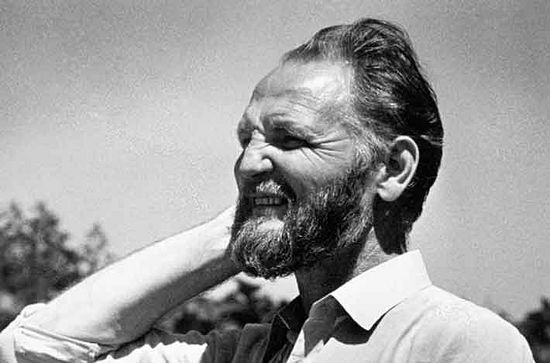–®—В—Г—А–Љ –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞
–®—В—Г—А–Љ –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞

–Я–†–Ю–Ф–Ю–Ы–Ц–Х–Э–Ш–Х. –Я–†–Х–Ф–Ђ–Ф–£–©–Х–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ
–Ф–Њ—Б–њ–µ—Е –Ц–∞–љ–љ—Л –ґ–µ –Р—А–Ї –±—Л–ї –њ–Њ–Ї—А—Л—В —В–Њ–ї—Б—В—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Э–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ—В—А–∞—В–Є–ї–Є –њ—П—В—М –Ї–Є–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ —Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Ф–Њ—Б–њ–µ—Е –±—Л–ї –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є, ¬Ђ–Љ–Є–ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї —В–Є–њ–∞, –µ—Й—С –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–є, –Ј–∞—В–Њ ¬Ђ–Ї—Г—А—В—Г–∞–Ј–љ—Л–є¬ї. –Э–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤–ї–µ–Ј–ї–∞ –≤ –љ–µ–≥–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Њ–±–Њ–Є—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–∞–ґ–µ–є –Є —З—Г—В—М –њ–Њ—С–ґ–Є–ї–∞—Б—М вАФ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ–Ї—Г—А—В—Г–∞–Ј–љ–Њ–Љ¬ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–µ!
–Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –і–Њ—Б–њ–µ—Е –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–∞–ї–Њ–≤–∞—В вАФ —З—Г—В—М ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–∞ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–Ї–∞¬ї, –Ї–∞–Ї –≤ —В–Њ–Љ —Д–Є–ї—М–Љ–µ. –Ф—А—Г–≥–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ вАФ –Ј–љ–∞–Љ—С–љ–∞вА¶ –Ю—Б–≤—П—В–Є–ї –Ј–љ–∞–Љ—П –Ю—А–ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–≤—Л —И–Њ—В–ї–∞–љ–і–µ—Ж –±–∞—А–Њ–љ–µ—В –Ф–ґ–Њ–љ –Ъ–Є—А–Ї-–Ь–∞–є–Ї–ї (–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Ъ–∞—А–Љ–∞–є–Ї–ї?), –±—Л–≤—И–Є–є –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞, –∞ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –Љ–∞–Ї–µ—В –Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–µ –і—А—Г–≥–Њ–є —И–Њ—В–ї–∞–љ–і–µ—Ж вАФ –ї–Њ—А–і –Ф–ґ–µ–є–Љ—Б –°–Ї–Њ—В—В –Я–Њ–ї–≤–∞—А—В. –Э–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –ї–Њ—А–і –Ф–ґ–µ–є–Љ—Б –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Ю—Б—В–∞–њ–∞ –С–µ–љ–і–µ—А–∞ –љ–∞ –∞–≥–Є—В–њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–µ, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ? –Ч–∞—В–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є –Ї–ї–∞–љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Т–∞–ї—М—В–µ—А –°–Ї–Њ—В—В, –Њ–љ –ґ–µ –±–∞—А–Њ–љ–µ—В –Р–±–±–Њ—В—Б—Д–Њ—А–і, –Є –њ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–µ–є –ї–Њ—А–і–∞ –Є —А—Л—Ж–∞—А—П —Б –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞ –Ю–і—А–Є –•–µ–њ–±–µ—А–љ.¬†
–Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —А–µ—З—М –Є–і—С—В –Њ–± –µ—С –Њ—В—Ж–µ, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ –Є–Ј –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≥—А–∞—Д–Њ–≤ –•–µ–њ–±–µ—А–љ–Њ–≤. –°—А–µ–і–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ї–Њ—А–і–∞-–ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –±—Л–ї –Є —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –∞—А–Љ–Є–Є –і–Њ—Д–Є–љ–∞ —Б—Н—А –Я–∞—В—А–Є–Ї –Ю–≥–Є–ї–≤–Є, –≤–Є–Ї–Њ–љ—В –Р–љ–≥—Г—Б, –љ–Њ –Њ–љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞–љ–∞. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –С–ї—Г–∞ –Ц–∞–љ–љ—Г –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Ж—Л, —В–Њ –±–µ–Ј —Б—Н—А–∞ –Я–∞—В—А–Є–Ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ–±–Њ—И–ї–Њ—Б—М:
вАФ –Ш –Ї–∞–Ї —Н—В–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П –Ї—А—Л—Б–∞ —Г–Љ—Г–і—А–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є—В—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ —Б—Г–і–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—А–Њ–і–Є—З–µ–є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —И–∞—В—А–µ —Б —Б–Є–љ–Є–Љ–Є –ї–Є–ї–Є—П–Љ–Є, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–Љ —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –і–µ –С—Г–±–Њ–љ–∞.
вАФ –Ъ—А—Л—Б–∞?
–≠—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї вАФ –Њ –±—А–∞—В—М—П—Е –Ф–µ–≤—Л. –Р –Њ –Ї–Њ–Љ –ґ–µ –µ—Й–µ?! –Ю —Б–≤–Њ–Є—Е –ґ–∞–і–љ—Л—Е —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—А–Њ–і–Є—З–∞—Е —Б—Н—А –Я–∞—В—А–Є–Ї, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –њ–Њ–Љ–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –ґ–µ, –Ц–∞–љ–љ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —И—Г—В–љ–Є–Ї, —З–µ–Љ –≥—А—Г–±–Є—П–љ:
вАФ –ѓ –љ–µ –∞–±—Л –Ї–∞–Ї–∞—П –Ї—А—Л—Б–∞, —Б—Н—А!
вАФ –Э–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–є –Љ–µ–љ—П ¬Ђ—Б—Н—А–Њ–Љ¬ї, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–є –≤–Є–Ї–Њ–љ—В. вАФ –ѓ –µ—Й—С –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б—В–∞—А, —З—В–Њ–±—Л –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ...
–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Ж—Л —Б—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П —Б –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—А—Л–µ вАФ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–µ. –Ф–ґ–µ–є–Љ—Б –°–Ї–Њ—В—В –Я–Њ–ї–≤–∞—А—В, –≤ –њ–Њ–і–њ–Њ—П—Б–∞–љ–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ —А–µ–Љ–љ—С–Љ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–µ –Є –≤ ¬Ђ–≤–Є–љ—В–∞–ґ–љ–Њ–Љ¬ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —И–ї–µ–Љ–µ —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–∞—Б–Ї–Њ–є –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї –њ–µ—А–µ–і –≤–Є–Ї–Њ–љ—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Љ—П –Ц–∞–љ–љ—Л –і–µ –Р—А–Ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ –ї–Є–Ї –•—А–Є—Б—В–∞. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –±–∞—А–∞–љ–∞ вАФ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –±–µ–Ј —А–Њ–≥–Њ–≤. –Т–Є–Ї–Њ–љ—В –Р–љ–≥—Г—Б –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї ¬Ђ—В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї:
вАФ –Ґ–µ–±–µ –±—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М... –¶–µ–љ—Л –±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ!
–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Ж—Л –±—Л–ї–Є —Б —Г—Б–∞–Љ–Є, —Б –±–Њ—А–Њ–і–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ –і–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ вАФ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≤–Њ–ї–Њ—Б—Л–µ –Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ. –¶–Є–љ–Є–Ј–Љ, –Ї–∞–Ї —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞, –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П ¬Ђ–Ї—А–Є–≤–Њ–≤–∞—В–Њ—Б—В—М¬ї –±—Л–ї–Є –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ–Є —З–µ—А—В–∞–Љ–Є —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Њ—А—П–љ. –Э—Г, –љ–µ —Г–Љ–µ–ї–Є –Њ–љ–Є –±—Л—В—М ¬Ђ–њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є¬ї –Ї–∞–Ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–µ–ї—Л, –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ —Н—В–Њ–≥–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±–Њ—А—М–±—Л —Б –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ–Є —Б –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є—А–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –љ–∞—Г—З–Є–ї–Є —Н—В–Є—Е –њ–∞—А–љ–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Ж–Є–љ–Є–Ј–Љ—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ... –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–µ—В—М—Б—П —Б —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞?! –Э–Є–Ї—Г–і–∞!¬†
–Ю–±—Й–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї–Є —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е —Б—Н—А–Њ–≤ –≤ —В—Г–≥–Њ–є —Е–Њ–Љ—Г—В –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Б –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –Є—А–ї–∞–љ–і—Ж–∞–Љ–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї –≤–Є–і–µ–ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л—Е —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Њ—А—П–љ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞—З–љ—Г—В—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–љ–≥–ї–Њ-—И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Л 15 –≤–µ–Ї–∞, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–љ—Г–Ї–Є –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ—А–љ—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–µ, –∞ —Б–Њ—А–Њ–і–Є—З–Є —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –±–∞—А–Њ–љ–∞ –°—В—О–∞—А—В–∞ —Б—В–∞–ї–Є —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П–Љ–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є.¬†
–С—Л–≤–∞–µ—В –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ!
–Р —Б–∞–Љ—Л–µ –і–∞–ї—М–љ–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –°—В—О–∞—А—В–Њ–≤ –ґ–Є–ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ю –љ–Є—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –§—С–і–Њ—А –®–∞–ї—П–њ–Є–љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞—Е. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Б—Н—А–∞ –Я–∞—В—А–Є–Ї–∞, —В–Њ –Њ–љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —И–∞–≥–љ—Г–ї –љ–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –±–µ—А–µ–≥ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –≤–Њ–є—Б–Ї –Ф–ґ–Њ–љ–∞ –°—В—О–∞—А—В–∞. –°–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ —В–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ –Є –Ы—Г—З–љ–Є–Ї –†–Є—З–∞—А–і –Ъ–ї–∞—А–Ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Ї –Ц–∞–љ–љ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Е—А–∞–љ–љ–Є–Ї–∞. –Р –µ—Й—С –њ—А–Є—И—С–ї –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –С–µ–љ–Є—В–µ –і–µ –Р—А–Ї–∞–њ–µ—А –Є —Б –љ–Є–Љ вАФ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л —Б–µ–љ—М–Њ—А –≤–µ—Б—М –≤ –±–µ–ї–Њ–Љ, –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–Љ –Є –≤ –ґ—С–ї—В–Њ–Љ, –Є —Б –љ–Њ–≥ –і–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ–Є –Љ–µ—Е–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ—В–Њ—А–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї –≥—А–∞—Д –Р–љ–і—А–µ –і–µ –Ы–∞–≤–∞–ї—М-–Ь–Њ–љ–Љ–Њ—А–∞–љ—Б–Є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ц–∞–љ–љ–∞ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ–є—В–Є –Љ–Є–Љ–Њ вАФ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–Њ –Р–љ–і—А–µ –і–µ –Ы–∞–≤–∞–ї—М –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ–љ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є-–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М. –Э–∞–і–Њ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї–∞—П –Њ–љ–∞, —Н—В–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–Ј –њ–Њ—А–Њ–і—Л –±–∞—Б—В–∞—А–і–Њ–≤! –Р –≤–µ–і—М —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–∞—П! –Р –љ—Г-–Ї–∞, —Г–є–і–Є –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г! –Э–Њ –Ц–∞–љ–љ–∞ –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ. –Т—А—П–і –ї–Є –Њ–љ–∞ –µ–Љ—Г –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М, –љ–Њ вАФ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–∞. –Т–µ–і—М –Њ–љ –±—Л–ї –≤ –Ї—Г—А—Б–µ –Ї—Г–ї—Г–∞—А–љ—Л—Е –і–µ–ї –≤ –®–Є–љ–Њ–љ–µ –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Ј–љ–∞–ї –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е.
вАФ –С–Њ–≥ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –Э–∞—Г–Ї–Є, вАФ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б –≥—А–∞—Д –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї: вАФ –І—В–Њ –≤—Л —В—Г—В –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–Є?
вАФ –Я–Њ—А—В—А–µ—В —Ж–∞—А—П –Є –±–Њ–≥–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ вАФ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞.
вАФ –≠—В–Њ —В—Л —В–∞–Ї –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М, –і–∞?
вАФ –Р –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ?
вАФ –Ґ—Л –µ—Й—С –Њ—Б–ї–∞ –љ–∞—А–Є—Б—Г–є –Є –≤–Њ—В —В—Г—В –љ–∞–њ–Є—И–Є вАФ ¬ЂJesus le Christ¬ї...
–Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ—А–µ–Ї–∞–љ–Є—П. –Т—Б–µ ¬Ђ—Е–Њ—Е–Љ–Є–ї–Є¬ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є. –У—А–∞—Д –і–µ –Ы–∞–≤–∞–ї—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї:
вАФ –ѓ –љ–∞—А–Є—Б—Г—О –ї—Г—З—И–µ ...
–Х–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є:
вАФ –Ш —В–∞–Ї —Б–Њ–є–і—С—В! –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —З—В–Њ–± —Н—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ.
вАФ –Р –≥–і–µ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ?
–Т–Є–Ї–Њ–љ—В –Р–љ–≥—Г—Б –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:
вАФ –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ–Ј–і–µ!
–Э–∞ —З—В–Њ –Ы–∞–≤–∞–ї—М –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:
вАФ –Ъ–∞—А—В—Г –і–∞–є —Б—О–і–∞!
–Т–Є–Ї–Њ–љ—В –Р–љ–≥—Г—Б —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–µ. –°–Њ –≤—А–µ–Љ—С–љ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ —В–∞–Ї–∞—П —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П вАФ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В—Л. –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Б–Є–ґ–Є–≤–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –±–∞—А–∞–±–∞–љ–µ вАФ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П... –Т–Њ—В –Є –≤–Є–Ї–Њ–љ—В —В–Њ–ґ–µ —А—Г–Ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї—Б—П —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–∞–Ї –Ј–∞–≤–Ј—П—В—Л–є –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є —О–Љ–Њ—А–Є—Б—В. –Ґ–Є–њ–∞ ¬Ђ–љ–∞–і –Љ–Њ–Є–Љ–Є —И—Г—В–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ —Б–Љ–µ—С—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї¬ї... –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –≤–Њ—И–ї–Є –±–∞—А–Њ–љ –Ц–Є–ї—М –і–µ –†–µ –≤ —З—С—А–љ—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞—Е –Є –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—Б–∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї –і–µ –С—Г—Б—Б–∞–Ї вАФ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ —Б—В–∞—А—Л–є, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ. –°—В–∞–≤–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –С–ї—Г–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ вАФ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ъ—О–ї–∞–љ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –і–µ –Ы–∞ –У–Є—А –Є –Я–Њ—В–Њ–љ –і–µ –°–µ–љ—В—А–∞–є–ї—М, –Є –њ—А–Є–±—Л–ї –Р–Љ–±—А—Г–∞–Ј –і–µ –Ы–Њ—А–µ вАФ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ —Б –њ–Њ—Е–Љ–µ–ї—М—П. –Я—А–Є—И–ї–Є –µ—Й—С –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —А—Л—Ж–∞—А–Є, –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ. –Т—Б–µ –±—Л–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Є–ї–Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –ї–µ—В, —Б—В–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Њ—Б—М. –£ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є-–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —А–Њ—В –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –Њ—В –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є—П вАФ –≤–Њ—В –Њ–љ–Є, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –Ф–Њ–Љ–∞ –Т–∞–ї—Г–∞. –Т–Њ—В –±—Л –µ—Й—С –†–Њ—И—Д–Њ—А–∞ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –љ–Њ –†–Њ—И—Д–Њ—А–∞ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –†–Њ—И—Д–Њ—А–∞ –±—Л–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Є–Ј –µ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ вАФ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ф–Њ–Љ–Є–љ–Є–Ї –і–µ –Ы–Њ—В—А–µ–Ї, —В–Њ–ґ–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А—Л –Ф–Є–Њ–љ–∞ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ. –Ш –Ф–Є–Њ–љ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ —В–Њ–ґ–µ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї вАФ –≤–Њ—В —Н—В–Њ –і–∞-–∞-–∞! –≠—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —З—В–Њ –Њ –љ—С–Љ —Б—В–Є—Е–Є —Б–ї–∞–≥–∞—О—В! –Ю–љ —Н–Ї–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≤–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ–µ—Ж вАФ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —В—П–ґ—С–ї—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤! –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Є—А–∞—Б–∞ —Ж–≤–µ—В–∞ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–µ–±—А–∞ —Б –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —З—С—А–љ—Л—Е –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л —И–ї–µ–Љ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Ј—Л—А—М–Ї–Њ–Љ –Є —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З —Б ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ–љ–Њ–є¬ї.
вАФ –Ъ—Г–њ–Є–ї –≤ –У–∞–∞–≥–µ, вАФ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ. вАФ –≠—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є–Ј –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Л –£–Є–ї—М—П–Љ–∞ –і–µ –С–Њ—Г—Н–љ–∞, –≥—А–∞—Д–∞ –Э–Њ—А–і–≥–µ–Љ–њ—В–Њ–љ–∞ ...¬†
–£ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є —Б–µ–±–µ –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–µ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Э–Њ –Ф–Є–Њ–љ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є. –Ю–љ –±—Л–ї –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –і–Њ—Д–Є–љ–∞, –љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї —А—Л—Ж–∞—А–µ–Љ –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Л–є —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М –≤–Њ–є–љ—Л –Є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ—Г –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є —А—Л—Ж–∞—А—П–Љ–Є, –і–∞ –µ—Й—С –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є–µ–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е —В—Г—А–љ–Є—А–љ—Л—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤.
–Э–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–љ—С—Б —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ –Ї–∞—А—В—Г! –Т–Њ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —А—Л—Ж–∞—А–Є –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, –∞ –±–Њ—А–Њ–і–∞—В—Л–µ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Ж—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є. –Я–µ—А–≤—Л–є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –µ—Й—С –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і ¬Ђ–У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є¬ї –Я—В–Њ–ї–µ–Љ–µ—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1482 –≥–Њ–і—Г, –∞ –њ–µ—А–≤—Л–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П –њ–Њ –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–і–∞–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1500-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –Є —В–Њ вАФ –≤ –Я–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї–Є–Є, –≤ –Ы–Є—Б—Б–∞–±–Њ–љ–µ. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –Ј–љ–∞—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ?!
вАФ –Э–∞–і–Њ –ґ–µ, вАФ –Є–Ј—Г–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є, –Є–Ј—Г—З–∞—П —Б–µ–є —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В. вАФ –Ъ–∞—А—В–∞ –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞...
–Ъ–∞—А—В—Г –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –Ф–Є–Њ–љ –†–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ –Є –≥—А–∞—Д –Р–љ–і—А–µ –і–µ –Ы–∞–≤–∞–ї—М, –±—Г–і—Г—Й–Є–є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ъ—О–ї–∞–љ–∞ –≥—А–∞—Д —Г–ґ–µ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –љ–∞—Г–Ї–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –≥—А–∞—Д –і–µ –Ы–∞–≤–∞–ї—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї. –Ъ–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П, –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –≤–Њ–і—Л –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –Ы—Г–∞—А–µ. –£ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї¬ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –Ї–∞–Ї —Г —Б–ї–Њ–≤–∞ —И–µ—А–Є—Д –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є: —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Є –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Њ–±–Є—Е–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤. ¬Ђ–®–µ—А–Є—Д¬ї вАФ —Н—В–Њ –≤–Њ–ґ–і—М –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –∞—А–∞–±–Њ–≤, –∞ –≤ –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—З—С—В–љ–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—И–µ—А–Є—Д –Ь–µ–Ї–Ї–Є¬ї. ¬Ђ–®–µ—А–Є—Д –Ь–µ–Ї–Ї–Є¬ї –±—Л–ї –≤—В–Њ—А—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ –Њ—Б–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –±—Л–ї, –Ї–∞–Ї –≤—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, —Б—Г–ї—В–∞–љ-—Е–∞–ї–Є—Д. –°—Г–ї—В–∞–љ-—Е–∞–ї–Є—Д –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї ¬Ђ—И–µ—А–Є—Д–∞ –Ь–µ–Ї–Ї–Є¬ї –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М. –Ш–ї–Є вАФ –љ–∞–Њ–±—А–Њ—В: ¬Ђ—И–µ—А–Є—Д –Ь–µ–Ї–Ї–Є¬ї –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ –°—В–∞–Љ–±—Г–ї –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –≤ –°—В–∞–Љ–±—Г–ї–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ –Ј–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞—П –њ—В–Є—Ж–∞ —В–∞–Ї–∞—П вАФ —И–µ—А–Є—Д? –Т –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –≤–∞–Љ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ—И–µ—А–Є—Д¬ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ—И–Є—А¬ї, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В —Б—Г–і, –Є–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ—Г—В –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–µ—А—Б–Є—О –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ—В –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є.
–≠—В–Њ –≤—Б—С –Є –њ—А–∞–≤–і–∞, –Є –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤–і–∞
–Ч–∞—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї¬ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ—Н–Љ–Є—А¬ї вАФ ¬Ђ—Н–Љ–Є—А –Љ–Њ—А—П¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–∞–Љ–Є—А-—Н–ї—М-–±–∞—Е—А¬ї, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В –љ–∞ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–≥–ї–∞–≥–Њ–ї–µ¬ї. –Ґ–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж—Л –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Р –і–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї¬ї –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –њ—А–Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є—Е —Д–ї–Њ—В–∞–Љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ, –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ, —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Є–µ, –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є –і—А–µ–≤–љ–µ—А–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї¬ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є (—Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –≥–і–µ-—В–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ 1270 –≥–Њ–і–∞) вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–Њ–µ –Є —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –®–Є–љ–Њ–љ, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –±—Л–ї –Љ–∞—А–Ї–Є–Ј –Ц–∞–Ї –і–µ –®–∞—В–Є–ї—М–Њ–љ, –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А –∞—А–±–∞–ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–љ –ґ–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Е–ї–µ–±–Њ–і–∞—А —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–≤–Њ—А–∞. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —В—Г—В –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є: –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Ј–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –≤ –®–Є–љ–Њ–љ–µ, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–≥–Њ –С—Г—А–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤–Ј—П—В–Њ–≥–Њ.¬†
–•–ї–µ–±–Њ–і–∞—А вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –≤ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ. –Т —И—В–∞—В–µ –µ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –і–∞–ґ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А–∞. –Ъ–∞–Ї –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ: –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г –Љ—Б—М–µ –і–µ –®–∞—В–Є–ї—М–Њ–љ–∞, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М —Д–ї–Њ—В–∞–Љ–Є? –Ю–± –∞—А–±–∞–ї–µ—В—З–Є–Ї–∞—Е —П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–ї—З—Г.
–Ь–∞—А–Ї–Є–Ј –і–µ –®–∞—В–Є–ї—М–Њ–љ –њ–Њ–≥–Є–± –њ—А–Є –Р–Ј–µ–љ–Ї—Г—А–µ –Є –µ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ –њ—Г—Б—В–Њ–≤–∞–ї–∞. –Р –і–Њ –љ–µ–≥–Њ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –±—Л–ї –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є —А—Л—Ж–∞—А—М –Я—М–µ—А –Ъ–ї–Є–љ—М–Є –і–µ –С—А–µ–±–∞–љ, —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ—А—П–Ї –µ—Й–µ —В–Њ—В. –Ю–љ —Б —Б–Њ–±–Њ–є —П–Ї–Њ—А—М —В–∞—Б–Ї–∞–ї, —З—В–Њ–± –љ–µ –Ј–∞–±—Л—В—М –Ј–∞–њ–∞—Е –Љ–Њ—А—П. –Э—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б—С –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ.¬†
–Ш –Ї–∞—А—В–∞ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –і–µ –Ы–∞–≤–∞–ї—П —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–∞—П вАФ –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞... –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В—Л –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–≤, –Є —В–Њ –Ї–∞—А—В—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–Є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–∞ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е –Ї–∞—А—В–∞—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л, –Ї–∞–Ї –ї–µ—В–∞—О—Й–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –Ы–∞–њ—Г—В–∞ –Є–ї–Є —Б—В—А–∞–љ–∞ –С—А–∞–Ј–Є–ї –≥–і–µ-—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –≤ —О–ґ–љ—Л—Е —И–Є—А–Њ—В–∞—Е вАФ —П–Ї–Њ–±—Л –≤—Б—С —Н—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –њ–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї—М—Ж—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–µ—В —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А –Ъ–Њ–ї—Г–Љ–± –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Г —Д–ї–Њ—А–µ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–∞ –Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –Я–∞–Њ–ї–Њ –Ґ–Њ—Б–Ї–∞–љ–µ–ї–ї–Є –љ–∞—З–љ—С—В —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В—Л, —В–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б—С –љ–∞ —Н—В–Є—Е –Ї–∞—А—В–∞—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ. –Э–Њ –Ї–∞—А—В—Л –±—Л–ї–Є –љ—Г–ґ–љ—Л.¬†
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞–Љ–Є –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –Є —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –≤—Б—В–∞–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ вАФ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О. –Р –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –∞—А–Љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –љ–Є —Б –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Є —Б —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–Ї–Њ–њ—М—С–Љ¬ї. –Т—Б–µ–Љ –љ–∞–і–Њ —Б–њ–µ—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П —Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Ї–∞—А—В–µ. –Ъ–∞–Ї –љ–∞—Б—З—С—В –њ—А–Њ–є—В–Є—Б—М –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –і–≤–Њ—А—П–љ–µ? –Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є –С—Г—Б–Є–Ї–Њ —И—С–ї –≤ –±–Њ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є, –∞ –Љ—Л —З–µ–Љ —Е—Г–ґ–µ? –Т —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –Ъ—Г—А—В—А–µ –≤ 1302 –≥–Њ–і—Г (–≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –µ—Й—С –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤) —Д–ї–∞–Љ–∞–љ–і—Б–Ї–Є–µ —А—Л—Ж–∞—А–Є —И–ї–Є –≤ –±–Њ–є –њ–µ—И–Є–Љ–Є. –Р –µ—Й—С –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П –њ–µ—И–Є–Љ–Є –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, —Н—В–Њ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ? –Ы–Њ–≥–Є—З–љ–Њ.
вАФ –†—Л—Ж–∞—А—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є —Ж–µ–ї—М—О, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±–∞—А–Њ–љ –і–µ –†–µ. вАФ –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≥–Є–± –°–Є–Љ–Њ–љ –і–µ –Ь–Њ–љ—Д–Њ—А?
–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –і–µ –Ь–Њ–љ—Д–Њ—А–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –Є–Ј –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ—С—В–∞, —Е–Њ—В—П —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М.¬†
вАФ –°—В—А–µ–ї—Л –Є –Ї–∞–Љ–љ–Є –≤–∞–ї—П—В –Ї–Њ–љ–µ–є, –∞ –љ–µ –ї—О–і–µ–є, вАФ —В–Є—Е–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –і–µ –Ы–Њ—В—А–µ–Ї.
–Ф–∞, —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–і–∞, —Н—В–Њ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–ї–Є.
–Я–Њ—Б–ї–µ –±–Є—В–≤—Л –њ—А–Є –Ъ—А–µ—Б—Б–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Б–њ–µ—И–µ–љ–љ—Л—Е —А—Л—Ж–∞—А–µ–є –Є –њ–µ—Е–Њ—В—Л. –Х—Б–ї–Є –љ–µ–Ї—Г–і–∞ —Б–Ї–∞–Ї–∞—В—М, —В–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ –ї–Њ—И–∞–і—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П?! –Т–њ–µ—А—С–і –Є–і—С—В –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Є–Ј —А—Л—Ж–∞—А–µ–є –Є –Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤, –∞ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—О—В —Д–ї–∞–љ–≥–Є вАФ –≤—Б—С –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ? –£–ґ–µ –≤ 1360 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Є –Ъ—А–µ—Б—Б–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–∞—П —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞: —А—Л—Ж–∞—А–Є –±–µ—А—Г—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –њ–µ—Е–Њ—В—Л, –∞ –њ–µ—Е–Њ—В–∞, –µ—Б–ї–Є —З—В–Њ, –Є–і—С—В –≤–њ–µ—А—С–і –Є –≤—Л—А—Г—З–∞–µ—В —А—Л—Ж–∞—А–µ–є, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Т –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –±–Є—В–≤–∞ –њ—А–Є –Р–Ј–µ–љ–Ї—Г—А–µ.
–Т –С–ї—Г–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ–∞—П –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Љ–∞—Б—Б–∞ –њ–µ—Е–Њ—В—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞—С–Љ–љ–Њ–є. –†—Л—Ж–∞—А—П–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Є–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ ¬Ђ–Ј–љ–∞—З–Ї–Њ–Љ¬ї –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–і–∞—З—Г. ¬Ђ–І—В–Њ–± –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є –Р–Ј–µ–љ–Ї—Г—А–µ¬ї, вАФ –Љ—А–∞—З–љ–Њ —И—Г—В–Є–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –Ф–Њ–Љ–∞ –Т–∞–ї—Г–∞. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є —В–∞–Љ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є, –Є –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Р–Ј–µ–љ–Ї—Г—А–µ.
¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ, –Њ–љ–Є –≤—Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–∞–љ–љ–µ—А–Њ–Љ, –Њ–і–µ–≤ –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –±–∞—Б–Є–љ—Н; –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї –љ–Є–Љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–љ–љ–µ—В–∞–±–ї—М, –Љ–∞—А—И–∞–ї –Є –њ—А–Є–љ—Ж—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї–Є –Є—Е –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞—П—В—М—Б—П –≤ –≥—А–µ—Е–∞—Е –Є —Б–Љ–µ–ї–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ. –Я—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–Є—Б—М, –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Њ—З–µ–љ—М –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —В—А—Г–±–Є—В—М –≤ —В—А—Г–±—Л –Є –≥–Њ—А–љ—Л, –∞ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, —З—В–Њ–±—Л —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М –Њ—В —Б—В—А–µ–ї –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ, –Ї–Њ–Є —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–Љ–µ–ї–Њ; —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±–µ–Є–Љ–Є –∞—А–Љ–Є—П–Љ–Є —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є–ї–Њ—Б—М, —Е–Њ—В—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ј–∞–і. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ, —З–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Њ–±—Й–Є–є –±–Њ–є, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л –±—Л–ї–Є —Г–±–Є—В—Л –Є–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є¬ї. –°–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–Њ–љ–Є—Б—В–∞ –Ц–∞–љ–∞ –Ы–µ—Д–µ–≤—А–∞ –і–µ –°–µ–љ-–†–µ–Љ–Є, –≥–µ—А–Њ–ї—М–і–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –Њ—А–і–µ–љ–∞ ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ —А—Г–љ–Њ¬ї.
–У–µ—А–Њ–ї—М–і–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –і–µ –°–µ–љ-–†–µ–Љ–Є –≤–Њ–µ–≤–∞–ї, –Ї—Б—В–∞—В–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –Ј–∞ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –њ—А–Є –Р–Ј–µ–љ–Ї—Г—А–µ —Б ¬Ђ—В–Њ–є¬ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є. –Р –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –Ф–Њ–Љ–∞ –Т–∞–ї—Г–∞ –µ–і–≤–∞ —Г–љ–µ—Б–ї–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –Р–Ј–µ–љ–Ї—Г—А–∞ –љ–Њ–≥–Є вАФ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –Њ–љ–Є –њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ –±–µ–ґ–∞–ї–Є. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞–і –Ї–∞—А—В–Њ–є. –Ш –Њ–љ–Є –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г. –Ъ–∞—А—В—Л –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞ —Г –љ–Є—Е, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Ј–∞—В–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞—А—В–∞ –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–∞—П. –£—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –∞–љ–≥–ї–Њ-—И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –µ—Б–ї–Є –± –љ–Њ—А—В—Г–Љ–±–µ—А–ї–µ–љ–і—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ –Ф–ґ–Њ–љ –•–∞—А–і–Є–љ–≥ (1378вАФ1465 –≥–Њ–і—Л) –љ–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–Є—О –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –У–µ–љ—А–Є—Е–∞ –Я—П—В–Њ–≥–Њ –Ы–∞–љ–Ї–∞—Б—В–µ—А–∞. –Ґ—А–Є –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –Ї–Њ–ї–µ—Б–Є–ї –њ–Њ –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–Є–Є –Є –≤ 1457 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Г—О —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Г—О(!!!) —Е—А–Њ–љ–Є–Ї—Г (—В–µ–Ї—Б—В –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, —Г–ґ–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–ї–Њ—Е–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ!), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –≤—Б—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Њ—В –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –і–Њ—З–µ—А—М—О —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Р–ї—М–±–Є–љ–Њ–є (–Р–љ–≥–ї–Є—П вАФ —Н—В–Њ –ґ –Р–ї—М–±–Є–Њ–љ) –Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Г—О –Ї–∞—А—В—Г —О–ґ–љ–Њ–є –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–Є–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ–Є, –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є, —А–µ–Ї–∞–Љ–Є –Є –±–Њ–ї–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ю—Б–Њ–±—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞—А—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Е–µ–Љ—Л –Є –і–Є–∞–≥—А–∞–Љ–Љ—Л (–≤–Њ—В —В–∞–ї–∞–љ—В–Є—Й–µ), –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ –љ–∞ —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Ф–Є–∞–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —В–Њ—З–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є. –Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Н—В–Њ—В —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –і–≤—Г—Е –≤–µ—А—Б–Є—П—Е, –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –≤ –љ–Њ–≤–Њ–є, –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ (–µ—Б—В—М –≤–µ—А—Б–Є—П, —З—В–Њ –≤—В–Њ—А–∞—П —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П —В–µ–Ї—Б—В–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –®–µ–Ї—Б–њ–Є—А–Њ–Љ –Є –µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –£–Њ–ї—В–µ—А–Њ–Љ –†–µ–є–ї–Є), –њ—А–Є—В–Њ–Љ –љ–Њ–≤—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —В–µ–Ї—Б—В–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ –∞–љ–≥–∞–ґ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Л.¬†
–Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, —А–µ—З—М –Є–і—С—В –Њ —Ж–µ–ї–Њ–є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—Н–Љ–µ —Б –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ–є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ–є –≤ –њ—А–Є–і–∞—З—Г. –Т–Є–і–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–µ —И–њ–Є–Њ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤ 15 –≤–µ–Ї–µ? –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А—Г –Ъ–Њ–ї—Г–Љ–±—Г —В–∞–Ї–Њ–µ –Є –≤–Њ —Б–љ–µ –љ–µ —Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –Р –≤–µ–і—М –Њ–љ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г –Њ—В–Ї—А—Л–ї, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–µ —Г –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞: –Њ–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–µ–Љ–ї—П. –Т—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В–µ, –і–∞? –Э–Њ –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞ —Б—Г—И–µ —Н—В–Њ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В, –Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–≤—Г—Е –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –≤—А—П–і –ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞–Љ —А—Л—Ж–∞—А—П–Љ –Њ—В–Њ–≥–љ–∞—В—М –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Њ—В –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞. –Э–Њ –Ї–∞—А—В–∞ вАФ –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—Б—П! –≠—В–Њ –ґ–µ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П –≤–µ—Й—М. –Р –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–µ–љ—М–Ї–Њ –ґ–Є–≤—С—В –Њ–і–Є–љ –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Б—З–Є—В–∞—О—В –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–Љ вАФ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ъ—Г–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї –љ–µ–Љ–µ—Ж –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—Б –Ъ—А–µ–±—Б, –Є –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–Є–і–µ–ї –≤ –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї–∞—Е, –њ—Л—В–∞—П—Б—М —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ–≥–і–∞—И–љ—О—О –љ–∞—Г–Ї—Г, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –ї–Є —Г –љ–µ–≥–Њ —Н—В–Њ –Є–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М вАФ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ—П—Б–љ–Њ. –Р –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ —Б –Р–≤—Б—В—А–Є–µ–є –≤ 1423 –≥–Њ–і—Г —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –љ–µ–Љ–µ—Ж, –У–µ–Њ—А–≥ —Д–Њ–љ –Я—Г—А–±–∞—Е. –Э–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –ї—О–±–Є—В—М, –љ–Њ –≤ –љ–∞—Г–Ї–∞—Е –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—О—В—Б—П. –Т—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—И–∞–ї–µ–ї–Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П —Н—В–Є—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–≤ –Є –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ –Ј–∞–≤–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј –Р–≤—Б—В—А–Є–Є —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ–∞ —Д–Њ–љ –Я—Г—А–±–∞—Е–∞ вАФ ¬ЂTheoricae novae planetarum¬ї, –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ вАФ ¬Ђ–Э–Њ–≤–∞—П —В–µ–Њ—А–Є—П –њ–ї–∞–љ–µ—В¬ї: –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л, –Ј–≤—С–Ј–і—Л, –Є–љ—Л–µ –Љ–Є—А—Л –Є —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Д–µ—А—Л! –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Ъ—С–љ–Є–љ–≥—Б–±–µ—А–≥–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ –Ь—О–ї–ї–µ—А, –Њ–љ –ґ–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ –і–µ –Ь–Њ–љ—В–µ-–†–µ–≥–Є–Њ. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ –ґ–Є–ї –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є. –Э–Є –Њ–і–љ–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О ¬Ђ–†–µ–≥–Є–Њ–Љ–Њ–љ—В–∞–љ¬ї. –°—Л–љ–Њ–≤—М—П –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А—Л—Ж–∞—А–µ–є —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –љ–Њ—З—М—О –≤ –љ–µ–±–Њ –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В—Ж–Њ–≤: ¬Ђ–Р —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–µ—В –≤–Њ –Т—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є?¬ї вАФ –љ–Њ –Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є–µ –Њ—В—Ж—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞–ї–Є –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є. –Р —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –њ–Њ—В—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞.
–Ґ–µ–њ–µ—А—М –≤–∞–Љ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–∞? –Р –≤—Б—С –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б –Ї–∞—А—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –С–ї—Г–∞ –і–≤–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ вАФ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—Г–њ–µ—Ж –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–є —А—Л—Ж–∞—А—М-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј, —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–≤—И–Є–є—Б—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї —З—В–Њ-—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–∞, —В–∞–Ї —Н—В–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є —И–∞—А–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ вАФ –Ј–∞—В–Њ –µ–є —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ: –≤–Њ—В –Њ–љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є–Ј —В–µ—Е –њ–∞—А–љ–µ–є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–ї–∞—З—Г—В —О–љ—Л–µ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Є –Є —В–Њ–Љ–љ–Њ –≤–Ј–і—Л—Е–∞—О—В —А–∞–Ј–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–µ –і–∞–Љ—Л. –Ъ—А–∞—Б–Є–≤, —З—С—А—В! –Ш —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤. –Т–Ј–≥–ї—П–љ–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –µ—Й—С —А–∞–Ј –Є –Ј–∞–±—Г–і—М –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞, –Є–љ–∞—З–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –њ–Њ—В–µ—А—П–µ—И—М.
–У—А–∞—Д –і–µ –Ы–∞–≤–∞–ї—М –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї—Б—П —Г–ґ–µ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–∞—А—П–і–µ вАФ –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–µ ¬Ђ–Ї–∞—Б—В–µ–љ–±—А—Г—Б—В¬ї, –Є –Ц–∞–љ–љ–∞ —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞ –Ј–ї–Њ–≤—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —А—Л—Ж–∞—А—П –†–Њ–±–µ—А—В–∞ –і–µ –°–∞–∞—А–±—А—О–Ї–∞. –° –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —О–±–Ї–µ –Ї–Є—А–∞—Б—Л –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–Њ –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–µ ¬Ђ–≥–љ–µ–Ј–і–Њ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—Б—В–∞–≤–ї—П–ї—Б—П –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї-—А–Њ–љ–і–µ–ї—М вАФ —Н—В–Њ –љ–µ–Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ, –Ј–∞—В–Њ —Г–і–Њ–±–љ–Њ. –Т—Б—С-—В–∞–Ї–Є –љ–µ–Љ—Ж—Л –Ј–љ–∞—О—В —В–Њ–ї–Ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–∞—Е.
вАФ –Ч–љ–∞–Љ—П! вАФ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≥—А–∞—Д, –Є –µ–Љ—Г —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ–Њ–і–∞–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ—П. –Ю–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–µ —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ–Є –ї–Є–ї–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ. –Э–∞ –љ—С–Љ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—В–Ї–∞–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї—Г—З–µ—А—П–≤–Њ–≥–Њ –±–∞—А–∞–љ–∞ вАФ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, вАФ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ: —Б –і–≤—Г–Љ—П –±–Њ–ї–µ–µ-–Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ–Є –∞–љ–≥–µ–ї–∞–Љ–Є –Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬Ђ–Ш–Є—Б—Г—Б-–Ь–∞—А–Є—П¬ї. –Т—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ –±—Л–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї–Є—З–љ—Л–є —И—В–∞–љ–і–∞—А—В, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –±–µ–ї–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞, –љ–Њ —Б —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—В–Ї–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–і—Г–≥–Њ–є. –Ю–±–∞ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —И–Њ—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—Б—В–µ—А-–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї –Ф–ґ–µ–є–Љ—Б –Я–∞—Г–µ—А –Є –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞-—Д—А–∞–љ—Ж—Г–ґ–µ–љ–Ї–∞ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ь–Є–љ–∞. –Ч–∞ —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є 25 –ї–Є–≤—А–Њ–≤ (–Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Љ –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є–ї–Є: –і–≤–µ—Б—В–Є –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞!). –Ь—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –≤—А–∞–≥–∞–Љ –і–Њ—Д–Є–љ–∞ вАФ –±—Г—А–≥—Г–љ–і—Ж–∞–Љ –њ–ї–∞—В–Є–ї–Є –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–µ–µ вАФ ¬Ђ–Ш–Ј —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –У–Є –У–Є–ї—М–±–Њ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і–∞–Љ–Є –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ј–∞ –Є—О–љ—М 1428 –≥–Њ–і–∞ вАФ ¬Ђ–Ы—Г—З–љ–Є–Ї–∞–Љ —В–µ–ї–∞ –Љ–Њ–љ—Б–µ–љ—М–Њ—А–∞ (–≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –Њ–љ—Л–є –Љ–Њ–љ—Б–µ–љ—М–Њ—А –≤—Л–і–∞–ї, –і–∞–±—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О –ї—Г—З–љ–Є–Ї–∞–Љ –Љ–Њ–љ—Б–µ–љ—М–Њ—А–∞ –†–µ–≥–µ–љ—В–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –Є —З—В–Њ–±—Л –≤—Л–њ–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ–Є вАФ 8 –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є–≤—А–Њ–≤, 16 —Б—Г –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–љ–µ—В–Њ–є¬ї. –Ъ—А—Г—В–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Э–∞ –Ї–∞–±–∞–Ї вАФ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ. –Э–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ –≤—А—П–і –ї–Є. –Х—Б–ї–Є –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–є—В–Є–љ–≥ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т 1470-–µ –≥–Њ–і—Л —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–є –і–Њ—Е–Њ–і –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є:
1. –Т–µ–љ–µ—Ж–Є—П вАФ 39 –≥—А–∞–Љ–Љ —Б–µ—А–µ–±—А–∞. –°–∞–Љ–∞—П –±–Њ–≥–∞—В–∞—П –Є –Ї—Г—А—В—Г–∞–Ј–љ–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ.¬†
2. –С—А–µ—В–∞–љ—М, —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–∞—П –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є вАФ 16 –≥—А–∞–Љ–Љ.
3. –Р–љ–≥–ї–Є—П вАФ 11 –≥—А–∞–Љ–Љ.
4. –С—Г—А–≥—Г–љ–і—Б–Ї–Њ–µ –≥–µ—А—Ж–Њ–≥—Б—В–≤–Њ вАФ 10 –≥—А–∞–Љ–Љ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞.
5. –§—А–∞–љ—Ж–Є—П вАФ 8 –≥—А., –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ.
6. –Я–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї–Є—П вАФ 7 –≥—А., –µ—Й—С –Љ–µ–љ—М—И–µ.
7. –Ъ–∞—Б—В–Є–ї–Є—П –Є –Р—А–∞–≥–Њ–љ вАФ 5 –≥—А. —Б–µ—А–µ–±—А–∞.
–Ч–∞—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А –Ъ–Њ–ї—Г–Љ–± —А–µ—И–Є–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г, –∞ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є, —Е–Њ—В—П –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞¬ї. –Ш –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–љ–µ–≥ –±—Л–ї–Њ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В ¬Ђ–Ц–∞–љ–љ–∞ –Ф–µ–≤–∞, —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є¬ї. –Э–∞ –≤–љ–µ–±—А–∞—З–љ—Г—О –і–Њ—З—М –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –і–µ–љ–µ–≥ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї–Є. –Ю–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В–∞—В—М –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ —З—Г–і–Њ–Љ. –Р –њ–Њ–Ї–∞ —О–љ–∞—П –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–∞-—Д–∞–љ—В–∞–Ј—С—А–Ї–∞ –≤ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ, –≤–Њ —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, вАФ –≤ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є. ¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж–Є—О –њ–Њ–≥—Г–±–Є–ї–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –∞ –≤—Л—А—Г—З–Є—В –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞¬ї, вАФ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б –њ–µ—А–µ–і —Б—В—А–Њ–µ–Љ —Б–Њ–ї–і–∞—В –і–Њ—Д–Є–љ–∞ –≥—А–∞—Д –Ц–∞–љ –Ф—О–љ—Г–∞, –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ —З—Г–і–µ—Б–љ—Л–є –≤–љ–µ–±—А–∞—З–љ—Л–є —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –Т–∞–ї—Г–∞.¬†
–Ю–љ, —З—Г—В—М –њ–Њ—Б—В–∞—А—И–µ —Б–≤–Њ–µ–є –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ—Б—В—А—Л –Ц–∞–љ–љ—Л, —Б—В–Њ—П–ї, –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ —Д–ї–∞–Љ–±–µ—А–≥ (flamberge) –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е, –Є —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ ¬Ђ—Е—А—Г–Љ–Ї–∞–ї¬ї –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –Ј–µ–ї—С–љ—Л–µ —П–±–ї–Њ–Ї–Є. –° –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–µ–≤ –Ф–Њ–Љ–∞ –Т–∞–ї—Г–∞, —Н—В–Њ—В –њ–∞—А–µ–љ—М —Б ¬Ђ–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–µ—О—Й–Є–Љ¬ї –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Б—Л–≥—А–∞—В—М –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е —А–Њ–ї–µ–є –≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е —Б–≤–Њ–µ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –С—Л–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —А–Њ–ї–Є –Є–≥—А–∞—О—В –∞–Ї—В—С—А—Л, –∞ –±—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —А–Њ–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –ї—О–і—П–Љ, –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ї—С–Ї–Є–Љ –Њ—В —В–µ–∞—В—А–∞. –Я—А–Є—В–Њ–Љ –Є–≥—А–∞—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ! –Ш–љ–∞—З–µ вАФ –љ–µ –≤—Л–ґ–Є–≤–µ—И—М!
–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ —В–Њ–≥–і–∞ —Г –≥—А–∞—Д–∞ –Ф—О–љ—Г–∞? –Э–∞ –†—Г–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Ц–∞–љ–љ–∞ –і–µ –Р—А–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–∞ —Ж–Є—Д—А—Г –≤ –і–µ—Б—П—В—М —В—Л—Б—П—З, –љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ. –Ф–Њ —Н–њ–Њ—Е–Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–Є–Ј–Љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ. –°–Њ–ї–і–∞—В –Є —А—Л—Ж–∞—А–µ–є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М —З–µ—В—Л—А–µ —В—Л—Б—П—З–Є, –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Я—А–Є—В–Њ–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–∞—С–Љ–љ–Є–Ї–Є –Є –∞—А–∞–≥–Њ–љ—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—В–∞–ї–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –Є–Ј ¬Ђ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–≥–µ–љ—В–∞¬ї –≤–Њ–є—Б–Ї –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —В—С—Й–Є, –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Л –Ш–Њ–ї–∞–љ—В—Л –Р—А–∞–≥–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є. –° –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є —И—С–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ–±–Њ–Ј —Б –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ вАФ 400 —В–µ–ї–µ–≥, –Є –≥–љ–∞–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ —Б–≤–Є–љ–µ–є –Є –Ї–Њ—А–Њ–≤. –Ъ–Њ—А–Њ—З–µ, –∞—А–Љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ —Б –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є —Б–µ–ї—М—Е–Њ–Ј—П—А–Љ–∞—А–Ї–Є. –°–≤–Є–љ—М–Є вАФ —Е—А—О–Ї–∞–ї–Є, –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л вАФ –Љ—Л—З–∞–ї–Є, –Њ–±–Њ–Ј–љ–Є–Ї–Є вАФ —А—Г–≥–∞–ї–Є—Б—М, –∞ —В–µ–ї–µ–≥–Є вАФ —Б–Ї—А–Є–њ–µ–ї–Є –Є –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є–Љ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П. –Т–Њ—В —В–∞–Ї –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –Є –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –С–ї—Г–∞ –љ–∞ —З–µ—А–µ–њ–∞—И—М–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є.¬†
–Ц–∞–љ–љ–∞ –≤ –Љ–∞—А—И–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞—Е –µ—Е–∞–ї–∞ –≤–µ—А—Е–Њ–Љ –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Њ—Б—Ж–∞ —Б –±–µ–ї—Л–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. –Р –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е –µ—Е–∞–ї —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –С–µ–љ–Є—В–µ –і–µ –Р—А–Ї–∞–њ–µ—А вАФ –≤ –Њ—З–µ–љ—М –ї—С–≥–Ї–Њ–Љ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є, –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л—Е —Б–∞–њ–Њ–≥–∞—Е –љ–∞ –Љ—П–≥–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–Њ—И–≤–µ –Є –≤ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ–Њ–Љ –Ї–∞–њ—О—И–Њ–љ–µ. –§–∞–Љ–Є–ї—М–љ—Л–µ —Й–Є—В—Л, –Ї–Њ–њ—М—П –Є —И–ї–µ–Љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ–≥–∞—Е. –†—Л—Ж–∞—А–Є —Б–Љ–∞—З–љ–Њ –њ–ї–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –ґ—А–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Г –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї –Є –±—Г–ї–Ї–Є —Б —Д–∞—А—И–µ–Љ, –њ–Є–ї–Є –Є–Ј —Д–ї—П–≥ –і–µ—И—С–≤–Њ–µ –Ї–∞–Ј—С–љ–љ–Њ–µ –≤–Є–љ–Њ –Є –њ–Є–≤–Њ. –£ —А—Л—Ж–∞—А–µ–є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є ¬Ђ—Б—Г—Е–њ–∞–є¬ї –ї—Г—З—И–µ —Б–Њ–ґ—А–∞—В—М –њ–µ—А–µ–і –±–Њ–µ–Љ. –І—В–Њ–± –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Њ. –Р –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–±–µ–і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є, —В–Њ –Љ—Л —Б–Њ–ґ—А—С–Љ ¬Ђ—Б—Г—Е–њ–∞–є¬ї –њ–Њ–±–µ–ґ–і—С–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, —П—Б–љ–Њ? –Ґ–∞–Ї–∞—П –≤–Њ—В —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–∞—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ј—С–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Г, –≤–Є–љ–Њ –Є —Е–ї–µ–± —Б —З–µ—Б–љ–Њ–Ї–Њ–Љ –Є –ї—Г–Ї–Њ–Љ –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М ¬Ђ–≤ —В–Њ–њ–Ї—Г¬ї –њ—А—П–Љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б вАФ –љ–∞ —Е–Њ–і—Г.¬†
–Ц–∞–љ–љ–∞, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–є ¬Ђ—Б—Г—Е–њ–∞–є¬ї вАФ –µ–є –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –±–Њ—З–Њ–љ–Њ–Ї —Б –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О: –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–µ–ґ–∞—П –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–∞ (—Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–≤–∞–љ–Є–≤–∞–µ—В), —Е–ї–µ–±, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ј–∞–±–Є–≤–∞—О—В –≥–≤–Њ–Ј–і–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ґ—Г—Е–ї—Л—Е –Њ–≤–Њ—Й–µ–є, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —З—М–Є-—В–Њ –Ї—А–Њ–ї–Є–Ї–Є, –Ї—Г—А—Л –Є–Ј –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є ¬Ђ–њ—В–Є—Ж–∞ —Б—З–∞—Б—В—М—П –Ј–∞–≤—В—А–∞—И–љ–µ–≥–Њ –і–љ—П¬ї –Є –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є –і–µ—И—С–≤–Њ–≥–Њ –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞ —Б –і–Њ—Е–ї—Л–Љ–Є –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –і–Њ–љ—Л—И–Ї–µ. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Є—З–Є–љ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —А—Л—Ж–∞—А–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —Б—К–µ—Б—В—М –Ї–Њ–ї–±–∞—Б—Г –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–µ, –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–∞ вАФ –љ–µ —Е–ї–µ–±, –Њ–љ–∞ –≤ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—Б—П. –Ч–∞—В–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ—В—Г—Е–љ—Г—В—М. –Т–µ–і—М —Н—В–Њ –ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–∞ –љ–µ–ґ–љ–Њ-—А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–Њ–є –±—Л–≤–∞–µ—В —В—А—Г–і–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М. –Ґ–∞ –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—Л—А–∞—П, —Б–µ—А–∞—П, –ґ–Є—А–љ–∞—П, —Ж–µ–ї—М–љ–∞—П, —Б –Ї—Г—Б–Ї–∞–Љ–Є —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–≥–Њ вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–∞–Љ–∞—П –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–∞—П. –Ю–љ–∞ –Є –њ–∞—Е–љ–µ—В —З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –і–∞–ґ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–∞—Е–љ–µ—В. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –љ–∞–Љ –Ї–Њ–ї–±–∞—Б–∞ —Б –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ –Ј–∞–њ–∞—Е–Њ–Љ –Є —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–Ј–∞–і, –∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–∞—А–Њ–і –њ–Є—В–∞–ї—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б—В–≤–Њ. –Р –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –ґ –µ–≥–Њ вАФ ¬Ђ—В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–≤–Њ–Ј–Њ–Љ¬ї, –Ї–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Х—Б–µ–љ–Є–љ.
–Ч–∞—В–Њ –Ї–∞–Ї–∞—П –±—Л–ї–∞ –±—Л —А–∞–і–Њ—Б—В—М —Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —З–Є—Б—В–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є! –Я—А–Њ—Б—В–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ! –Ю–љ–Є –±—Л –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –∞—Г—В–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ–є –≤–Њ–љ—О—З–µ–є ¬Ђ–Ї–Њ–ї–±–∞—Б—П—В–Є–љ–Њ–є¬ї 15 –≤–µ–Ї–∞. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ц–∞–љ–љ–∞ –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–∞. –Ю–љ–∞ –љ–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г —Б—Г–љ—Г–ї–∞ –љ–Њ—Б –≤ —Н—В–Њ—В –±–Њ—З–Њ–љ–Њ–Ї —Б –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞:
вАФ –Ъ—В–Њ —Б—О–і–∞ –љ–∞–≥–∞–і–Є–ї?
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Б–±—А—Г–µ–є¬ї, —В–Њ —Б–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ, –Ї —З–µ–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–≤—Л–Ї–∞—В—М –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ —А—Л—Ж–∞—А—П–Љ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞: –≤–Њ–љ—М, –≥—А—П–Ј—М, –њ–Њ–љ–Њ—Б, –њ—А—Л—Й–Є –Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–∞ –Є –љ–µ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П, –∞ –µ—Й—С –≤–µ—З–љ–Њ–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —В—Л –Ј—А—П –Ј–∞–≤–µ—А–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –∞—А–Љ–Є—О. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А—Л—Ж–∞—А–Є –і–Њ—Е–ї–Є –Њ—В –њ–љ–µ–≤–Љ–Њ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–і–µ–ї—М —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є —Е–Є—А—Г—А–≥ –Є —Ж–Є—А—О–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–љ–Є—О –С–Њ—А–Њ–і–∞ –Љ–Њ–≥ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≥–і–µ —Н—В–Є—Е –њ–∞—А–љ–µ–є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є. –Р —З—В–Њ–±—Л –љ–∞–є—В–Є –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї—Г—О –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї—Г –љ–∞ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ –≤ —З—Г–ґ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Є–ї–Є –љ–∞ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ —З—С—А—В –Ј–љ–∞–µ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Ј–∞ —В—Л—Б—П—З—Г –ї—М–µ –Њ—В —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –њ–∞–њ–∞-–Љ–∞–Љ–∞ —А—Л—Ж–∞—А—П –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е —Н—В–Њ–≥–Њ —Е–Є—А—Г—А–≥–∞ –Є —Ж–Є—А—О–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б –±–Њ—А–Њ–і–Њ–є. –Р —Е–Є—А—Г—А–≥ –Є —Ж–Є—А—О–ї—М–љ–Є–Ї –і–Њ–љ–∞—И–Є–≤–∞–ї —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —В—С–њ–ї—Л–є –ґ–Є–ї–µ—В, –≤—Л—И–Є—В—Л–є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ, вАФ –њ–Њ–і–∞—А–Њ–Ї –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є-–і–≤–Њ—А—П–љ–Ї–Є –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Ј–∞ —В—Л—Б—П—З—Г –ї—М–µ –Њ—В –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–Ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–љ–∞, –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –∞—А–Љ–Є—П вАФ —Н—В–Њ –∞—А–Љ–Є—П... –≠—В–Њ вАФ ¬Ђ—Б–±—А—Г—П¬ї, —Н—В–Њ —В–≤–Њ–є –°–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–ї–≥, –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–±–∞—З–Є–є. –Ш –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Б—В–Є–ї–µ. –Т –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н–Љ –Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞—Е –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –Ц–µ—А–∞—А–∞ –і–µ –†—Г—Б–Є–ї—М–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Э–Є —Г –Ї–Њ–≥–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–Њ–і—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ —А—Л—Ж–∞—А—П-–Њ—В—Ж–∞, —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є, вАФ –≤—Б–µ —Г–Љ–Є—А–∞–ї–Є –Њ—В —А–∞–љ –≤ –њ–Њ–ї—П—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є¬ї.
–Р –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Е—А–Њ–љ–Є—Б—В 12 –≤–µ–Ї–∞ –†–Є—З–∞—А–і –•–Њ–≤–µ–і–µ–љ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ѓ–љ–Њ—И–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї —В–µ—З—С—В –Ї—А–Њ–≤—М –Є–Ј –µ–≥–Њ —А–∞–љ—Л. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї –Њ–љ –љ–∞—Г—З–Є—В—Б—П –ґ–Є—В—М, –љ–∞–і–µ—П—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г¬ї. –Т–Њ—В —В–∞–Ї! –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є –љ—Г–ґ–µ–љ? –Р —З—В–Њ –Ф–ґ–µ—Д—Д—А–Є –І–Њ—Б–µ—А –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–Ъ–µ–љ—В–µ–±–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—Е¬ї?! –Т –µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ вАФ —Н—В–Њ –ї–Њ—Б–Ї –Є —Б–њ–ї–Њ—И–љ–∞—П –Ї—Г—А—В—Г–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М:
¬Ђ–≠—Б–Ї–≤–∞–є—А —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г–Љ–µ–ї —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –Є –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ –µ–Ј–і–Є–ї –≤–µ—А—Е–Њ–Љ, –Њ–љ —Г–Љ–µ–ї —Б–Њ—З–Є–љ—П—В—М –њ–µ—Б–љ–Є –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б –і–∞–Љ–∞–Љ–Є, –Њ–љ –±–Є–ї—Б—П –љ–∞ —В—Г—А–љ–Є—А–∞—Е –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ —В–∞–љ—Ж–µ–≤–∞–ї –љ–∞ –±–∞–ї–∞—Е, –Њ–љ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –Є –±—Л–ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ. –Ю–љ –±—Л–ї –≤–µ–ґ–ї–Є–≤ –Є –Љ—П—Б–Њ —А–µ–Ј–∞–ї –і–ї—П –Њ—В—Ж–∞ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ¬ї.
–Т–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ ¬Ђ—Б–±—А—Г–µ¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –Є–Ј –љ–Є—Е –Т–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П? –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –Ц–∞–љ–љ–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ:
¬Ђ–Ш–Є—Б—Г—Б, –Ь–∞—А–Є—П. –Ъ–Њ—А–Њ–ї—М –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Є –≤—Л, –С–µ–і—Д–Њ—А–і, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є —Б–µ–±—П —А–µ–≥–µ–љ—В–Њ–Љ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–∞ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –±—Г–і—М—В–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л –њ–µ—А–µ–і –¶–∞—А–µ–Љ –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ. –Ю—В–і–∞–є—В–µ –Ф–µ–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ, –¶–∞—А–µ–Љ –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ, –Ї–ї—О—З–Є –Њ—В –≤—Б–µ—Е –і–Њ–±—А—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –Є –Њ—Б–Ї–≤–µ—А–љ–Є–ї–Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ю–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ —Б—О–і–∞ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Њ–≥–∞. –Ш –≤—Л, –ї—Г—З–љ–Є–Ї–Є, —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л, –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–µ –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–Њ—П—В —Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ю—А–ї–µ–∞–љ–∞, —Г—Е–Њ–і–Є—В–µ –≤ —Б–≤–Њ—О —Б—В—А–∞–љ—Г –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –С–Њ–≥–∞, –Є –љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–є—В–µ –Є–љ–∞—З–µ, –∞ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–µ—В–µ, —В–Њ –ґ–і–Є—В–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–µ–є –Њ—В –Ф–µ–≤—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ –њ—А–Є–і–µ—В –Ї –≤–∞–Љ –Є –љ–∞–љ–µ—Б–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г—Й–µ—А–±. –ѓ –ґ–µ, –≤—Б—В–∞–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –±–Њ–ґ—М–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤ —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –≥–і–µ –љ–∞—Б—В–Є–≥–љ—Г –≤–∞—И–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –њ—А–Њ–≥–Њ–љ—О –Є—Е, —Е–Њ—В—П—В –Њ–љ–Є —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –љ–µ —Е–Њ—В—П—В. –Р –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В—П—В –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є—В—М—Б—П, —П –≤—Б–µ—Е –Є—Е —Г–±—М—О. –ѓ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ, –¶–∞—А–µ–Љ –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ —В–µ–ї–µ—Б–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –≤—Л –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–Є—В–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –Є –Ф–µ–≤—Л, –≤ —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –≥–і–µ –Љ—Л –≤–∞—Б –љ–∞–є–і–µ–Љ, —В–∞–Љ –Є –њ–Њ–Ї–∞—А–∞–µ–Љ, –Є —Г—Б—В—А–Њ–Є–Љ –≤–∞–Љ —В–∞–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤–Њ—В —Г–ґ–µ —В—Л—Б—П—З—Г –ї–µ—В. –Ш –Ј–љ–∞–є—В–µ —В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ –¶–∞—А—М –Э–µ–±–∞ –њ–Њ—И–ї–µ—В –Ф–µ–≤–µ –Є –µ–µ –і–Њ–±—А—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ —Б–Є–ї—Г —В–∞–Ї—Г—О, –Ї–∞–Ї—Г—О –≤—Л –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–ї–µ–є —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є¬ї.
–¶–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б–Ї—Г—З–љ–Њ, –Є –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ, –∞ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–±–Њ–є–і—С–Љ—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞ вАФ —Б–∞–Љ–∞, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –≥–µ—А—Ж–Њ–≥ –Р–ї–∞–љ—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є–є, вАФ –∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–Є—Б–µ—Ж –Ь–∞—В–Є–ї–µ–љ –†–∞—Г–ї—М (–±—Л–≤—И–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Е). –Ч–∞—З–µ–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г? –Э—Г, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤ –і—Г—Е–µ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Є–Ї–Є. –Э–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ –ґ ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї¬ї —Г–±–Є–≤–∞—В—М, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђfor amor¬ї вАФ —Д–Њ—А –∞–Љ–Њ—А, –Ї–Њ—А–Њ—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П: вАФ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ –Є –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—Б—В–Њ–ї–±–µ–љ–µ—В—М, –љ—Г–ґ–љ–Њ –ї–Є—И–Є—В—М—Б—П –і–∞—А–∞ —А–µ—З–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–Ї—А–∞—Б–љ–µ—В—М, –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –∞–њ–њ–µ—В–Є—В, –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М, –Є... –і–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—О. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –ї—О–±–Њ–≤—М вАФ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–∞—П –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї—С–љ–љ–∞—П, —В–Њ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–∞—П —Г–ґ–µ –љ–µ –ї—О–±–Њ–≤—М, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ? –Ш —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ: –µ—Б–ї–Є —В–µ–±—П –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–µ ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–∞–ї–Є¬ї –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Ј–љ–∞—З–Є—В —В–≤–Њ—С –њ–Є—Б—М–Љ–Њ ¬Ђ–љ–µ –і–Њ—И–ї–Њ¬ї... –Э—Г, –і–Њ–±—А—Л–µ —А–µ–±—П—В–∞-–±—А–Є—В–∞–љ—Ж—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є –≤—Б–µ —А—Л—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В—Л —О–љ–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –≤ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞—Е —Б –і–Њ—А–Њ–≥–Є–Љ –љ–∞–њ—Л–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ю–љ–Є –µ–є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–Є:
вАФ –Ш–і–Є –њ–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—А–Њ–≤, –≤–µ–і—М–Љ–∞!
–Ю! –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є —Г–ґ–µ –≤ –Ї—Г—А—Б–µ, –Ј–∞—З–µ–Љ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ф–µ–≤–∞.¬†
вАФ –£–±–Є—А–∞–є—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–є —Б–≤–Є–љ–∞—А–љ–Є–Ї ...
–Ю, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г—Б–њ–µ—Е!
вАФ –Ш–і–Є –Ї—Г–њ–∞–є –њ–Њ—А–Њ—Б—П—В!
–Ю-–Њ-–Њ! –Ф–Њ –љ–Є—Е –і–Њ—И–ї–Њ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж!
–Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ –±—А–Є—В–∞–љ—Ж—Л –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є вАФ —Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є—Б—М –±—Л —Г ¬Ђ—Е–≤–Њ—Б—В–∞—В—Л—Е¬ї –і–ґ–µ–љ—В–ї—М–Љ–µ–љ–Њ–≤. –Р –Ї—В–Њ ¬Ђ—Е–≤–Њ—Б—В–∞—В—Л–Љ–Є¬ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В? –°—Н—А –£–Є–ї—М—П–Љ –У–ї–∞—Б–і–µ–є–ї. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Н—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–∞ –Ц–∞–љ–љ–∞. –Э–Њ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Х—Й—С –≤–Њ—В —Б—Н—А—Г –Я–∞—В—А–Є–Ї—Г –Ш–≥–ї–Љ—Г—А—Г –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, –і–∞ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Э–Њ –У–ї–∞—Б–і–µ–є–ї –±—Л–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –µ—С ¬Ђ—В—А–Њ—Д–µ–µ–Љ¬ї. –° –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–∞—З–љ—С–Љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–ЊвА¶
![]() вАЛ
вАЛ