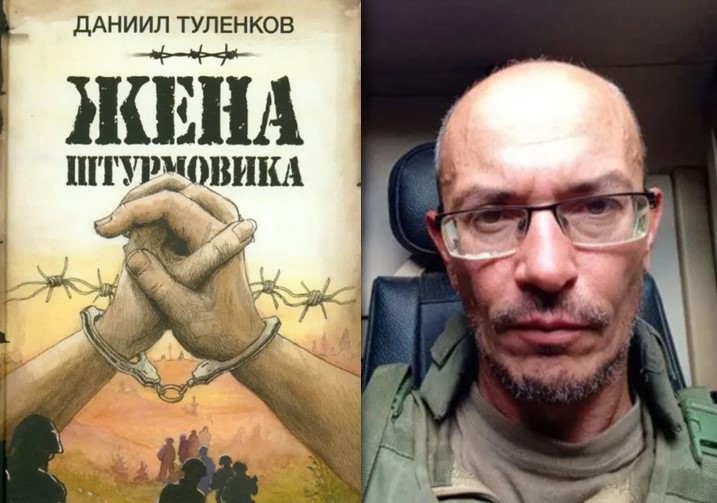Авиатор на лаврах, или Книга отречений
Авиатор на лаврах, или Книга отречений
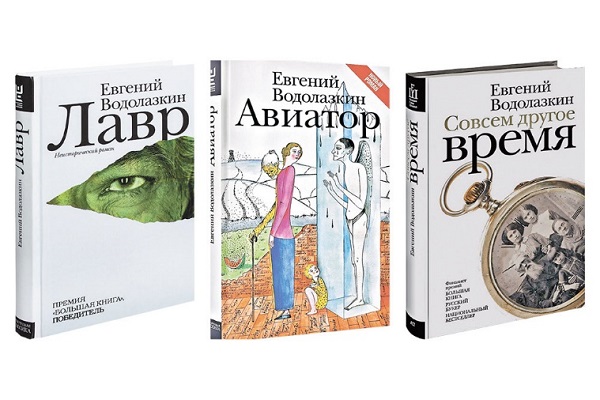
ПРОЛЕГОМЕНА
Помню, как публика встречала «Лавра» – хором что-то пела и кричала «Черт возьми!» Ну, еще бы. С образованщиной вновь заговорили на ее языке: «Кто сей знающий тайны мои? Ты кто? <Censored> в пальто». Сравните с пелевинским «Ом мапа папин хум», и разъяснения не понадобятся. Только здесь вместо мантр дательный самостоятельный и разные прочие аористы, от которых читатель предсказуемо млеет. Прав был Роман Шмараков: покажи односельчанам французскую булку и можешь врать о своей поездке в город что угодно.
Потому мы к Евгению свет Германовичу с почтением. И не только потому. Знатный же медиевист. В Пушкинском доме повит, Лихачевым взлелеян. Прозаик-интеллектуал. Русский Эко, он же русский Маркес. И десять премиальных лычек на плечах. А недавно появилась и одиннадцатая, солженицынская – «за органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного письма».
Тут по законам жанра все должно пойти с точностью до наоборот.
На обложку «Лавра» вынесен подзаголовок «Неисторический роман». Это верно, но этого мало. У Водолзкина не только история отсутствует: нет ни драматургии, ни психологии, ни даже оригинальности – от них автор благополучно отказался. Апофатическая, в общем, проза, намертво спрятанная за частоколом отрицательных частиц.
А Солженицынская премия… Бородатый неполживец заявлял со свойственным ему языковым чутьем: «Не пропустим достойных», – каков каламбур!
И Водолазкин – тот самый случай.
А САМ РУКОЙ ТЕБЕ В КАРМАН
Курт Воннегут настойчиво советовал филологам воздерживаться от писательства: словесность не должна кусать свой собственный хвост. Но профессиональный читатель Водолазкин – типичный филологический уроборос.
Потщи ся Евгений сказати душеполезная некая, но ничесоже обрете в сердце своем, кроме библиотечного каталога: актуальная словесность и рерайт суть синонимы. Думаю, литература должна чем-то отличаться от сочинения «Мои любимые книжки». Но это по нашим временам явная ересь.
Единственная на все случаи жизни мысль о фиктивности времени – с барского плеча. Водолазкину она досталась от Лихачева (вневременное-всевременное), а тому – от Карсавина (время есть ошибочно ипостазируемая временность нашего Я). Впрочем, философские абстракции – не моя епархия, давайте лучше о литературе.
Давно говорю: тоскливое занятие литкритика, если только и остается, что выяснять, кто кого обобрал. Да вот дернул же черт назваться груздем.
Итак, «Лавр». Слышу, под окном рыдает толпа юродивых: отнял копеечку! И впрямь ведь отнял. Протагонист, как Ксения Петербургская, принимает имя подружки, умершей без покаяния, швыряет камнями в избы на манер Василия Блаженного, получает в табло от ангела по примеру… стоп, этот реестр бесконечен. Выслушаем других потерпевших. Гражданин Акутагава настаивает: сюжет про монаха, взявшего на себя грех без венца брюхатой девки, – его интеллектуальная собственность. Аналогичный иск поступил от гражданки Колядиной. Цитаты-анахронизмы («русский человек бессмыслен и беспощаден», «мы в ответе за тех, кого приручили») родом из «Цветочного креста», оттуда же и разудалая языковая чересполосица: «То ты и сам, отче, ведаеши… Прими эту информацию спокойно, без соплей».
«Авиатор» – та же самая баланда из объедков литературного общепита. Сюжет радует новизной: Гиршгорн, Келлер и Липатов исполнили первую отечественную хронооперу аж в 1927 году, а с тех пор попаданцам нет ни меры, ни числа – от Ивана Присыпкина до Станислава Сварога. Название – привет Блоку, психическая деградация героя – реверанс Кизу, соловецкие флэшбеки взяты напрокат у Киселева-Громова и Ширяева, замороженный герой – у Маяковского с Леоновым, а пролетарий Зарецкий выглядит внебрачным сыном люмпен-пролетария Шарикова.
И прошлогодний «Брисбен» изготовлен методом аллогенной трансплантации. Кто-то из рецензентов, уж не упомню, вычислил, что интригу про больного музыканта сочинила Эйджа Гейбл. Добавлю: австралийский город Брисбен – символ того света, аллюзия на свидригайловскую Америку. А эпизод про смерть чужого, но любимого ребенка – «Доктор Фаустус», как живой… Классика: то Генрих Манн, то Томас Манн, а сам рукой тебе в карман.
Что можно сказать об авторе этих… ладно, книг? – самое большее, что читать умеет. Невелика заслуга, между прочим.
Почто, брате, чюждая словеса речеши яко же своя? И не стремно, блин, сицево деяти?
Не, ни разу не стремно. А кому вообще стремно? Шишкин, уличенный в плагиате, объявил свои опусы ни много ни мало литературой следующего измерения. Е.В., тот похитрее будет: пишу, мол, на средневековый манер – с отстутствием идеи авторства, с центонной структурой текста. Кстати, Шишкину, насколько помню, пришлось оправдываться дважды, Водолазкину – вообще не пришлось. Ко всему-то подлец человек привыкает.
Но что подумают Дэниел Уильямович с Леонидом Максимовичем? И что скажет Михаил Афанасьевич?
Да то и скажет: водка не ваша, а Филиппа Филипповича.
В ПОИСКАХ АВТОРА
Неизбежный вопрос: а где, собственно, в текстах Водолазкина сам Водолазкин? Он выходит на авансцену, чтобы выдать на-гора какую-нибудь пафосную сентенцию фейсбучной глубины: «Труднее всего предвидеть собственную жизнь» («Лавр»), «Выше справедливости – любовь» («Авиатор»), «Жизнь – это долгое привыкание к смерти» («Брисбен») и проч.
Русский Маркес, говорите? Скорее уж Коэльо.
ВОЛЯ ВАША, ПРОФЕССОР…
Доктора филологических наук, в отличие от курских помещиков, пишут скверно. Ибо обретаются в трагическом разладе с матчастью. Скажем, герои Варламова в 1914 году измеряли родные просторы километрами, слыхали о радиации и цитировали «Неуловимых мстителей». Водолазкин… однако не ждите очередной инвективы про древнерусские пластиковые бутылки. На них покушаться грешно: вневременное-всевременное, сиречь неприкосновенное. Да и без них есть чему удивиться.
Начнем, пожалуй, с мелочей.
«Так играют, тихо сказал Глеб Клещуку, только потеряв невинность» («Брисбен»). Какой прожженный <censored> это говорит – Андрей Кончаловский, Порфирио Рубироса, Хулио Иглесиас? Да нет, 14-летний пацан, который бабьего пирога не пробовал…
Или вот: «По отважному разрезу ее платья я понял, что это – эмансипантка… Платье было расшнуровано и снято… Корсет мне снова пришлось расшнуровывать» («Авиатор»). Эмансипушка? в корсете?! – суфражистки в гробу перевернулись...
Или же: «С Анастасией мы познакомились в двадцать первом году… В комнату справа от залы поселили Николая Ивановича Зарецкого, сотрудника колбасной фабрики». Колбасная фабрика в голодном Питере 1921-го? – любопытно, на каком сырье работала?
Дальше посерьезнее будет. В 1922-м на Соловках герой «Авиатора» оказывается в одной шеренге с генералом Миллером: «Миллер спокойно смотрел на Ногтева. Поправил вещмешок на плече, и в этом движении не было ни суеты, ни страха… Ногтев выстрелил. Два вертухая за ноги оттащили убитого». Если кто не в курсе, то генерал-лейтенант Миллер был похищен и вывезен из Парижа в Москву лишь в 1937-м, ни СЛОНа, ни Ногтева в глаза не видал. И вообще ничего не видал, кроме внутренней тюрьмы НКВД, где и был расстрелян в 1939-м.
Можно подробно потолковать и про Дзержинского, которому Е.В. устроил инсульт вместо инфаркта, и про академика Муромцева, которого заставил заниматься крионикой вместо микробиологии, и про несуществующий рынок донорских органов в Германии, и про высокие ноты на верхних ладах гитары – да хватит уже, право.
Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали…
Несущая конструкция «Лавра» – грех и пожизненное его искупление – рушится от легкого щелчка. Молодой лекарь Арсений, если помните, падеся в сети блудныя, девство Устины розстлил и обрюхатил болезную. Однако ни повитуху к роженице не позвал, ни попа, когда помирала: убоялся суда людского. Хм. И это при древнерусском-то, простите за матерное слово, бэкграунде – полуязыческом, густо замешенном на древней магии плодородия, со святочными и купальскими игрищами? Подробности у игумена Памфила (1505 год): «Мало не весь град взмятеца и возбесица… Ту же есть мужем же и отроком великое прелщение и падение, такоже и женам мужатым безаконное осквернение, тоже и девам растление». Церковь волей-неволей проявляла терпимость: судя по правилу «Аще двоеженец», холостяку за безмужнюю девку при деятельном раскаянии полагалась пустячная епитимья – шесть недель. Из-за чего, собственно, сыр-бор?
Брате, аще хощеши, хоть по фене ботай, хоть пластик досрочно внедряй, обаче рцы: вскую фуфло рекл еси?
Хотя о чем это я? – романы-то неисторические. И еще много разных «не».
АПОФАТИЧЕСКАЯ ПРОЗА
И бысть вечер, и бысть утро. Евгений же рече: аще паки увижду вы, огребете по самое некуда. И несть вечер, ниже утро: престаша бо от ристания своего.
На языке вертится цитата из Введенского: «Вбегает мертвый господин и молча удаляет время». И кабы только время.
Шутки с часами и календарем худо-бедно годились для «Лавра». Средневековье воистину не знало линейного времени. Время было циклическим: аграрным – когда рожь сеять, литургическим – когда к обедне идти, сеньориальным – когда оборок князю платить. Но в «Авиаторе» или «Брисбене» упраздненное время не могло не вызвать цепную реакцию умертвий.
Первым делом следовало ликвидировать событие как примету времени. В «Авиаторе» героя, замороженного в 20-е, вернули к жизни в 1999-м. Опыт вживания в чуждую среду чреват трагедией, как у Боруня в «Восьмом круге ада» или комедией, как у Лагина в «Старике Хоттабыче». Ага, уже. Текст, лишенный и намека на конфликт, напоминал фольклорную горницу без окон, без дверей: двигаться там фатально некуда. Протагонист предпочитал статику: ««Рай – это отсутствие времени. Если время остановится, событий больше не будет. Останутся несобытия». Дистрофичная фабула с грехом пополам ползла по страницам, пока не кончился запас несобытий, вроде перманентных посиделок у самовара. В «Брисбене» при малейшем намеке на проблему к герою наперегонки спешила разнополая группа поддержки – кто с деньгами, кто с протекцией, кто без трусов, лишь бы паренек пальцем не шевельнул. Все мало-мальски значимое – крах СССР, российско-украинский кризис – прошло по касательной: «С точки зрения вечности нет ни времени, ни направления». И даже паркинсонизм не сдвинул с места ржавые сюжетные шестерни: тут, чай, не «Повесть о настоящем человеке».
Следующей жертвой Водолазкина стал герой. Ясен пень, в заданной системе координат требуется типаж с анамнезом из отрицательных префиксов «а»: анемия, абулия, акинетопсия и всевозможные атрофии. Строго говоря, выбор у персонажа невелик – быть резонером (как Амброджо в «Лавре» или Платонов в «Авиаторе») или внимать резонеру (как Амвросий в «Лавре» или Глеб в «Брисбене»). Прочее от лукавого.
А дальше приключилась закономерная мумификация языка: «Лавр на минуту останавливается и глубоко дышит. Закрывает глаза и дышит. Ему уже легче» («Лавр»); «Из Парижа лечу на съемки клипа в Петербург. Сосед по креслу пристегивает ремень. Поворачивает голову и замирает. Узнал» («Брисбен»). На кой они сдались, выразительные средства, если выражать совершенно нечего?
СПРАВЩИКА АЛЕКСАНДРА КО ЛЮДЕМ ПОУЧЕНЕЙЦЕ МАЛОЕ
Аминь глаголю вам: егда узрите глянцевую персону, безблазны пребывайте. Воспомяните Осию пророка, иже и доднесь актуален: не будем говорить изделию рук наших «боги наши».