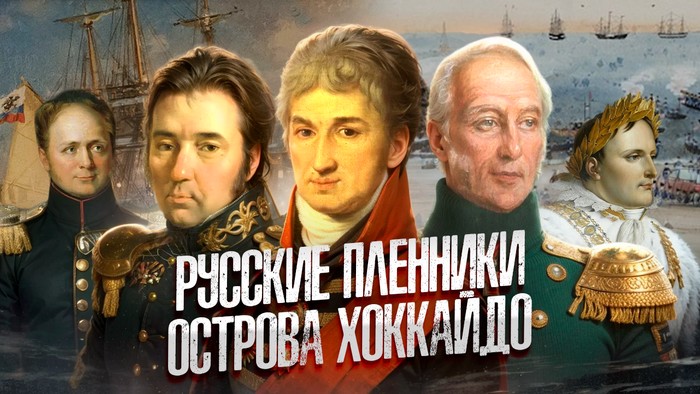Удачно-неудачная экспедиция полковника Бухгольца
Удачно-неудачная экспедиция полковника Бухгольца

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ
Еще одной фигурой, продолжившей ряд прочих драматичных судеб петровской эпохи, на наш взгляд, стал полковник Иван Дмитриевич Бухгольц, по заданию Петра возглавивший экспедицию в верховья Иртыша за «яркенским золотом». Интерес к югу Сибири, где находились вполне самостоятельные и независимые от России азиатские государства, возник у Петра далеко не случайно...
Все тот же князь Гагарин инициировал разведку полезных ископаемых в Сибири, поисками которых занимался горный инженер Блюгер. При своем посещении Петербурга в 1713 г. Гагарин сообщил Петру I, будто бы близ города Эркета (Яркета) добывается песочное золото. В качестве доказательства он предоставил привезенный им из Сибири «мешочек золотого песку, из фунта этого песка Блюгер, в присутствии царя, получил 28 лотов чистого золота». Вот тогда-то и возникла у Петра идея совершить дерзкий рейд на юг Сибири и основать там небольшую факторию, работники которой могли бы беспрепятственно добывать золото без особых затруднений. Совершим небольшой экскурс в историю установления и налаживания дипломатических связей между Россией и среднеазиатскими государствами...
Внешнеполитическая обстановка
Известно, в первой половине XVII в. в Москве обучался царевич Махметкул, родственник известного хивинского хана Абулгази. Затем торговые и дипломатические сношения между Россией и Средней Азией ещё более усилились: Москву посетили 12 хивинских и 12 бухарских посольств. В ответ московские правители отправляли своих послов в Среднюю Азию, которые по возвращению докладывали о положении дел в сопредельных с Россией странах.
Одной из насущных потребностей сибиряков была поставка за Урал соли, которая использовалась не только как пищевой продукт, но применялась в различных производственных процессах. Основные запасы сибирской соли были сосредоточены в открытом виде на озерах юга Сибири, главным образом на Ямашевом озере (современное его наименование — Калатуз). В документах начала XVII века впервые упоминается о посылке судов вверх по Иртышу за солью к Ямашеву озеру, находящемуся во владениях кочевавших в тех местах калмыков.
В 1626 г. с разведывательной целью по Иртышу была направлена небольшая флотилия под началом казачьих атаманов Ермака — головы Грозы Ивановича и Дмитрия Черкасского. Они должны были определить, возможна ли постройка на Ямышевом озере острога, где бы находилась охрана и рабочие во время добычи соли. Но казаки вернулись ни с чем, объявив об отсутствии в тех краях леса для постройки. На основе этого было решено и впредь посылать за солью вооружённые флотилии. Вместе с тем, власти посчитали «полезным для калмыцкого бережения» продвинуться вверх по Иртышу до реки Оми, но практических шагов в этом плане долгое время не предпринималось. Об экспедициях, предпринимаемых сибирскими властями к Ямыш-озеру за солью, говорит грамота «сына боярского Меньшова Ремезова о поездке его к соляному озеру Ямышу» и грамота к царю Тобольского воеводы Ивана Борисовича Репнина в 1671 г.
Другое государство, находившееся в пределах юга Сибири, было Джунгарское ханство, созданное западно-монгольским племенем ойратов, кочевавшим в Алтайских горах южнее верховий Иртыша и Енисея. Среди наиболее крупных крепостей, захваченных джунгарским правителем Галданом Бошокту-ханом (1670—1697), был город Еркен, ранее принадлежавший Бухарскому ханству. Бухарские купцы, торгуя с соседними государствами, были частыми гостями в столице Сибири — Тобольске. Вместе с разноцветными тканями и другими восточными изделиями их караваны привезли в Россию золотой песок, который добывали на реке Еркен-Дарья.
Золото, золото, золото…
Интересный факт, что в 1714 г. к калмыцкому хану Аюке (1642—1724) прибыло посольство из Китая. Его цель была согласована с Петербургом, и посольство было отправлено не к Петру I, а к калмыкам. Глава Пекинской миссии, Тулишень, оставил подробное описание русских земель, а также встречи с Аюкой ханом вплоть до стенограммы их беседы. В ней калмыцкий хан предстает как мудрый и дальновидный политик, который, находясь вдали от монгольско-маньчжурских и ойратско-маньчжурских отношений, все же беспокоится за мир и стабильность в той земле, где когда-то вырос он сам. И между тем, показывает свою осведомленность во многих вопросах центральноазиатской политики.
В тот же период в связи с неоднократными заявлениями об азиатском «песочном золоте» Петр I решается на отправку с разведывательной целью двух экспедиционных отрядов из Тобольска и из Астрахани. Одна из них — экспедиция И. Д. Бухгольца (из Тобольска), а вторая — князя Александра Бековича Черкасского из Астрахани, который прибыл туда в сентябре 1714 г.1
Первой из них стала экспедиция Ивана Дмитриевича Бухгольца, будущего основателя города Омска. 22 мая 1714 г. указ о ее организации был подписан лично Петром I, который, как установлено, на тот момент находился в Кронштадте на борту галеры «Святые Наталии». Свою резолюцию об отправке воинского отряда на южную окраину Сибири под руководством подполковника Ивана Дмитриевича Бухгольца он наложил прямо на письме М.П. Гагарина о «песочном золоте» собственноручно. И в тот же день продиктовал для него подробную инструкцию по осуществлению задуманного им плана.
И вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что двумя днями ранее (20 мая) им же подписан другой указ «О посольстве в Хиву». В нем предлагается послать хивинскому хану поздравление, «а оттоль ехать в Бухары к хану, сыскать какое дело торговое». Но «настоящее дело», — разъясняется далее, состоит в том, «чтоб проведать про город Иркен, сколь далеко оной от Каспийского моря, и нет ли каких рек оттоль»2. А вот и другой указ: «Именной, данный полковнику Бухгольцу. — О завладении городом Еркетом и о искании золотого песку по реке Дарья». «Понеже доносил Нам Сибирский Губернатор, Господин Князь Гагарин, что в Сибири близ Калмыцкого городка Еркета на реке Дарья промышляют песочное золото»3. Там же расписывается, как должен Бухгольц взять в Тобольске у «помянутого губернатора» 1 500 человек воинских людей, а также: «…сыскать несколько человек из шведов, которые искусны инженерству, артиллерии (…) и в минералах разумеют» и «с воли губернаторской взять». А «с ними идти на Ямышь озеро, где велено делать город».
Там они должны перезимовать, а на следующую весну идти к городу Еркенду, по пути следования делать редуты для провианта на расстоянии не более шести дней пути один от другого и в них оставлять по несколько человек для охраны. «А когда Бог поможет до Еркета дойти, тогда трудиться тот городок достать…», то есть взять штурмом, вслед за тем начать поиски тех мест, где «по Дарье реке тамошние жители золото промышляли»4.
В отечественной истории о И.Д. Бухгольце существуют довольно противоречивые сведения. Так, известно, что в свои молодые годы он состоял в потешном войске Петра I. С 1689 г. он уже числился офицером Преображенского полка. Боевое крещение принял во время Азовских походов, после чего участвовал в Северной войне и дослужился до чина подполковника. Из Москвы Бухгольц с сопровождавшими его офицерами и солдатами Преображенского полка выехал в августе 1714 г. В Тобольск они прибыли, по непроверенным данным, 14 ноября того же года, где и провели зиму, набирая людей, и занимались подготовкой снаряжение для предстоящего рейда вглубь южных территорий Сибири. Отметим, князя Гагарина на тот период в Сибири не было. Он уехал в Петербург 1 января 1714 г. и обратно вернулся лишь 21 мая 1716 г. Сохранилось послание от находящегося в то время в столице князя Гагарина, в котором он пишет:
«…в небытность в Сибири губернатора велено весь отпуск готовить, до указу великого государя, тоболскому каменданту Дорофею Афанасьеву сыну Траурнихту; и о том отправлении, о даче людей и амуницыи и артилерии, и денег, и что надлежит его подполковничью отпуску из сенату или из двора царского величества — все велено отправлять ему, тоболскому коменданту».
Старт «золотой экспедиции»
Таким образом, следует указать на существенную деталь в рассматриваемой нами ситуации — неучастия непосредственно губернатора в подготовке и формировании экспедиции Бухгольца. А позже, во время следствия, Гагарину будет поставлено в вину плохая организация и подготовка этой экспедиции(!?). Важно и то, что губернатора смогли заменить его подчиненные, сумевшие в довольно короткий срок собрать необходимый воинский контингент из числа местного населения, обмундировать его, обеспечить оружием, боеприпасами и провиантом. И все эти обязанности исполнял бывший в то время комендантом Тобольска Дорофей Афанасьевич Траурнихт.
Надо сказать, что Траурнихт был для Сибири фигурой заметной: одно время он служил воеводой в Якутске, в дальнейшем переведен в Тобольск. Кроме всего прочего, Бухольц был женат на дочери Траурнихта — Марье Дорофеевне. Является ли случайным факт одновременного пребывания в Тобольске зятя и тестя-коменданта, или Петр намеренно направил Бухгольца в Сибирь, полагая, что тот получит там родственную поддержку, вряд ли возможно объяснить, не имея на то веских доводов. Судя по всему, непосредственная деятельность по набору рядовых участников похода началась уже в январе 1715 г. Так, 21 января 1715 года Дорофей Траурнихт писал коменданту Тюмени Эверлакову:
«По Указу Великого Государя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя России Самодержца и по приказу Губернатора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина на Тюмень коменданту Эверлакову в нынешнем 715 году велено и с тобольских, и с тюменских, и с туринских служилых людей и казачьих детей выбрать пятьсот человек и отдать подполковнику г-ну Бухолцеву на оставку в гарнизонех также что понадобитца к отпуску господина Бухолцова велено ис каждого города отпускать без всякого удержании»5.
Сохранился ряд документов, опубликованных тюменским исследователем В.А. Ефремовым, в которых отражена фактическая сторона подготовки вооружения для экспедиции. Из них мы узнаем, что в марте 1715 г. тюменский комендант Д.Б. Зубцов, адресуясь непосредственно к М.П. Гагарину, сообщает о посылке в Тобольск кузнецов, колесников и плотников6. Там же приводится выписка «Из ведомости о количестве денег, военных и продовольственных проносов, принятых для похода Бухольца». Из нее мы узнаем, что для вооружения отряда были взяты «фузей московской присылки 2 000. Палатей 2 000, по цене на 3 300 рублей. За дело 1 000 эфесов и крючков к палашам 120 рублев. Тобольских нового дела 495 фузей, по цене 742 рубли 15 алтин 4 деньги».
Как видим, из полутора тысяч военных, участвующих согласно указу Петра в походе, практически все имели огнестрельное оружие. И кроме того им был придан довольно солидный артиллерийский парк: «Пушек медных: старого литья 5, да вновь вылито две шесть-футовых, шесть 3-х футовых. Мартир пудовой 14, мартир 6-фунтовых, ценою кроме старых, 32, 8 рублев 11 алтын 4 деньги»7. Исходя из документа, в поход было взято 27 орудий различного калибра, что для того времени являлось значительной огневой мощью.
Все приготовления были закончены лишь ко второй половине лета, и 27 июля 1715 г. речная флотилия: около 60 судов различной конструкции (32 дощаников и 27 лодок), — отбыла из Тобольска вверх по Иртышу. В городе Таре к ним примкнуло около 1 500 конников. Всего в экспедиции приняли участие 2 932 человека (приводится и иная цифра —2 797 человека), часть из которых двигалась по суше, а другая речным путем. О величине речных судов можно судить, поделив количество поместившихся на них солдат на число транспортных средств. Получается, что в каждое из них помещалось приблизительно 25 человек. Сообщается, что в пути к ним пристало еще 12 дощаников, нагруженных товарами.
Ямышева озера флотилия достигла 1 октября 1715 г. По словам купцов, дорога до Эркета обычно занимала чуть более двух с половиной месяцев «нескорою ездою». Как видим, примерно за такой срок отряд Бухгольца это расстояние и преодолел. Протяженность речного пути от Тобольска до нынешнего Омска составляет около 1 200 км. И от Омска до современного Павлодара, расположенного поблизости от Ямыш-озера, — около 600 км. Значит, экспедиции Бухгольца пришлось преодолеть 1 800 километров за 60 дней, то есть в среднем суда проходили по 30 км в день. Трудно объяснить, почему экспедиция вышла из Тобольска во второй половине лета, пропустив наиболее благоприятное для этого весеннее время года. Возможно, не все приготовления оказались закончены к этому сроку, но могло быть и так, что сроки диктовались и сугубо практическими целями, если заведомо предполагалось провести зимовку на Ямышевском озере.
Джунгария против вторжения
Несколько удивляет и дата закладки Ямышевской крепости — 29 октября. Получается, что практически месяц строительством ее не занимались. С чем это связано, можно опять же предположить — разведка местности, поиск и подвозка строительных материалов или что-то иное. Работы велись под руководством шведского офицера Каландера и планировалось их окончание уже к весне. Но в феврале 1716 г. в окрестностях строящейся крепости стали появляться вооруженные всадники, обеспокоенные происходящим строительством на их землях. То были калмыцкие воины (ойраты) существовавшего в тот период Джунгарского ханства. Его правитель — контайша Черен (Церен) Дондук — потребовал немедленно покинуть его земли, грозя расправой.
Получив отказ, в ночь на 10 февраля на крепость напали 10 тысяч воинов джунгарского войска и попытались штурмом взять вновь возведенное укрепление. Бой продолжался 12 часов, и русскому отряду удалось удержать крепость. Но худшее ждало их впереди. Джунгарские воины окружили русский лагерь и блокировали всяческое их сношение с внешним миром. В лагерь было передано послание контайши, в котором он давал правовую оценку строительства укрепления на его земле: «город-де построен ложными словами» — и вновь предлагал вернуться отряду обратно в Россию. Однако Бухгольц ответил отказом со словами «не обык бояться угроз», надеясь на помощь из Тобольска, куда неоднократно им направлялись гонцы. Но помощь не приходила, поскольку все гонцы попали в плен, а весной в лагере вспыхнула эпидемия сибирской язвы, уносившая каждый день из рядов защитников более десяти человек.
К началу весны в живых осталось не более 700 человек. Г.Е. Катанаев в своей работе писал, что 133 человека были убиты, 419 попали в плен и половина отряда умерли от болезней. (Аналогичное число пленных указываете капитан Унковский во время посещения им Джунгарии.) Был проведен военный совет, на котором приняли решении о возвращении всего экспедиционного отряда обратно в Тобольск. Как объяснялся впоследствии Бухгольц в своем отчете Сенату:
«…опасаясь, дабы многая артилерия и амуниция не досталась в руки неприятелю, и весьма б интерес царского величества не утратился, понеже тем летом секурсу от Тоболска притить к нему было невозможно, и готовых войск в Сибири малое число»8.
«Отступаем…»
28 апреля 1716 г. на 18 дощаниках остатки экспедиции направились вниз по Иртышу. Осаждающие не препятствовали их отходу и даже отпустили плененного священника и нескольких человек с ним. В мае отряд добрался до устья реки Оми, где была заложена Омская крепость. Во вновь возведённом укреплении Бухгольц передал командование майору И.Л. Вельяминову-Зернову, а сам отправился в Тобольск, а вслед за тем в Петербург. В январе 1719 г. он предстал перед сенатской комиссией, где дал объяснения по поводу неудач возглавляемой им экспедиции и причин ее провала. Одновременно с тем уже велось следствие по делу М.П. Гагарина.
Решением комиссии стала отправка в Сибирь для установления истинных причин неудач, постигших отряд Бухгольца, экспедиция майора И.М. Лихарева, которому поручалось: «Розыскать сведения о поведении князя Матвея Гагарина и о подполковнике Бухгольце, каким образом у него Ямошевскую крепость контайшинцы взяли, а также и о прочих его худых поступках». — Следствие затянулось на несколько лет в ожидании, пока Лихарев вернется обратно. Лишь после изучения сведений, доставленных Лихаревым, Бухгольц был оправдан и признан годным к «лучшему делу». Некоторое время он заведовал госпиталями, а затем был назначен комендантом Нарвы. В 1724 г. уже в чине полковника направлен на китайскую границу. С 1724 г. командир Якутского полка и одновременно комендант Селегинской крепости. При его участии была заложена Кяхта, ставшая впоследствии важным пунктом русско-китайской торговли. В 1728 г. Бухгольц был назначен генеральным правителем пограничных с Китаем областей. С 1731 г. получил чин бригадира. В 1740 г. в чине генерал-майора был уволен в отставку.
Пленники Иссык-Куля
В связи с описываемыми событиями интересно привести тот факт, что в экспедиции Бухгольца принимали участие и шведские военнопленные, о чем собственно было прописано в указе Петра. Общее их количество неизвестно, но в отчете капитана от артиллерии Ивана Унковского, прибывшего в Джунгарию во главе российского посольства в декабре 1721 г., сообщается об одном из них, попавшем в плен к джунгарам возле Ямыш-озера. Это был шведский офицер Иоган Густав Ренат и попавшая вместе с ним в плен некая Бригитта Шерзенфельд, которая впоследствии стала его женой. Иоган Ренат владел навыками литья изделий из бронзы. И под его руководством были отлиты семь медных пушек и три мортиры, которые джунгары использовали в сражении с казахами под Аягузом. Казахское войско, вооруженное традиционными луками, пиками, саблями, на голову было разбито9. Сам Густав Ренат смог выехать на родину лишь в 1733 г. и привез составленную им карту джунгарских владений с указанием месторождения на их территории «железного песка».
Вместе с ним в плену оказался и дворянин из города Кузнецка Иван Сорокин, вернувшийся на родину спустя четырнадцать лет. От него русское правительство впервые получило сообщение о том, что в Джунгарии идет добыча железной руды в окрестностях озера Тускель — «соленое озеро» — так называли озеро Иссык-Куль. Именно там Густав Ренат с помощью русских пленников усовершенствовал доставки руды с одного берега озера на другой, построив «дощаник для перевозу».
А всего на руднике работало около тысячи человек русских пленников. Кроме того, другой русский пленный — некто Зеленовский — начал изготовлять ружья. Известно, что тогда же в Джунгарии было налажено производство пороха. Поручик Дебош показал, как производить кустарным способом сукно и металлические иглы. Под руководством русских умельцев джунгары начали выделывать кожи довольно высокого качества. Таким образом, даже кратковременное проникновение русского отряда на территорию сопредельного государства, повлекло за собой некоторые изменения в их жизненном укладе и наметилось изменение в отношениях с Россией, что произошло позднее.
Глобально-исторический вывод
В тоже время поход Бухгальца выявил слабые стороны в планировании подобной военной экспедиции, предпринятой без должной первоначальной подготовки, и отсутствие связи с базовым центром. Первоначальный неудачный опыт показал необходимость строительства на всех стратегически важных точках проходимого экспедиционным корпусом маршрута опорных пунктов с постоянным гарнизоном и запасом продовольствия и боеприпасов. Так, отряд Бухгольца, не имея лекарей и медикаментов во время осады джунгарами Ямышевской крепости, потерял от ран и болезней немало своих людей. Направленные вслед за ним экспедиционные отряды имели в своем распоряжении двух лекарей с «полковою аптекою».
Подводя итог, следует сказать, что хотя экспедиция Бухгольца и оказалась в целом неудачной, но кроме общеизвестного факта закладки Омской крепости вошла в историю расширения российского государственного пространства на юго-восток как выполнившая разведывательную цель за счет принесения в жертву более двух третей жизни ее участников. Но благодаря тому был установлен контроль российскими вооруженными силами над южной частью Западной Сибири и ограждение ее населения от набегов степных, далеко не миролюбивых соседей.
Предпринятые шаги позволили начать более интенсивное возделывание плодородных сельскохозяйственных земель в приграничной полосе и строительство мирных крестьянских поселений. Все это позволяет говорить о частичном достижении положительных результатов экспедиции Бухгольца. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Примечания:
1 Отряд Бековича был весь вырезан предательски напавшими на них воинами хивинского хана. Спастись удалось лишь нескольким казакам.
2 ПСЗ. № 2809. С.105.
3 Еркет или Яркент располагался на землях, подвластных в начале XVIII в. Джунгарии. Впоследствии Джаркент — город в Семиречьи, в советское время — Панфилов. Некоторые авторы неверно определяют его местонахождение на китайской территории, путая с китайским городом Яркендом, находящимся на восточной стороне Тянь-Шанских гор, южнее города Кашгара в пустыне Такла-Макан.
4 ПСЗ. Т.4. № 2811. С.105-106.
5 ГУТО ГА в г. Тобольске, ф.47, оп.1, д. 1889а, л.2.
6 Ефремов В.А. Материалы для истории оружейного производства в Тобольской губернии XVIII столетия/ Лукич. № 2(12). 2000. С.91.
7 Памятники сибирской истории XVIII века. Кн.2. 1713-1724. СПб., 1885. С.131.
8 РГАДА, ф.248, оп. 7, кн.373, л.72.
9 Казахи в дореволюционный период именовались как киргиз-кайсаки.
![]()