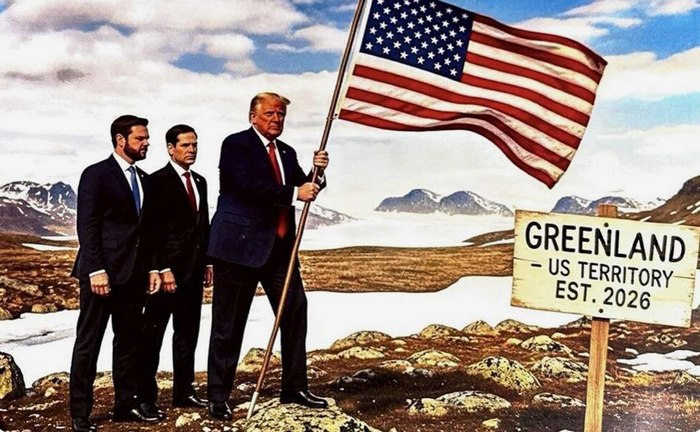–†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β ¬Ϊ–Γ–Η―ç―²–Μ¬Μ
–†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β ¬Ϊ–Γ–Η―ç―²–Μ¬Μ

–ü–†–û–î–û–¦–•–ï–ù–‰–ï. –ü–†–ï–î–Ϊ–î–Θ–©–ï–ï –½–î–ï–Γ–§. –ù–ê–ß–ê–¦–û –½–î–ï–Γ–§
–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α ―É–Ε–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –≤–Ω–Β―Ä―ë–¥, –Κ–Α–Κ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ! –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Ψ–Μ―¨. –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―É―¹―²–Α–≤―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η ―²–Η–Ω–Ψ–≤―É―é ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Η–Ζ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Η.
–£ 1925 –≥–Ψ–¥―É –Ψ―²―΅―ë―² –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ ―¹–Β–Φ―¨―é ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –¥–≤–Ψ–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –ù–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α 1926 –≥–Ψ–¥–Α –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α.¬†–≠―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –£ 1936 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Η―ç―²–Μ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Η–Ζ:
- –ö–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Η–Ζ ―²―Ä―ë―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ζ–Α –≤―¹–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄, –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Η ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄;
- –‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Η–Ζ –¥–Β–≤―è―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Μ―è –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄;¬†
- –û–±―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –≥–Ψ–¥.¬†
–£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ, –≤―¹–Β –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Η―ç―²–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄. –Ξ–Ψ―²―è ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Η –≤ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 1920-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Β–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Α―Ö. –£–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Ι ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Α―Ö.
–†–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ
–ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Γ–Η―ç―²–Μ–Α –±―΄–Μ–Η ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Ι –≤―Ä–Α–Ε–¥―É –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η. –ü–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–≤ –≤ –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ―É―é –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―¨, ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –≤ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ–Η. –ï―â―ë –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Β –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η. –ö―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ.
–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄, ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ–Α–Κ –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―²―²–Η–Μ–Μ–Ψ –Η –û―¹–Κ–Α―Ä –Ξ–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ―¹–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –Η –Β―ë ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η. –£ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―΅―ë―²–Β –Ζ–Α 1927 –≥–Ψ–¥ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –Γ–Η―ç―²–Μ ¬Ϊ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η¬Μ. –≠―²–Ψ―² –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ, –Κ–Α–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β, –Η–Ζ–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É –Ψ―² –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨. –≠―²–Α –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Η ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ―²―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –≠―²–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β―Ä–Η–Η ―¹―²–Α―²–Β–Ι –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β, –Α–≤―²–Ψ―Ä―΄ –Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ξ–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Α, –Η ―²–Ψ―² ¬Ϊ–Ψ–±―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Ζ–Α–Ω–Η–Ϋ–Α―é―â–Η―Ö―¹―è, ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³―Ä–Α–Ζ¬Μ. –£ –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Β –Ψ –Ξ–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ―¹–Ψ–Ϋ–Β 1935 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–±―΄–Μ–Α –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Α¬Μ.
–£ 1928 –≥–Ψ–¥―É –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ 1922βÄî1923 –≥–Ψ–¥–Α―Ö, ―Ü–Η―²–Α―²–Α: ¬Ϊ–Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ψ―²―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄; ―Ä―É―¹―¹–Κ–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―¹–Β―è–Μ–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ–Ψ–Φ¬Μ. –î–Α–Ε–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Η –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―³―Ä–Α–Κ―Ü–Η–Ι, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―²―è–Ϋ―É―²―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Μ–Β―². –£ 1926 –≥–Ψ–¥―É –Ε–Β–Ϋ–Α –≠–Ϋ–Ψ―Ö–Α –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α, –‰―Ä–Β–Ϋ (–‰―Ä–Η–Ϋ–Α), ―É―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Κ–Α –ö–Α―Ä–Β–Μ–Η–Η, –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Α―è ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ¬Ϊ―΅–Β―Ä―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Α. –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ –Ω–Η―¹–Α–Μ –±―Ä–Α―²―É, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅–Β–Φ ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–≤―É―Ö –Ψ–≥–Ϋ–Β–ΙβÄΠ –†–Β–Ζ–Κ–Η–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ζ–≤―É―΅–Α―² ―¹ –Ψ–±–Β–Η―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ, –Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―² –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ¬Μ.
–≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Η, –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Μ–Ψ ―¹ ―ç―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä―è–Φ–Η. –Ξ–Ψ―²―è –≤ –Γ–Η―ç―²–Μ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹, –¥–Μ―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ ¬Ϊ–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―ë–Ϋ. –≠–Ϋ–Ψ―Ö –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ, –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Α. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1925 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Ψ―²–Α―Ä–Η―É―¹–Α –¥–Μ―è –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Η –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Α―Ö, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ψ―² –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Ψ–Ι, ―Ü–Η―²–Α―²–Α:¬†
¬Ϊ–≠―²–Η –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Φ, –Β―¹–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –¥–Β–Ϋ–Β–≥βÄΠ –†–Α–±–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ–¥, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄, ―΅–Β–Φ ―²–Β 500 –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹―É–¥–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ ―¹ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η [–Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨], –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Φ–Ϋ–Β¬Μ.
–†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ, ―΅–Α―¹―²–Ψ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β, –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ―΄ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ, –≤–Μ–Α–¥–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ –Γ–®–ê, –Ϋ–Β –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –≤ –Γ–Η―ç―²–Μ. –‰―Ö –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η –≤―¹―é ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –Γ–Η―ç―²–Μ–Ψ–Φ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±―΄–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ―΄ –¥–Β–Μ―É.¬†
–†–Α–Ζ―Ä―΄–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α, –Η ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è, –Ω–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ: –Ω–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ―É. –ù–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è―Ö –Ϋ–Β –Ζ–Α―³–Η–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ, –Κ―²–Ψ –Η –Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹―É–Φ–Φ―΄ –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ–Ψ―¹–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―³–Η–Ϋ–Ϋ―΄ –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Η –Η–Φ–Β–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―΄, –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Η ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β.¬†
–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―Ü―΄ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β, –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹, –Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―é―â–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–± ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ ―¹ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ―¹―è ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è–Φ–Η –Φ–Β–Ε–¥―É ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ü. –Ω–Ψ―΅–≤–Β, –Η, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―É―¹–Η–Μ–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è―Ö.
–Γ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –Φ–Α–Μ―è―Ä–Η–Β–Ι –Η –Ε–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―ç―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è–Φ–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Β―ë. –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 1924 –≥–Ψ–¥–Α, –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ–Κ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –≤ –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Β –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–ΗβÄΠ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Ψ–±―â–Η–Ϋ―É¬Μ. –ö―Ä–Α–Ι–Ζ–Β–Φ–Μ–Β―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ –≤ 1927 –≥–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1922-–≥–Ψ –Ω–Ψ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¨ 1927-–≥–Ψ –Η–Ζ –Γ–®–ê –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Ψ 220 –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ 102. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―É―΅–Β―¹―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι, ―²–Ψ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ 334, –Α ―É–Β―Ö–Α–≤―à–Η―Ö βÄî 134, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β, ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Η –¥–Β―²–Η. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―ç―²–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α 1927 –≥–Ψ–¥ ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –±–Β–Ζ ―É―΅―ë―²–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Ι, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α 118 –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Η 92 ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ 1927 –≥–Ψ–¥―É –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è–Φ–Η, ―΅–Β–Φ –≤ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä–Β 1922 –≥–Ψ–¥–Α. –Θ–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄:¬†
- ¬Ϊ–¦―é–¥–Η, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è¬Μ;
- ¬Ϊ–£―΄―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ ―²–Α–±–Α–Κ–Α¬Μ.¬†
- –û–¥–Η–Ϋ ―¹–Κ―Ä–Η–Ω–Α―΅ ―É―à―ë–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Η–≥―Ä―É.¬†
- –û–¥–Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Ϋ―É–Φ–Β―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―² –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι.¬†
–‰―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ 1926 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Α―¹―²―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Α –Η–Ζ –Γ–Η―ç―²–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α, –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η (–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ―è―Ä–Η―è), ―²―è–Ε―ë–Μ―΄–Β –Η–Μ–Η ―¹–Κ―É―΅–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ (–Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―¹―¹―΄–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄) –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Β–¥–Ψ–Ι. –€–Α–Μ―è―Ä–Η―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α–Μ–Α –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 20-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –ß–Μ–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –≠. –ö―É―É–Μ–Α –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β:
¬Ϊ–†–Α–±–Ψ―²–Α ―à–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–Ω–Α–Μ–Α ―ç―²–Α –Φ–Α–Μ―è―Ä–Η―è ―¹ ―é–≥–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤–Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ß–Η―¹–Μ–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―à–Β―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é, –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η. –ù–Η–Ε–Β–Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Ω–Α―Ä―É –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β ―²―Ä–Ψ–Β –Φ–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ ―è ―¹―΅―ë–Μ –Ζ–Α –Μ―É―΅―à–Β–Β –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β, –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É–≤―à–Η–Β ―²―É –Ε–Β ―É―΅–Α―¹―²―¨βÄΠ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―É–Β―Ö–Α–Μ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é [1924 –≥–Ψ–¥–Α], ―΅―²–Ψ –Η ―è, –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ―É―΅–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é¬Μ.
–£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α―Ö –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α, –≥–Α–Ζ–Β―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α―²―¨―è―Ö –Η –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α―Ö –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Β―â―ë –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É –Β―ë ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η. –£ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―΅―ë―²–Α―Ö ―ç―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Α –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β―Ö 20-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤.¬†
–î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ –Ω–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Φ–Β–Ε–¥―É ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Ι. –ë―Ä–Α–Κ –Η –Ε–Η–Μ―¨―ë, ―΅–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―è –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―¹―¹–Ψ―Ä –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ö –≤―΄―à–Β–Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Γ–Η―ç―²–Μ –Η –Η–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄.
–Δ―Ä–Ψ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–≤―à–Η–Β –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É
–≠–Ϋ–Ψ―Ö –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –‰―Ä–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Γ–®–ê –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1926 –≥–Ψ–¥–Α. –‰―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Β–±―ë–Ϋ–Ψ–Κ ―É–Φ–Β―Ä –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β ―²―Ä―ë―Ö ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β–≥–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α –Γ–Η―ç―²–Μ –Ζ–≤―É―΅–Α―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―É―¹―²–Α―Ö ―É–±–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α. –ß–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄, –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–≤―à–Η–Β –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–Ϋ–Ψ―¹ –≤ 500 –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Η ―Ü–Β–Ϋ―²–Α, –Κ–Α–Κ ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ä―²–Α. –ù–Β–≤–Ζ–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é:¬†¬Ϊ–û–¥–Β–Ε–¥―É –¥–Μ―è –Ε–Β–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ¬Μ, βÄî –Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ–Ϋ –±―Ä–Α―²―É. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α, ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ―΄ –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Η–Ζ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η, –Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Φ–Α―Ä–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α–Μ–Η. –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η: ¬Ϊ[–ö–Ψ–≥–¥–Α] –≤―¹–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―²―è―² ―ç―²–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ¬Μ.¬†
–ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω –Ψ–±―â–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η: ¬Ϊ–£―¹―ë –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ¬Μ. –≠―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―É―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α(!) –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―² –≤―¹–Β–Φ. –ü―Ä–Ψ –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Φ –Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –€–Β–Μ–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―΅–Α―¹―²―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹―É–¥ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄.
–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–Ω–Μ–Β–Ι, –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥―à–Β–Ι –Κ –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥―É –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α, ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η. –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―³–Η–Ϋ–Ϋ, –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Μ ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É ¬Ϊ...―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–≤―à–Η–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ―è–Μ–Η –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤ ―ç―²―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É¬Μ.¬†–î–Ψ 1919 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―³–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η―è, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è –≤ –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Ω–Α―Ä―²–Η―é –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η, –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä―è–Φ–Η. –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α: ¬Ϊ–Λ–Η–Ϋ–Ϋ―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Η–¥―è―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―² ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β―É―è–Ζ–≤–Η–Φ―΄–Φ–Η –Κ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è–Φ¬Μ.¬†
–£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―², ―Ä–Α–Ζ–≥–Ϋ–Β–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Α –‰―Ä–Η–Ϋ―΄ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ, –Ω―Ä–Η–≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ ―¹―É–±―¹–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Β―ë –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Μ–Η―à–Η―²―¨ –Β―ë ―΅–Μ–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η. –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ: ¬Ϊ–ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²―¨, –Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ―É―΅–Η―²―¨―¹―è¬Μ. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ, –Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ.
–ê–Μ–Α―Ä–Η–Κ –†–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Κ–Α, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄, ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –≠–Ϋ–Ψ―Ö –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ. –ü―Ä–Η–±―΄–≤ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –Ε–Β–Ϋ―É –Η –Ω―è―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Η―Ö ―³–Β―Ä–Φ–Β –≤ –£–Α―à–Η–Ϋ–≥―²–Ψ–Ϋ–Β. –†–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Κ–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―΅–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥, –Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η ―¹ ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É –Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –†–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Κ―É –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –†–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Κ–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ζ–Α―è–≤–Η–≤, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―² –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β. –ü–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –†–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Κ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É –Β–≥–Ψ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―΅–Β –Ω–Μ―É–≥–Α. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –≤ ―²―é―Ä―¨–Φ―É (–≤ –Ψ―²―΅―ë―²–Α―Ö –Ϋ–Β ―É―²–Ψ―΅–Ϋ―è–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η ―²―é―Ä―¨–Φ–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η, –Η–Μ–Η –Ε–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Ι –Α―Ä–Β―¹―²) –Η, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Φ―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―É, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Β–Φ―¨ –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤. –ï–≥–Ψ –Ζ―è―²―¨ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η –Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹ ―¹–Β–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –Γ–®–ê –Ψ―² ―à―²–Α―²–Α –û―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α. –†–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Κ―É –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ–Μ–Η –≤ –¦–Α―²–≤–Η―é, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –Γ–®–ê. –û–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―è―Ä―΄–Φ –Α–Ϋ―²–Η–Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é 1924 –≥–Ψ–¥–Α: ¬Ϊ–¦―é–¥–Η, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ―à–Η–Β –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–±–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–¥–¥–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―É –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²–≤–Ψ―Ä–Η―² –Κ―É―΅–Κ–Α –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―à―²―΄–Κ–Ψ–≤ –Η ―²―é―Ä–Β–Φ¬Μ.
–Θ–Β―Ö–Α–Μ –Η –ö–Μ–Α―¹ –ö–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1923 –≥–Ψ–¥–Α, –Β―â―ë –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β, –Ψ–Ϋ –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¦–Α–Ι–Ϋ–Β –ü–Α–Α―è–Ϋ–Β–Ϋ, –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Β –Η –Α–Κ―É―à–Β―Ä–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Α. –‰―Ö –±―Ä–Α–Κ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –ö–Μ–Α―¹ –Η –¦–Α–Ι–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Ω–Β―Ä–Β–Ι–¥―è –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É ―¹ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Β–Ι 12 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1925 –≥–Ψ–¥–Α. –Θ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É–Β―Ö–Α―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Α. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ –Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ, –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―¹–Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β–Φ. –€–Α–Μ―è―Ä–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1924 –≥–Ψ–¥–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –¦–Α–Ι–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Η―Ö –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Η―é–Ϋ–Β. –ö–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Ε–Η–≤―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Β, –≥–¥–Β –≤―΄―Ä–Ψ―¹ –ö–Μ–Α―¹.
–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –≤ 1920-–Β –≥–Ψ–¥―΄
–Δ–Β, –Κ―²–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Μ–Β―², –Κ―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Ι–Κ–Η–Φ–Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α. –£ 1927 –≥–Ψ–¥―É –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä–Β―²–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―Ö–Ψ–Ε–Η –≤ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η.
–ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅―É―é ―¹–Η–Μ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―É―¹―²–Α–≤, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Μ–Η ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Η–±–Κ–Η–Φ. –‰–Φ–Β―è –Η–Ζ–±―΄―²–Ψ–Κ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Η–Μ―΄. –Γ–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ-–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ¬Ϊ–ö–Ψ–Ι―²¬Μ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ¬Ϊ–ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä¬Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ι–Φ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α–Ι–Φ–Α –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ.¬†
–Ξ–Ψ―²―è –Γ–Η―ç―²–Μ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤, ―¹ 1924 –≥–Ψ–¥–Α ―É –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –≤ –≤–Η–¥–Β ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤-–Α–≥―Ä–Α―Ä–Η–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –Μ–Β―²–Ψ–Φ –≤ –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Β―ë –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι. –Γ―²―É–¥–Β–Ϋ―²―΄, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Γ–Η―ç―²–Μ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è–Μ–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Η–Μ–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ. –ö 1933 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–Α―É–Μ–Η―² –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–±–Ψ―Ä ―É―Ä–Ψ–Ε–Α―è, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ―¹―è: ¬Ϊ–ù–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ¬Μ.
–ù–Β–Κ–Η–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―², –Ω–Η―¹–Α–≤―à–Η–Ι –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –≤ 1923 –≥–Ψ–¥―É, ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Φ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Α –±–Β–Μ―¨―ë, –Κ–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄. –û–Ϋ ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Β―ë –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―Ä–Β―à–Η–≤, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η –±–Β–Ζ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤. –û–Ϋ–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Μ―É―΅―à–Β –Η –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Β–Β ―¹―²–Η―Ä–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Ϋ–Η 178 ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ, ―΅–Β–Φ –±―΄―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Ψ―Ä–¥–Α –Η–Μ–Η –±–Α–Ϋ–Κ–Η―Ä–Α¬Μ.
–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ―É. –Δ―Ä―É–¥ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–Ψ―²–¥–Β–Μ―΄¬Μ. –Γ–Α–Φ―΄–Φ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ¬Ϊ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α–Φ–Η¬Μ, –Η –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Η―â–Η –Η ―¹―²–Η―Ä–Κ–Ψ–Ι. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ¬Ϊ–Ψ―²–¥–Β–Μ―΄¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η–Ζ –Ω―²–Η―Ü–Β–≤–Ψ–¥–Α –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α. –û―²–¥–Β–Μ ¬Ϊ―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η–≤–Α¬Μ (―²–Α–Κ –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Κ–≤–Α―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ―¹―è, –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Β–Φ―É –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β) ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Α―Ä–Η–Μ ―¹―²–Ψ –≥–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–≤–Α―¹–Α –≤ –¥–Β–Ϋ―¨, –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Μ–Β―²–Α.
–ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α –≤ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –≥–Β–Ϋ–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–Μ–Η: –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Η –Η –Ω―Ä–Α―΅–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Α –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄. –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ä―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ω–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨-–Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ü–Β―Ö–Β –≤ 1925 –≥–Ψ–¥―É, –Α –Γ―²―Ä–Ψ–Ϋ–≥ –≤ 1933 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Β –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ 4:10 –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ 20:00. –Ξ–Ψ―²―è –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä―É–¥–Α.
  
   
 
–≠–Ϋ–Ψ―Ö –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―ç―²–Η ―²―Ä–Η ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –Γ–Η―ç―²–Μ–Α –≤ 1924βÄî1925 –≥–Ψ–¥–Α―Ö. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α –Ω–Μ―É–≥–Β, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄. –ù–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι βÄî ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Α –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –≤ 1925 –≥–Ψ–¥―É. –û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ ―²―è–Ϋ–Β―² ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ε–Α―²–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―Ä–Β–Ζ–Α―é―² –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―É –Η ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Β―ë –≤ ―¹–Ϋ–Ψ–Ω―΄. –ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨–±–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ 1925 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ–Ϋ–Ψ–Ω―΄ –Ω―à–Β–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ω–Ψ–¥–Α―é―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―²–¥–Β–Μ―è–Β―² –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ―΄. –Ξ–Ψ―²―è ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²―¨–±―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α ―²―É, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É –½–Α–Ω–Α–¥―É –Γ–®–ê –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Β―Ä–Φ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≥―É―¹–Β–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Ω–Μ―É–≥–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –Ε–Α―²–Ψ–Κ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Ψ –≤ –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Α―Ö, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –≤ –Γ–®–ê –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 1920-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –ê –≤ –Γ–Γ–Γ–† ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ.
–£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ 15 –Κ–Ψ–Ω–Β–Β–Κ –≤ ―΅–Α―¹, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Μ–Α―²–Α ―²―Ä―É–¥–Α –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –‰–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤ 1926 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Α¬Μ.¬†–Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―É―¹―²–Α–≤―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ψ–±―â–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β, –Ε–Η–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è (–Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨―é), –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Α―΅–Β―΅–Ϋ–Α―è. –Γ–Η―ç―²–Μ―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Μ–Α ―ç―²―É –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―é. –ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–±―â–Η―Ö ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –¥–Μ―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –†–Β–Ω–Ψ―Ä―²―ë―Ä –Η–Ζ –Γ–Α–Μ―¨―¹–Κ–Α, –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ 1925 –≥–Ψ–¥―É: ¬Ϊ–€―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η [–Ϋ–Α ―É–Ε–Η–Ϋ] –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Β―¹―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―¹―²–Ψ–ΜβÄΠ –€―΄ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―¹―ä–Β―¹―²―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β –Ϋ–Β ―É―à–Μ–Η¬Μ.¬†–‰―Ö ―²―Ä–Η –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―ë–Φ–Α –Ω–Η―â–Η –±―΄–Μ–Η ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η. –£ 1933 –≥–Ψ–¥―É ―É–Ε–Η–Ϋ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―Ö–Μ–Β–±–Α (–≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è), –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α (–≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–≥–Ψ –Η–Μ–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ), –Φ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤–Η, –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η―¹–Κ–Η ―¹–≤–Η–Ϋ–Η–Ϋ―΄ ―¹ ―³–Α―¹–Ψ–Μ―¨―é.
–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―² –≠–¥–Φ–Β –≠–Μ–Η–Ζ–Α–±–Β―² –€–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –î―ç―à–≤―É–¥ (–î–Β–Μ–Α―³–Η–Μ–¥) –≤ 1936-–Φ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Ω–Η―â–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ¬Ϊ–Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β―Ä―É―à–Η–Φ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η–Ϋ–Β¬Μ. –û–Ϋ–Α –Ε–Β –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―é ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α –Φ–Β―¹―è―Ü, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Α ―²–Α–Φ. –½–Α–≤―²―Ä–Α–Κ –≤ 6:30 ―É―²―Ä–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―³–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Α, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―è―΅–Φ–Β–Ϋ―è. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―ë–Φ –Ω–Η―â–Η –¥–Ϋ―è, –Φ–Β–Ε–¥―É 11 –Η 11:30, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η–Ζ ―¹―É–Ω–Α, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Κ–Α–Ω―É―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–≥―É, ―¹ ―΅–Α–Β–Φ –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―΅―ë―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α. –Θ–Ε–Η–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ: ―¹―É–Ω, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ω―É―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―΄―Ä–Ϋ–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄–Β ―è–Ι―Ü–Α, –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α. –î―ç―à–≤―É–¥ –Ϋ–Α―à–Μ–Α –Φ―è―¹–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε―ë―¹―²–Κ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Κ –Β–≥–Ψ –Ε–Β–≤–Α―²―¨¬Μ. –û–Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―²–Α–Κ–Α―è –¥–Η–Β―²–Α¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Α ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Α –Η –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ϋ–Α –Β―ë –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –≤–Κ―É―¹, –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Ω―Ä–Η―ë–Φ―΄ –Ω–Η―â–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Β –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α ―¹ –Ζ–Α–Ϋ–Α–≤–Β―¹–Ψ–Φ, –Α –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Α ―¹ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α–Φ–Η, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –≥–Α–Ζ–Β―²–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –û―¹–Κ–Α―Ä –Ξ–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ―¹–Ψ–Ϋ ―¹ 1935 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Α―Ä–Β–Φ.
–ö–Α–Κ –Η ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β, –Ε–Η–Μ―¨―ë –±―΄–Μ–Ψ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅―ë―²―É 1928 –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –≤ –Ψ–±―â–Β–Ε–Η―²–Η―è―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β–Ϋ–Α –≠–Ϋ–Ψ―Ö–Α –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ –≤ –Ψ–±―â–Β–Ε–Η―²–Η–Β –¥–Μ―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²―¨, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ¬Μ. –î―ç―à–≤―É–¥ –≤ 1936 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Ι ¬Ϊ―΅–Β―²―΄―Ä–Β-―à–Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―², –Η –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –Ε–Η–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è... –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η¬Μ. –û–Ϋ–Α –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η. –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Α, ¬Ϊ–Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –¥–Μ―è –Φ―É–Ε–Α –Η –Ε–Β–Ϋ―΄¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Η–Ζ –¥–≤―É―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η, ―à–≤–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Η, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―²―é–≥–Α –Η –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ–≤―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, –≤―¹–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–≤―É―Ö ―¹―²―É–Μ―¨–Β–≤, ―¹―²–Ψ–Μ–Α –Η –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–Ϋ–¥―É–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ–Η.¬†
–ù–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Α –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Β–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι (–Η –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ε–Α–Μ–Ψ–±) –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 1920-―Ö –Η 1930-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―É―¹―É–≥―É–±–Μ―è―è –Β―ë. –Ξ–Ψ―²―è ―É –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Β―ë ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―΄. –£ 1931 –≥. –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–¥–Β–Μ–Η―è –·–Κ–Ψ–≤ –ê―Ä–Κ–Α–¥―¨–Β–≤–Η―΅ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ:¬†
¬Ϊ–€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² ―É –Ϋ–Α―¹, ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η: –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Φ―΄ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β–Φ: ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É–Ι―²–Β ―¹–≤–Ψ―ë –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Φ–±–Α―Ä―΄. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –≤–Α―à–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É―² ―Ä–Α―¹―²–Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―è–Φ, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Η―²–Β. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –≤―΄ –Ϋ–Α―΅–Ϋ―ë―²–Β ―¹ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ–Η―â–Α –Η ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –≤–Α―à–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Β–Ι¬Μ.
–î–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Η―²–Α―²–Α ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β―¹―ë―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―²―Ä–Ψ―é. –£–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ε–Η–Μ–Η―â–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α, –Ϋ–Α–Ζ―Ä–Β–≤–Α―é―² ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―΅–≤–Β. –ê –¥–Α―ë―² ―²–Α–Κ–Η–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ –≤ 1938-–Φ –Κ–Α–Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ ―²–Β―Ä―Ä–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―è―΅–Β–Ι–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –≤―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨.
–†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä―É –¥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ε–Η–Μ―¨―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄. –£ 1927 –≥–Ψ–¥―É, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–Β―¹―è―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–≤ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ε–Η–Μ―¨―è. –£ 1933 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Α―É–Μ–Η―² –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è, ―Ö–Ψ―²―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ε–Η–Μ―¨―è –¥–Μ―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Η –Ϋ–Β–Κ–Η–Β –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Γ–Η―ç―²–Μ, ―²―Ä–Β–±―É―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Γ–Η―ç―²–Μ–Α, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Ω–Ψ―΅―²–Η ―É–¥–≤–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É 1927 –Η 1932 –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η βÄî ―¹ 210 –¥–Ψ 407 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η –Β―â―ë –Ω–Ψ―΅―²–Η ―É–¥–≤–Ψ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É 1932 –Η 1936 –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η. –Ξ–Ψ―²―è –î―ç―à–≤―É–¥ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α –Ψ 728 –Μ―é–¥―è―Ö, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö 530 –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ–Η (–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≤–Η–¥―É –Μ―é–¥–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―²).
–£ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Η–Ϋ―³―Ä–Α―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ. –ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Α―Ä―΄ –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Γ–®–ê, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²―É–Ω –Κ ―ç―²–Η–Φ ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Η –Κ –Ϋ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Ζ–Ψ―Ä–Β 1923 –≥–Ψ–¥–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ 1925 –≥–Ψ–¥―É ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α 3 % –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―³–Β―Ä–Φ, –Α –≤ 1935 –≥–Ψ–¥―É βÄî –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α 11 %, ―Ö–Ψ―²―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―΄. –†–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –Ψ–± –Α–≥―Ä–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Β, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è―Ö. –£.–‰. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ βÄî ―ç―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ω–Μ―é―¹ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―è –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ.
–ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Η–¥–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Η, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Β. –î–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ω―É―²―¨ –Κ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ψ–±―â–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Η ―¹ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è–Φ–Η.
![]() βÄ΄
βÄ΄