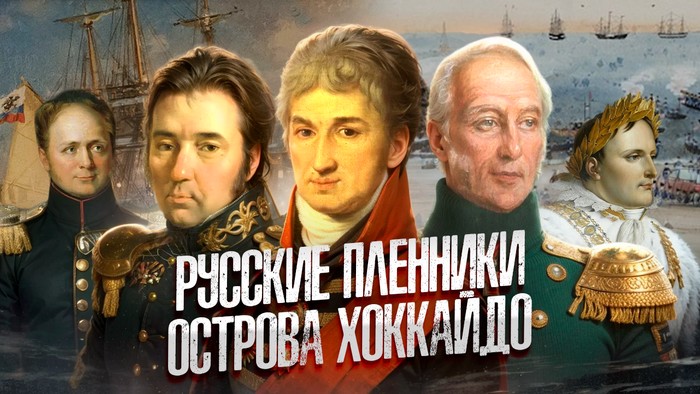–†–Є–Љ –Є —А—Г—Б—Б–Њ-–Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є вАФ –Њ—В ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є¬ї –і–Њ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є¬ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є
–†–Є–Љ –Є —А—Г—Б—Б–Њ-–Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Є вАФ –Њ—В ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є¬ї –і–Њ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–є¬ї —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є
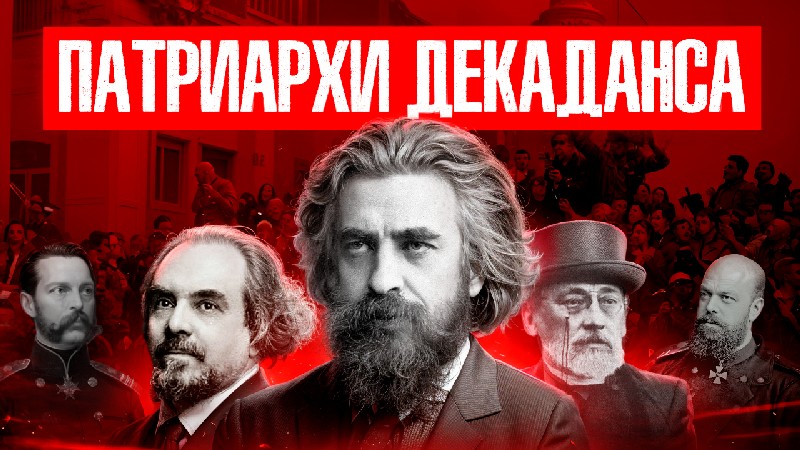
–° –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVIII –≤–µ–Ї–∞ –Є –і–Њ 1917 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ, —З–µ–Љ—Г –≤ –Њ—З–µ—А–Ї–µ –±—Л–ї–Њ –і–∞–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–Т—В–Њ—А–Њ–µ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О¬ї...
–Т ¬Ђ–Я–µ—А–≤–Њ–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–Є¬ї –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ–Ї–Є—Б—В–∞–і–Њ—А—Л-¬Ђ–Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Л¬ї, –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–Є–µ –≤ 1600-—Е –≥–Њ–і–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є —В—А–µ—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є, ¬Ђ–Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї –µ—С, –Љ–µ—З—В–∞—П –Њ ¬Ђ–≥—А–∞–љ–і-–±–Њ–љ—Г—Б–µ¬ї, –Ї–∞–Ї —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П вАФ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –Э–µ–Љ–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є:
¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л, –њ—А–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤–µ –Є —А–∞–±–Њ—В–µ —А–∞–±–Њ–≤, вАФ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж; –Љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Б—В–∞–ї–Є –±—Л –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ –љ–∞—И–µ –Є–Љ—П —Б–і–µ–ї–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л –≥—А–Њ–Ј–љ—Л–Љ –і–ї—П –Р–Ј–Є–Є¬ї.¬†–Ґ–µ –њ–ї–∞–љ—Л –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є—Е —Г—Б–њ–µ—Е–∞—Е: –≤ 1596 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–ї—П–Ї–Є –Є —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –†—Г—Б—М (–У–∞–ї–Є—Ж–Є—П, –Т–Њ–ї—Л–љ—М, —З–∞—Б—В—М –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є) –њ—А–Є–љ—П—В—М –С—А–µ—Б—В—Б–Ї—Г—О –£–љ–Є—О (–Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б—О–ґ–µ—В ¬Ђ–£–љ—Л–љ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є –£–љ–Є–є¬ї). –†–Є–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–∞—Б—В–≤—Г, –њ–∞–љ—Л вАФ ¬Ђ—А–∞–±–Њ–≤¬ї: –Є—Е –≤–ї–∞—Б—В—М –Є –љ–Њ—А–Љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ —Б—В–∞–≤—И–Є—Е ¬Ђ—Г–љ–Є–∞—В–∞–Љ–Є¬ї –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ. –≠—В—Г —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –њ–∞–љ—Л –Є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–њ—А–Њ–µ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Ъ–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М –ї—О–і–Њ–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ –≤ –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ, –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–µ–є.
¬Ђ–Т—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ¬ї –љ–∞ –†—Г—Б—М –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ вАФ –≥–Њ–љ–Є–Љ—Л—Е –Є–µ–Ј—Г–Є—В–Њ–≤, –Љ–∞–ї—М—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А—Л—Ж–∞—А–µ–є, —Б–њ–∞—Б—И–Є—Е—Б—П –Њ—В –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, —И–ї–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–µ–є, –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–µ–є—И–Є—Е —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –†–Є–Љ–∞ –љ–∞ –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б—В–≤–Њ вАФ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Ю —Б–∞–Љ–Њ–Љ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Ї–∞—В–Ю–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А–µ¬ї –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XIX вАФ –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–µ –Є –µ–≥–Њ —Н–њ–Њ—Е–µ вАФ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М.
–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤. –Э–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–∞
–І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –ї–Є—И—М —Б–Ї–Њ—А–±–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї: –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–Њ –≤ ¬Ђ—А–∞–±—Б—В–≤–µ¬ї, –†–Њ—Б—Б–Є—П –Њ—В–Ї–Њ–ї–Њ–ї–∞—Б—М –Њ—В —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—И–Є–±–ї–∞—Б—М, –њ—А–Є–љ—П–≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ —Г ¬Ђ–њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є¬ї (–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і—Л вАФ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞, –њ—А–Њ—З–Є–є –Љ–Є—А: ¬Ђ–љ–µ–ї–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї). –Э–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є ¬Ђ–Ї–∞—В–Ю–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –њ–Њ—И–µ–ї –і–∞–ї—М—И–µ —З–∞–∞–і–∞–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–∞—Ж–Є–є вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї, –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–љ—О—О –Њ—И–Є–±–Ї—Г: –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–∞–њ–µ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д, –њ—А–Њ—А–Њ–Ї¬ї —Б—В–∞—А–∞—О—В—Б—П –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –µ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–є, –њ—А–Њ—А–Њ–µ—Б—В–≤: –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –†–Є–Љ—Г, —Б—В—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Г–љ–Є–∞—В—Б—В–≤–Њ. –Ь–µ–ґ –њ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –њ–Њ–ї–≤–µ–Ї–∞, –љ–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Є—В–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є вАФ ¬Ђ–і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞¬ї. –Х—Б–ї–Є –І–∞–∞–і–∞–µ–≤ –њ–Њ–Њ—Й—А—П–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Ј—П—В—Л—Е ¬Ђ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї–µ–є –Є—Б—В–Є–љ¬ї, –≤—А–Њ–і–µ –Ї–љ—П–Ј—П –У–∞–≥–∞—А–Є–љ–∞, —В–Њ –Є–і–µ–∞–ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞: –Ї —В—Г—Д–ї–µ –Я–∞–њ—Л –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–њ–∞–і–µ—В (–±—Л–ї —А–Є—В—Г–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Ж–µ–ї—Г—П) вАФ –≤—Б—П –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М.
–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, –∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –µ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є: ¬Ђ–У–ї–∞–≤–љ—Л–є –µ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В–µ–Ј–Є—Б –Њ "–°–Њ—Д–Є–Є вАФ –Ф—Г—И–µ –Ь–Є—А–∞" –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –°–Њ–ї–Њ–≤—М—С–≤—Г –≤ –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ–љ–Є–Є¬ї. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –±—Л–ї –Є –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Љ–Њ–і–љ—Л—Е —В–Њ–≥–і–∞ —Б–њ–Є—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–∞–љ—Б–Њ–≤, ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤–µ—А—З–µ–љ–Є—П¬ї, –≥–і–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї—Б—П, –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—П. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —В–Њ –њ–Њ–≤–µ—В—А–Є–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—В–Њ–Є—В –≤ —А—П–і—Г —Б —Ж–Є—А–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є, –±–∞–ї–∞–≥–∞–љ–љ—Л–Љ ¬Ђ—З—А–µ–≤–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї, вАФ –љ–Њ —Б–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Б–Ї–Є–µ ¬Ђ–Љ–µ–і–Є—Г–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є¬ї –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Є–Ј—Г—З–∞–ї–Є—Б—М. –Ь–љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ: –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В—А-–≤–Є–і–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ–± –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –і—А—Г–≥–∞—П ¬Ђ–Ф—Г—И–∞¬ї –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ь–Є—А–∞¬ї –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–ї–∞ –±—Л, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –±—Л: ¬Ђ–°–Њ—Д–Њ—З–Ї–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ вАФ –±–ї–µ—Д¬ї. –Ш —Б–µ–∞–љ—Б—Л –≤–µ—А—З–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ–ї–Њ–≤ –≤–Є–і–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–Є–љ–Њ.¬†–Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—О –ї–Є—И—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–µ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Л–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞, –∞ –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Є–Ј –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–µ—А—О –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї—Г, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Г, –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Г, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П вАФ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ—Г –Ы–µ–Њ–љ—В—М–µ–≤—Г. –Т –Њ–±—К–µ–Љ–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–µ ¬Ђ–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –°–Њ–ї–Њ–≤—М—С–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ф–∞–љ–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Њ–љ –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞-–Љ–Є—Б—В–∞–≥–Њ–≥–∞:
вАФ –£ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ—В –Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є—П. –Э–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є (–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є) —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–і–љ–Њ: —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ–Њ—З–≤–Њ–є –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П —Б –њ–∞–њ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ–і –≥–ї–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Я–∞–њ—Л –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. ¬Ђ–Я–∞–і–Є –њ—А–µ–і –љ–Є–Љ (–њ—А–µ–і –Я–∞–њ–Њ–є, вАФ –Ш.–®.), –Њ –¶–∞—А—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є! –Ш –≤—Б—В–∞–љ—М, –Ї–∞–Ї –Т—Б–µ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є –¶–∞—А—М!¬ї –£ –љ–∞—Б, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е, –≤–µ—А—Л –µ—Й–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ; –љ–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П —Б–ї–∞–±–∞. –ѓ –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г —Б —Б–Њ–±–Њ—О –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ: —В–µ–њ–ї–Њ—В—Г –≤–µ—А—Л –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ, –µ—Й–µ –љ–µ –Є—Б—Б—П–Ї—И—Г—О. –ѓ –Њ—В–љ–µ—Б—Г –≤—Б–µ —Н—В–Њ –≤ –†–Є–Љ –Є –њ–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г –Ї —Б—В–Њ–њ–∞–Љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–∞–≤–∞–ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ, –Ч–∞–њ–∞–і вАФ —Д–Њ—А–Љ—Г. (вА¶)
–С–µ—А–і—П–µ–≤ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ ¬Ђ–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Є–і–µ—П –Т–ї. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞¬ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В:
вАФ –Я—А–Њ –Т–ї. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –Љ–Є—Б—В–Є–Ї –Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В, –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –Є –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–є –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї. –Я—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ вАФ –Є–љ—В–Є–Љ–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ –≤—Б–µ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Т–ї. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞. –Ю–љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О. –Ю–љ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ–љ—П—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ—Б –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. (...)
–†–µ–њ–ї–Є–Ї–∞ –Є–Ј 21 –≤–µ–Ї–∞. –Ш –Ї–∞–Ї —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–Њ ¬Ђ—Б–±—Л—В–Є–µ–Љ¬ї —Б–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤? –Т–Є–і–љ–∞ –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є –ґ–∞–ґ–і–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П —Б –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–∞–Љ–Є? –Ш–ї–Є –≤ –†–Є–Љ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ—Б—В—А–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –љ—Г–ґ–і–∞: –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –≤–∞—Б—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Є—Б—П–≥–Є –Њ—В –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–≤? –≠—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤? –°–µ–є—З–∞—Б 500 000 –±—А–∞–Ј–Є–ї—М—Ж–µ–≤ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞—О—В –ї–Њ–љ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є вАФ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, вАФ —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞–Љ–Є (–Ј–∞—З—С—А–Ї–љ—Г—В–Њ) –∞–і–µ–њ—В–∞–Љ–Є –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Ї—В: –±–Є–Ј–љ–µ—Б-–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤, –њ–Њ —Б—Г—В–Є. –Р –≤–µ–і—М –±—Л–ї вАФ –Ю–њ–ї–Њ—В –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—Ж–Є–Ј–Љ–∞вА¶ –Ь–Є—А –Њ–±–ї–µ—В–∞–ї–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–Є: —В–Њ–ї–њ—Л –љ–∞ –Љ–µ—Б—Б–∞—Е, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –Љ—Г–ї–∞—В–Ї–Є —Б —А–∞—Б–њ—П—В–Є—П–Љ–Є, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ —Д—Г—В–±–Њ–ї–Є—Б—В—Л, —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –Ї —А—Г–Ї–µ –Я–∞–њ—Л —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–∞—А—П—Й–Є–є –љ–∞–і –†–Є–Њ-–і–µ-–Ц–∞–љ–µ–є—А–Њ —Б—В–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤—Л–є –Ш–Є—Б—Г—Б –•—А–Є—Б—В–Њ—БвА¶ –Ш –≤–Њ—В –њ–Њ–ї–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –≤ –≥–Њ–і –±—А–∞–Ј–Є–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В, вАФ —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤—Л—А—Г–±–∞–µ–Љ—Л–µ –±—А–∞–Ј–Є–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Н–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –ї–µ—Б–∞, ¬Ђ–ї–µ–≥–Ї–Є–µ –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л¬ї. –Т–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є-–°–®–Р-–Ш—В–∞–ї–Є–Є-–Ш—А–ї–∞–љ–і–Є–Є –≤–Њ–ї–љ—Л —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї–Њ–≤, —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤-–њ–µ–і–Њ—Д–Є–ї–Њ–≤ –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е —Н—В–Њ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–µ—А–∞—А—Е–Њ–≤вА¶¬†–Ш –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ —Н—В–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—И–Љ–∞—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ: –Я–∞–њ–∞ –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–є —Б –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї–∞–Љ–Є –≤—Б—В–∞—О—В –љ–∞ —Ж—Л–њ–Њ—З–Ї–Є, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї: –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –ї–Є –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–≤–Є–љ–љ—Л—Е –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–≤-¬Ђ—Б—Е–Є–Ј–Љ–∞—В–Є–Ї–Њ–≤¬ївА¶¬†
–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –і–∞, –±—Л–ї –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–є, —А–µ–Ї–Њ—А–і –њ–Њ —Б—Г–Љ–Љ–µ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥. –Э–Њ, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, ¬Ђ–љ–µ—Б–≤–∞—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–∞¬ї –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ —Н—В–Њ—В —Б–Є–љ–і—А–Њ–Љ: —А–Њ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ, –≥—А–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞–Ј–і–∞–µ—В –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П —Ж–µ–ї—Л–Љ –љ–∞—Ж–Є—П–Љ, —Б—В–∞–≤–Є—В –Ј–∞–і–∞—З–Є –¶–µ—А–Ї–≤—П–Љ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ. –≠—В–Є –≤–µ—А–і–Є–Ї—В—Л: ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є—П вАФ –њ–Њ—З–≤–∞. –£ –љ–µ–µ –Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є—П...¬ї вАФ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П вАФ —Б–∞–Љ–Њ–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Њ–Љ–µ—А–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ф–∞–ґ–µ –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–ЊвАФ–Ї–Њ–Љ—Г –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М—Б—П, —Б—В–∞—В—М ¬Ђ–њ–Њ—З–≤–Њ–є¬ї, –∞ –Ї–Њ–Љ—Г вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М. –Ф–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –±—Л —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–ї вАФ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—ВвА¶ —Б–∞–Љ–∞ —Н—В–∞ —А–∞–Ј–і–∞—З–∞ ¬Ђ–њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –љ–∞ —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–µ¬ї –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—ВвА¶ –Х—Б–ї–Є –Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М ¬Ђ–Ь–∞–є–љ –Ї–∞–Љ–њ—Д¬ї –Є ¬Ђ–Ч–∞—Б—В–Њ–ї—М–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л –У–Є—В–ї–µ—А–∞¬ї вАФ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М —Б—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М.¬†
–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Ы–µ–Њ–љ—В—М–µ–≤ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ ¬Ђ–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –°–Њ–ї–Њ–≤—М—С–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ф–∞–љ–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤, –њ–µ—А–µ–±—А–∞–≤, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї –Ї–∞–Ї –љ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–µ: —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Њ–±—Й–Є–љ—Г, –љ–∞—Г–Ї—Г, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, —Г –Ы–µ–Њ–љ—В—М–µ–≤–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В, —П –љ–∞—И–µ–ї –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ: —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –љ–∞—Г–Ї—Г –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—З–µ—А–љ–Њ—А–∞–±–Њ—З–Є—Е, —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞¬ї. –Т –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ь–µ–љ–і–µ–ї–µ–µ–≤ —Г–ґ–µ –Є–Ј–і–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–Ю—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Е–Є–Љ–Є—П¬ї (1861 –≥., –≤ –С—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М 13 —А–∞–Ј), –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Я–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ (—Д–µ–≤—А–∞–ї—М 1869). –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Е–Є–Љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С—Г—В–ї–µ—А–Њ–≤ вАФ —В–Њ–ґ–µ –≤–љ–µ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–µ¬ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞.¬†
–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Ї—Г—А—Б–Є—Б—В–Њ–Ї
–У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬ї –≤ —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–Ф–≤–∞ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞¬ї (1888) –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Њ—В—З–µ—В, —А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ, —В–Є–њ–Є—З–љ–∞—П –µ–≥–Њ –ї–µ–Ї—Ж–Є—П:¬†
вАФ –Ю–љ (–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤) —П–≤–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–µ–є –Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —З—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є, –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї... –Ч–∞—Й–Є—Й–∞—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ —Б–≤–Њ—О –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О, –Њ–љ –≤–µ—Б—М –±—Л–ї –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В —Б–њ–Є—А–Є—В–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –Њ–љ –±—А–µ–і–Є–ї –Є–ї–Є –≤–µ—А–Є–ї –≤ –≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б –≤–Њ—Б–њ–∞–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—З–∞–Љ–Є –Њ ¬Ђ—З—Г–і–µ—Б–∞—Е¬ї —Б–њ–Є—А–Є—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ. –Я–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –љ–∞—В—Г—А–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї ¬Ђ–≥—А—Г–±–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї –Є ¬Ђ—Г–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞¬ї. –Т –µ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П—Е –≤–Є–і–µ–љ –±—Л–ї –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Є —Г—З–µ–љ—Л–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—А–Є–Ї, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ (–Ї—Г—А—Б–Є–≤ –Љ–Њ–є, вАФ –Ш.–®.). –Т –µ–≥–Њ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤–Є–і–љ–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ї–Є—А–Є–Ї–∞, –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П. –Ь–∞—Б–Ї–∞ —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ —В—П–≥–Њ—В–Є–ї–∞...¬†
–Я–Њ—П—Б–љ—О —Б–≤–Њ–є –Ї—Г—А—Б–Є–≤. –Т—Л—Б—И–Є–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л, ¬Ђ–С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤—Б–Ї–Є–µ¬ї (–њ–µ—А–≤—Л–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М вАФ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤-–†—О–Љ–Є–љ). –Ґ–∞–Љ –Є —Ж–∞—А–Є–ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤. –Т —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤–µ–Ї–∞ ¬Ђ–±–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–Ї–∞¬ї вАФ –і–≤–∞ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П: 1) —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Ї—Г—А—Б–Њ–≤ –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–∞; 2) –Є–і–µ–∞–ї–Є—Б—В–Ї–∞. –†–Њ–Љ–∞–љ ¬Ђ–†–∞—Б–њ–∞–і—К¬ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –С–Њ–±–Њ—А—Л–Ї–Є–љ–∞, –њ—А—П–Љ–∞—П —А–µ—З—М –≥–µ—А–Њ–Є–љ–Є: ¬Ђ–Ф–ї—П –≤—Б—£—Е—К —П вАЬ—И–∞–ї–∞—ПвАЭ –Є–і–µ–∞–ї–Є—Б—В–Ї–∞. –Ю–і–љ–Є–Љ—К —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ—К вАЬ–±–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–Ї–∞!вАЭ –£ –љ–Є—Е—К —Н—В–Њ –љ—£—З—В–Њ –≤—К —А–Њ–і—£ —О—А–Њ–і–Є–≤–Њ–є...¬ї –Ш–Ј –і–≤—Г—Е —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤ ¬Ђ–Ї—Г—А—Б–Є—Б—В–Ї–∞¬ї –Є ¬Ђ–±–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–Ї–∞¬ї –љ–∞ –Љ–Њ–є —Б–ї—Г—Е –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Г вАФ –њ–µ—А–≤–Њ–µ: ¬Ђ–Р–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Ї—Г—А—Б–Є—Б—В–Њ–Ї¬ї.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Э–µ –≤–Ј—П–ї –ї–Є —П –і–ї—П –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–Ї–µ, вАФ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–∞, –Ї—Г–Љ–Є—А–∞ –Є—Б—В–µ—А–Є—З–љ—Л—Е –Ї—Г—А—Б–Є—Б—В–Њ–Ї, —Б–њ–Є—А–Є—В–∞? –Э–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–Є–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л 19 –≤–µ–Ї–∞. –У—А—Г–њ–њ–∞ –Ц–µ–ї—П–±–Њ–≤–∞-–Я–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Г–±–Є–ї–∞ —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ II. –Х–≥–Њ —Б—Л–љ –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В—Ж–∞ (–Ы–Њ—А–Є—Б-–Ь–µ–ї–Є–Ї–Њ–≤, –Ь–Є–ї—О—В–Є–љ). –І–Є–љ–Њ–≤–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, —Б—Г–і—М–Є: –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–µ –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—Л –Є–ї–Є –Ј–∞–њ—Г–≥–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є вАФ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї–Є —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Ї—Г –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ—О—О —В–Њ–ї–њ—Г –≤ –°–®–Р, –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є —З–µ—А–љ—Л—Е –Є–Ј BLM. (–≠—В–Њ –њ—А–Є –Ґ—А–∞–Љ–њ–µ –Њ–љ–Є –±—Л—Б—В—А–Њ —Б—Е–ї—Л–љ—Г–ї–Є, –∞ —В–Њ–≥–і–∞, –µ—Й–µ –≤ 2024 –≥–Њ–і—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М: —Н—В–Њ—В –Љ–∞–Ј–Њ—Е–Є–Ј–Љ вАФ ¬Ђ–≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –Є –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ¬ї.)
–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П —Н–ї–Є—В–∞, —Б—В—Г–і–µ–љ—В—ЛвА¶ ¬Ђ–≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Є–Ј –Ј–і–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Є –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –њ–Њ –Ы–Є—В–µ–є–љ–Њ–є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Г—О –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З –Є –µ—С –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–∞¬ї. –Ґ–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Є –≤–Ј–Љ–Њ–Ї—И–µ–≥–Њ –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–є –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ј–∞—З–Є—В–∞–ї —Б–≤–Њ–є —Г–ї—М—В–Є–Љ–∞—В—Г–Љ —Ж–∞—А—О –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –Ґ—А–µ—В—М–µ–Љ—Г: ¬Ђ–¶–∞—А—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М (—Ж–∞—А–µ—Г–±–Є–є—Ж, вАФ –Ш.–®.). –Х—Б–ї–Є –Њ–љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ, –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Њ–ґ–і—М –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М. –Х—Б–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –≤—Б—В—Г–њ–Є—В –љ–∞ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤—Л–є –њ—Г—В—М, –Љ—Л –Њ—В—А–µ—З–µ–Љ—Б—П –Њ—В –љ–µ–µ!¬ї –≠—В–Њ—В —И–µ–і–µ–≤—А –і–µ–Љ–∞–≥–Њ–≥–Є–Є –љ–∞–≤–µ–Ї –≤–њ–µ—З–∞—В–∞–љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ, –Ї–∞–Ї –Є –Њ—В–≤–µ—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1881–≥–Њ–і–∞: ¬Ђ–Я–Њ–Љ–Є–ї–Њ–≤–∞–ї –±—Л, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–Ї—Г—И–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –љ–Њ —Г–±–Є–є—Ж –Њ—В—Ж–∞ –њ–Њ–Љ–Є–ї–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г¬ї.
–Э–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ. –Я—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В, –і—А—Г–≥–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ (—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –£–ї—М—П–љ–Њ–≤—Л–Љ), –њ–Њ–Ї—Г—И–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ, –ЄвА¶ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Є—Е –љ–µ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В вАФ –≤–µ—И–∞–µ—В. –Ш —Н—В–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ґ—А–µ—В–Є–є вАФ —Б–Ї–∞–ї–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –†–Њ—Б—Б–Є—П. –Х–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –њ—А—П–Љ–Њ–і—Г—И–Є–µ —Б–љ–Є—Б–Ї–∞–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є —Г –µ–≥–Њ –µ–≤—А–Њ-–≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Р –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Г –Љ–∞—А—В–∞ 1881 –≥–Њ–і–∞ вАФ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–і—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Л–Љ, —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—Л, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ґ—А–µ—В–Є–є –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї: —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є –± –љ–µвА¶¬†
–Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ –≤–µ—Б—М —В—А–∞–≥–Є–Ј–Љ? –¶–∞—А—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–µ–є—И—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є –µ—Й—С –љ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В—Г —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, —А–µ—И–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞–µ—В –µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–њ–Њ–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є –Њ–љ –Є —Б–∞–Љ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–ї—В—Г–љ–Њ–≤ —Н–њ–Њ—Е–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ? –Т—Б—С –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В, –∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А—Г–µ—В, –≥—А–Њ–Ј–Є—В ¬Ђ–Њ—В—А–µ—З–µ–Љ—Б—П –Њ—В –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є!¬ївА¶ –Р –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Њ—В–µ—Ж —Н—В–Њ–≥–Њ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ вАФ —Г—З–Є—В–µ–ї—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞: –њ—А–µ–і–Љ–µ—В вАФ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П¬ї1вА¶
–Ь–Њ–ґ–µ—В, —П –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О —В–Њ–≥–і–∞—И–љ—О—О —А–Њ–ї—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞¬ї? –Х—Б–ї–Є –±—ЛвА¶ –Ф–≤–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є —Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Д–∞–Ї—В–∞. –Ю—В –ї–Є—Ж–∞ –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Ї–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї —Ж–∞—А—О –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—ПвА¶ вАФ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤. –Ш –љ–µ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г вАФ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —Ж–∞—А—М. –Ш –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1917 –≥–Њ–і–∞ (–њ–ї—О—Б, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ—М—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–∞) —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Њ—Ж–∞—А–Є–ї–∞—Б—М —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞:¬†–Ц–µ–ї—П–±–Њ–≤ + –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ = –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ъ–∞—В–Ї–Њ–≤–∞ –Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ (¬Ђ–†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А вАФ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г: вАЬ–£—Б—В—Г–њ–Є, –Є–ї–Є —П –±—Г–і—Г —Б—В—А–µ–ї—П—В—М!вАЭ. ¬†–Ы–Є–±–µ—А–∞–ї вАФ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г: вАЬ–£—Б—В—Г–њ–Є, –Є–ї–Є –Њ–љ –±—Г–і–µ—В —Б—В—А–µ–ї—П—В—М!вАЭ¬ї)вА¶ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М: ¬Ђ–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ вАФ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г: вАЬ–Я—А–Њ—Б—В–Є-–Њ—В–њ—Г—Б—В–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞, –Є–ї–Є –Љ—Л –Њ—В–≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Њ—В —В–µ–±—П!вАЭ¬ї¬†
–Т.–У. –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–љ–Ї–Њ, –Њ—З–µ—А–Ї ¬Ђ–Ф–Х–Ъ–Ы–Р–†–Р–¶–Ш–ѓ¬ї –Т.–°. –°–Ю–Ы–Ю–Т–ђ–Х–Т–Р¬ї:
вАФ –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ –Њ–Ї—Г—В–∞–љ—Л –≥—Г—Б—В—Л–Љ–Є, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—Г–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї—Б—П —Б —Н—В–Є—Е —В—Г–Љ–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—В, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В—М —В–µ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Ї —В–µ–Ї—Г—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ–љ –±—Л–ї –Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–µ–љ –њ–Њ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ–є —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—Л—Б–ї–Є –Є –њ–Њ —Г–Љ–µ–љ–Є—О –љ–∞–є—В–Є –і–ї—П –љ–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Г—О –Є —Б–ґ–∞—В—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—ГвА¶¬†
–Р –≤–µ–і—М –≤—Б–µ —Н—В–Њ ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї¬ї вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є–µ, –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П (¬Ђ–≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є –≤—А–∞–≥–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е¬ї, ¬Ђ–љ–µ —Г–±–Є–є¬ї) вАФ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤. –Я—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Ї–∞—А—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–Ї—Г—Б–∞, —А–∞—Б—З–µ—В, —З—В–Њ –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є—П –Є –љ–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В (–≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Є—Б—В–µ—А–Є—З–љ—Л—Е –ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е), —З—В–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –µ—Й–µ –Ј–∞ 1 500 –ї–µ—В –і–Њ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–µ–є. –У–ї–∞–≤—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–ї—П–ї–Є –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, —Г—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е ¬Ђ—Г–±–Є–≤–∞—В—М¬ї. –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –Ї–∞–Ј–љ–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л—Е, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ —А–∞–±–Њ—В—Г –°—Г–і–Њ–≤, –њ–∞–ї–∞—З–µ–є. –Ф–∞–ґ–µ –≤–Њ–љ –Э–Є—Ж—И–µ, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–є —Г–Љ, –љ–µ —З–µ—В–∞ ¬Ђ–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—Г –Ї—Г—А—Б–Є—Б—В–Њ–Ї¬ї, –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–∞—Е –љ–∞–і –С–Є—Б–Љ–∞—А–Ї–Њ–Љ, –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є вАФ –±—А–Њ—Б–Є–ї –®–≤–µ–є—Ж–∞—А–Є—О, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ –Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ –≤ –њ—А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О.
–Ъ–∞–Ї-—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ—А–Є–Ї–ї–µ–Є–≤ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Г —П—А–ї—Л–Ї ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д¬ї, —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞. –Ч–∞–±—Л—В—М —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–љ—Г—О –≤—Б–µ–Љ–Є –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞–Љ–Є –Є—Б—В–Є–љ—Г (2 —Е 2 = 4): –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є, –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В—М –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ вАФ –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –Є–і–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞, –Є–ї–Є... –Ь–Њ–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П: ¬Ђ–Є–ї–Є –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є вАФ –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В–Є¬ї; –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–µ–љ –≤ –Њ—З–µ—А–Ї–∞—Е –Њ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–µ¬ї, –љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤—Л–Ј–Њ–≤–µ—В —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Є–ґ–µ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, —Г–≤—Л, —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –Є–Ј–±–µ–≥–∞—О—В, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—О—В –њ–Є—И—Г—Й–Є–µ –Њ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–µ. –Р —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞–і–Њ –±—Л –µ–≥–Њ:¬†
–∞) —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–Ј–∞–њ—А–µ—В —Б—Г–і–∞ –љ–∞–і —Ж–∞—А–µ—Г–±–Є–є—Ж–∞–Љ–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —Б –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї–∞–Љ–Є вАФ –њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В—М—О –Я–∞–њ—Л –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ);¬†
–±) –Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г–Љ –Я–∞–њ—Л, –њ–∞—Б—В—Л—А—П, –Ї–Њ–µ–Љ—Г –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —Б—В–∞–і–Њ¬ї.
–†–Є–Љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–њ–∞ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є вАФ –Ы–µ–≤ XIII. –Э–µ–і–∞–≤–љ–Њ, –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б –Ґ—Г—А—Ж–Є–µ–є, –≤ 1878 –≥–Њ–і—Г, –Ы–µ–≤ XIII –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї –Ї –љ–Њ–≤–Њ–є ¬Ђ–Њ–±—Й–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї. –Т –Љ–µ—А—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –Њ–љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї ¬Ђ–Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г¬ї-2. –Я–∞–њ–∞ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–ї –і–∞–ґ–µ —В—Г—А–µ—Ж–Ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є, —Б–њ–∞—Б–∞–≤—И–µ–є –Њ—В —А–µ–Ј–љ–Є –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ. –Ґ–Њ—З–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ вАФ –Я–∞–њ—Л –Ы—М–≤–∞ XIII: ¬Ђ–І–µ–Љ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—Е–Є–Ј–Љ–∞ (–Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –љ–∞ –њ–∞–њ—Б–Ї–Њ–Љ –ґ–∞—А–≥–Њ–љ–µ, вАФ –Ш.–®.), вАФ —В–µ–Љ –ї—Г—З—И–µвА¶ —А—Г–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ –±–∞—И–Є–±—Г–Ј—Г–Ї–∞¬ї. ¬†(–С–∞—И–Є–±—Г–Ј—Г–Ї–Є вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ—А–µ–Ј—Л —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.)
–І—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ —В–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –≤–Њ–є–љ–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ ¬Ђ–њ–µ—А–µ–і–µ—А–≥–Є–≤–∞–ї –Ї–∞—А—В—Л¬ї, –њ–Њ–і–Љ–µ–љ—П–ї –ї–Є—З–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і–Є –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤? –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О –Ш–Љ–њ–µ—А–Є—О вАФ –Я–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Б–µ–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П? –Ъ–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г. –С—А–Є—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є (–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є вАФ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–Љ—Г –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О) –≤–Њ–є–љ–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Р—Д—А–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П–µ—В –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ —Б–Є–њ–∞–µ–≤ –≤ –Ш–љ–і–Є–Є. –Ф—А—Г–≥–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ (–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Я–∞–њ–∞ –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–є —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М!) вАФ –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, вАФ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤—Л–≤–∞–µ—В –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Р—Д—А–Є–Ї—Г, –Ш–љ–і–Њ–Ї–Є—В–∞–євА¶ –С—Г–і—Г—Й–Є–є –Ї–∞–є–Ј–µ—А –Т–Є–ї—М–≥–µ–ї—М–Љ –Т—В–Њ—А–Њ–є, –≥—А—П–і—Г—Й–Є–є –Љ–Њ–љ—Б—В—А –Љ–Є–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ–∞, –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є вАФ —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, вАФ –±—Г–і–љ–Є—З–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤, —З—М–Є–Љ –≥–ї–∞–≤–∞–Љ —Б–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Л –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Г–ї—М—В–Є–Љ–∞—В—Г–Љ–Њ–≤ –≤—Б–µ–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П –Э–ЊвА¶ —А—Г–Ї–∞ –С–Њ–ґ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ –±–∞—И–Є–±—Г–Ј—Г–Ї–∞ (–µ—Б–ї–Є –Њ–љ —А—Г–±–Є—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е).¬†
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Њ–Љ–Љ–∞–ґ (–њ—А–Є—Б—П–≥–∞) –Я–∞–њ–µ
–Ы–µ–≤ XIII, –Ї–∞–Ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, ¬Ђ–Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї 88 —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Є–Ї вАФ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ївА¶ –Т 2000 –≥–Њ–і—Г –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ вАФ –Э. –Ъ–Њ—А—В–µ–ї–µ–≤ вАФ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–Э–∞—И–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ¬ї (вДЦ 55, 2000 –≥.) —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –∞–љ–Ї–µ—В—Г, –Њ—В–≤–µ—В—Л ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞¬ї вАФ –Ґ–∞—В—М—П–љ–µ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–Њ–є (–і–Њ—З–µ—А–Є –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ). ¬Ђ–Ы—О–±–Є–Љ—Л–Љ–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –У–Њ—Д–Љ–∞–љ–∞ –Є –њ–∞–њ—Г –Ы—М–≤–∞ XIII. –Я—Г–±–ї–Є–Ї—Г—П –∞–љ–Ї–µ—В—Г, –Ъ–Њ—В—А–µ–ї–µ–≤ —З–µ—Б—В–љ–Њ —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї—П–µ—В, —З—В–Њ —З–∞—Б—В—М –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Є вАФ –њ–Њ–ї—Г—И—Г—В–ї–Є–≤—Л–µ. –Ш—В–∞–Ї:
–Т–∞—И–Є –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–µ. вАФ –Ѓ–Љ–Њ—А.
–Т–∞—И–µ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ. вАФ –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–є –Є —В–∞–є–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є.
–І—В–Њ –Т–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М–µ–Љ? вАФ –С—Л—В—М –ґ–µ–љ–Њ—О –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤–∞.
–Т–∞—И –ї—О–±–Є–Љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї. вАФ –ѓ —Б–∞–Љ, –°—В—А–∞—Е–Њ–≤, –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В –§–Є–ї–∞—А–µ—В –Є –Ъ–∞—В–Ї–Њ–≤.
–Т–∞—И –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї. вАФ –У–Њ—Д–Љ–∞–љ, –њ–∞–њ–∞ –Ы–µ–≤ 13 –Є –С–Њ—Б—Б—О—Н—В.
–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є –Э. –Ъ–Њ—В—А–µ–ї–µ–≤–∞:¬†¬Ђ–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ —Г–ґ–µ –Њ—Й—Г—Й–∞–ї —Б–µ–±—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–Љ –≤–ї–∞—Б—В—М—О вАФ –Ъ.–Я. –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤—Л–Љ, вАФ –Є –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –љ–∞ –Ы—М–≤–∞ XIII, —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–њ—Г, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–Є–ї–µ–Љ (...)¬ї. –Ґ—Г—В —Ж–µ–љ–µ–љ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –њ–µ—А–ї –њ—Л–ї–Ї–Њ-–±–ї—Г–і–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ (¬Ђ–С—Л—В—М –ґ–µ–љ–Њ—О –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤–∞¬ї), –∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Ъ–Њ—В—А–µ–ї–µ–≤–∞. –Ъ–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—В–Њ—А—Г, –Ї–∞–Ї–Є–Љ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ–Љ—Л–є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В, –Є –Ї–∞–Ї —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞—Ж–µ–њ–Ї—Г –љ–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —И–Ї–∞–ї–µ –Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В —Н—В–Њ: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ —Г–ґ–µ –Њ—Й—Г—Й–∞–ї —Б–µ–±—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Л–Љ –≤–ї–∞—Б—В—М—О вАФ –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤—Л–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. вАФ –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї —В–≤–Њ—А—П—В—Б—П –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л –Є ¬Ђ–і–µ–ї–∞—О—В—Б—П –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Л¬ї. –®—В–∞–Љ–њ –Њ—В –С–µ—А–і—П–µ–≤–∞: ¬Ђ–Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ-–љ–µ–њ–Њ–љ—П—В—Л–є¬ї. –Ю—В A–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С–їo–Ї–∞: ¬ЂP—Л—Ж–∞—А—М-–Љ–Њ–љ–∞—Е¬ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М: ¬Ђ–Я—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –Я–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤—Л–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є¬ївА¶
–Э–Њ —Д–∞–Ї—В—Л? –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ-–љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞¬ї –≤ –і–≤—Г—Е –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞—Е вАФ –±—Л–ї–Њ; –і–Њ—А–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ, –Х–≥–Є–њ–µ—В вАФ –±—Л–ї–Є; —Б—В–∞–≤–Ї–∞ –≤ –£—З–µ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –њ—А–Є –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П вАФ –±—Л–ї–∞. –Ф–∞–ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Г —Г—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Г —Б—В–∞—В—М—П –≤ ¬Ђ–Т–Є–Ї–Є–њ–µ–і–Є–Є¬ї –і–µ–ї–Є—В –њ–Њ—А–Њ–≤–љ—Г –Љ–µ–ґ–і—Г: –Є–љ—В—А–Є–≥–∞–Љ–Є –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П, –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–ї–µ–≤–∞, –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤—Б–µ –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —В–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–є —А–µ—З–Є –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤-—Ж–∞—А–µ—Г–±–Є–є—Ж. –Э–Њ —Г—Е–Њ–і—Л —Б –Ї–∞—Д–µ–і—А —Б–ї—Г—З–∞—О—В—Б—П –≤ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ, —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞—В—М —Н—В–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б –Љ—Г–Ї–∞–Љ–Є, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –±–Њ–є–Ї–Њ—В–∞–Љ–Є –Ь–µ–љ–і–µ–ї–µ–µ–≤–∞ вАФ –і–∞–ґ–µ –љ–µ–њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ. –Ґ—Г—В –њ—А–Њ—Б—В–ЊвА¶ –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В–Ї—Г –љ–∞–Ї—А—Л–ї–Є –њ–ї–∞—В–Ї–Њ–Љ –Ї–ї–µ—В–Ї—Г –њ–Њ–њ—Г–≥–∞—ПвА¶¬†
–Я–Њ—Н—В—Л ¬Ђ–°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞¬ї –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –С–ї–Њ–Ї–∞, –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї–Є —Б–µ–±—П ¬Ђ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞. –Я—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е, —В–Њ—З–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–µ—В—А–Њ–≤ 100 –њ—А–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Г—О —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Ї—Г –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З —Б –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–Љ вАФ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –і–љ—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–Њ—Б–Є–Љ—Л—Е –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е ¬Ђ–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥¬ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞: –Я–∞—Б–Ї–∞–ї—М, –У–µ–≥–µ–ї—М, –Ъ–∞–љ—В, –®–Њ–њ–µ–љ–≥–∞—Г—Н—АвА¶ вАФ —А–∞–Ј—А—Л–≤ –Љ–Њ–Ј–≥–∞! –Я–Њ—И–ї–Њ—Б—В—М ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞¬ї –±—Л–ї–∞ —Б–Є–Љ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–∞ –њ–Њ—И–ї–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –∞—Г–і–Є—В–Њ—А–Є–Є.¬†
–°—Г–і—М–±–∞ –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞-2
–Я—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї, ¬Ђ–Ї–∞—В–Ю–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤, –љ–µ —Г–Љ–µ—П –≤–µ—Б—В–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ, вАФ –Њ–і–љ–Њ—А–∞–Ј–Њ–≤–Њ –њ—А–Њ–і–∞–ї —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е вАФ –і–ї—П –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї –њ–Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Њ–і—Г –Ї–∞—В–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—О –Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О –Ј–∞ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—А–∞–±—Б—В–≤–∞¬ї. –Ф–∞–ї–µ–µ –Њ–љ вАФ –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ —В–µ—В–Ї–Є –©–µ—А–±–∞—В–Њ–≤–Њ–є, –≤ –і–Њ–Љ–µ –Ы–µ–≤–∞—И–Њ–≤—Л—Е.¬†
–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤, —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—П ¬Ђ–Ї–Њ–і–µ–Ї—Б –Ї–∞—В–Ю–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А–∞¬ї, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤–µ—З–љ—Л–Љ –±–Њ–±—Л–ї–µ–Љ, –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ —В–Њ —Г –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Є—Е, —В–Њ –≤ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–µ –≥—А–∞—Д–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї—Б—П –Њ—В –І–∞–∞–і–∞–µ–≤–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–є –њ—А–Є–ї—О–і–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–і—Л—Е–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–µ. –Ь–µ–Љ—Г–∞—А–Є—Б—В—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є –ї–µ–њ–µ—В –Њ –°–Њ—Д—М–µ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ–µ (–ґ–µ–љ–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤–і–Њ–≤–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞) вАФ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є –њ—А–Є–ї–Є—З–Є–є. –Ю–љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї, —З—В–Њ ¬Ђ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –°–Њ—Д–Є–Є¬ї –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є вАФ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –°–Њ—Д—М–Є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ—Л, —З—В–Њ –Є –≤ —Б–њ–Є—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–∞–љ—Б–∞—Е –Њ–љ–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М, –і–Є–Ї—В—Г—П –µ–Љ—Г —В–µ–Ј–Є—Б—Л.¬†
–Ч–∞–њ–Є—Б–љ–Њ–є ¬Ђ–Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞¬ї, –∞ –≤ —А–µ–∞–ї–µ: –±–Њ–±—Л–ї—М, –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї вАФ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ–µ—И–љ–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—В—П–ґ–∞–ї –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –Є —В–Є—В—Г–ї –њ–Њ—Е–ї–µ—Й–µ вАФ –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј –Р–ї–µ—И–Є –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤–∞! –Т –Ш–љ–µ—В–µ –µ—Б—В—М –Ї–љ–Є–≥–∞, –≥–і–µ –∞–≤—В–Њ—А –љ–µ–Ї–Є–є –Я–µ—В–µ—А –Ч—Г–±–Њ—Д—Д (–њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —Н–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л) —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ ¬Ђ–°–Њ–ї–Њ–≤—М—С–≤ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–ї –Ф–Њ—Б—В–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Р–ї—С—И–Є –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤–∞ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ вАЬ–С—А–∞—В—М—П –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤—ЛвАЭ¬ї.¬†
–Ф–∞ —Г–ґ. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г–≥–Њ–і–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Ї–µ, —В–Њ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ї–ї–∞–Ї–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В —В–Є—В—Г–ї–∞–Љ–Є. –Х—Й–µ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Є, –љ–µ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –љ–∞–≤–µ—П–ї —З–µ—В—Л—А–µ–Љ –љ–µ–±–µ–Ј—Л–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ: –Ь–∞—В—Д–µ—О, –Ы—Г–Ї–µ, –Ь–∞—А–Ї—Г, –Ш–Њ–∞–љ–љ—Г вАФ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј ¬Ђ–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є¬ї. –Э–Њ ¬Ђ–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П¬ї –Ї–ї–∞–Ї–µ—А–∞ –Я–µ—В–µ—А–∞ –Ч—Г–±–Њ—Д—Д–∞ —П –≥–Њ—В–Њ–≤ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –Є –њ–Њ —Б—Г—В–Є. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Б–њ–Њ—А –Р–ї—С—И–Є –Ъ–∞—А–∞–Љ–∞–Ј–Њ–≤–∞ —Б –±—А–∞—В–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ: ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞, –Є–Ј –њ—А–Є—Е–Њ—В–Є —Г–±–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ, —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞?¬ї –Ш ¬Ђ–і–Њ–±—А—Л–є –Р–ї—С—И–∞¬ї, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ–і—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞, –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В: ¬Ђ–Ъ–∞–Ј–љ–Є—В—М!¬ї¬†
–Э–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Њ—В —Ж–∞—А—П –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М —В–µ—А—А–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤, –њ–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Н–Ї–Ј–∞–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В–Є вАФ –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–љ—Г–ї —З–µ—А–µ–Ј —В–µ–ї–Њ —Г–±–Є—В–Њ–≥–Њ 1 –Љ–∞—А—В–∞ 1881 –≥–Њ–і–∞ вАФ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, 14-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Ъ–Њ–ї–Є –Ч–∞—Е–∞—А–Њ–≤–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Ж–∞—А–µ–Љ –њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л–µ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ —Г–±–Є–ї–Є —З–µ—В—Л—А—С—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ ¬Ђ–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Ї—Г—А—Б–Є—Б—В–Њ–Ї¬ї –ї–µ–≥–Ї–Њ –Ј–∞–±—Л–ї —А–∞–і–Є —Б–≤–Њ–µ–є ¬Ђ–Љ–Є–љ—Г—В—Л —Б–ї–∞–≤—Л¬ї, —Б–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ —В—А–Є–±—Г–љ–µ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Л–љ–Њ—Б–∞ –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Є—Б—В–µ—А–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ—И–ї—П–Ї–Њ–≤.¬†
–Ъ–∞–Ї –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П: ¬Ђ–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —И—Г—В–Ї–µ –µ—Б—В—М –і–Њ–ї—П —И—Г—В–Ї–Є¬ї, –Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –±–Њ–±—Л–ї—П, –±–µ—Б—Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ вАФ –Я–∞—В—А–Є–∞—А—Е–Њ–Љ –Ф–µ–Ї–∞–і–∞–љ—Б–∞. –Р–≤—А–∞–∞–Љ–Њ–Љ-–Ш–∞–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є. –Х–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ, ¬Ђ–Ї–∞–Ї –њ–µ—Б–Њ–Ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ: —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –і–µ–Ї–∞–і–µ–љ—В—Л, —В–∞ —З–∞—Б—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї–∞ —Б–µ–±–µ ¬Ђ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ¬ї, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞, –љ–∞ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –і–≤—Г—Е –≤–Њ–є–љ–∞—Е, –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г —В—А–µ—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є. –Ш –≤ –Є—В–Њ–≥–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М: ¬Ђ–љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ—Л–Љ —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О¬ї.
–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ:
1 ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ¬ї –°–µ—А–≥–µ—П –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞. –Я–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є–є –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В —Б –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ—Л–Љ. –°—Г—Е–Њ–µ —З—В–µ–љ–Є–µ, –ї–µ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—Л –Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л. –Э–Њ –≥–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї.
![]() вАЛ
вАЛ