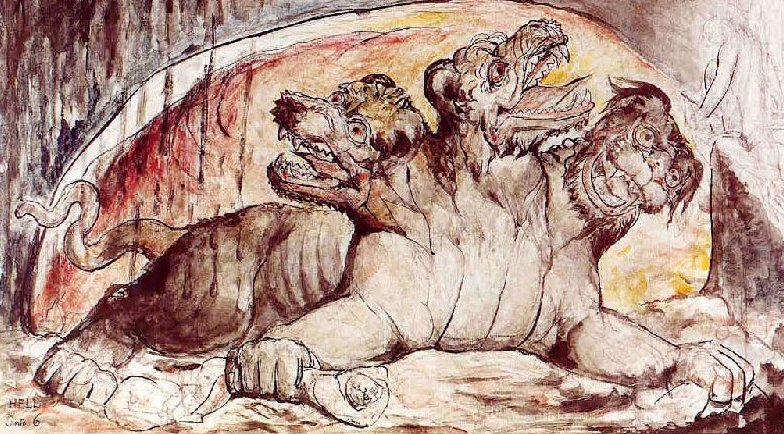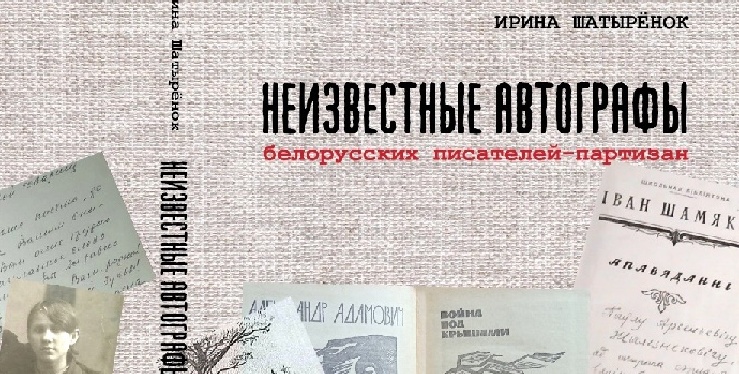РҡРҫ Р”РҪСҺ филРҫР»РҫРіР°. Р РөРҙР°РәСӮРҫСҖСҒРәРёРө РјСғР»СҢРәРё
РҡРҫ Р”РҪСҺ филРҫР»РҫРіР°. Р РөРҙР°РәСӮРҫСҖСҒРәРёРө РјСғР»СҢРәРё

25 РјР°СҸ РІ Р РҫСҒСҒРёРё РҫСӮРјРөСҮР°РөСӮСҒСҸ Р”РөРҪСҢ филРҫР»РҫРіР°, РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪСӢР№ РҝСҖазРҙРҪРёРә Р»СҺРҙРөР№, РҝРҫСҒРІСҸСӮРёРІСҲРёС… СҒРІРҫСҺ жизРҪСҢ филРҫР»РҫРіРёРё. РҹСҖазРҙРҪРёРә РҫСӮРјРөСҮР°СҺСӮСҒСҸ РІСҒР»РөРҙ Р·Р° Р”РҪРөРј СҒлавСҸРҪСҒРәРҫР№ РҝРёСҒСҢРјРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Рё РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ вҖ” Р”РҪём СҒРІСҸСӮСӢС… РҡРёСҖилла Рё РңРөС„РҫРҙРёСҸ (24 РјР°СҸ). РЎРөР№ РҙРөРҪСҢ РҫРұСҠРөРҙРёРҪСҸРөСӮ лиРҪРіРІРёСҒСӮРҫРІ, РҝСҖРөРҝРҫРҙаваСӮРөР»РөР№ РІ РҫРұлаСҒСӮРё СҸР·СӢРәР° Рё лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ, РұРёРұлиРҫСӮРөРәР°СҖРөР№, СҒРҝРөСҶиалиСҒСӮРҫРІ-РҝРөСҖРөРІРҫРҙСҮРёРәРҫРІ Рё РІСҒРөС…, РәСӮРҫ РёРјРөРөСӮ филРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫРө РҫРұСҖазРҫРІР°РҪРёРө.
РҹРҫСҮРөРјСғ СҸ РҝРҫР»СҢР·СғСҺСҒСҢ СҚСҖСҖР°СӮРёРІР°СҶРёРөР№ (С„СҖазРөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёРј РёСҒРәажРөРҪРёРөРј), РҪРө СғРҝРҫСӮСҖРөРұР»СҸСҸ СҸР·СӢРәР° В«РҝР°РҙРҫРҪРәРҫРІВ». Рҳ РҝРҫСҮРөРјСғ лиРҪРіРІРҫР·СҖРөРҪРёРө РҪРө СҖавРҪРҫ РіСҖамРҫСӮРҪРҫСҒСӮРё.
РҹСҖРөРҙРёСҒР»РҫРІРёРө
РҹРҫРҙ РҝРҫРҪСҸСӮРёРөРј «лиРҪРіРІРҫР·СҖРөРҪРёСҸВ» РҝРҫРҙСҖазСғРјРөРІР°РөСӮСҒСҸ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖСҒРәРҫРө РІРёРҙРөРҪРёРө СӮРөРәСҒСӮР°, РөРіРҫ лиРҪРіРІРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРөР№. Р§СӮРҫ РІРјРөСүР°РөСӮ РІ СҒРөРұСҸ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РіСҖаммаСӮРёРәСғ-РҫСҖС„РҫРіСҖафиСҺ, РҪРҫ Рё СӮРөСҮРөРҪРёРө СҒР»РҫРІ, лёгРәРҫРө РұСғРҪРёРҪСҒРәРҫРө РҙСӢС…Р°РҪРёРө СҒСӮСҖРҫРәвҖҰ
Р—Р°СӮРөСҸРІ СҒСӮР°СӮСҢСҺ Рҫ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖСҒРәРёС… РјСғР»СҢРәах, РҝРҫРҪСҸР», СҮСӮРҫ СӮРөРәСҒСӮ РІСӢС…РҫРҙРёСӮ РҙРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ-СӮР°РәРё РҪР°СғРәРҫРҫРұСҖазРҪСӢРј. РһСӮСӮРҫРіРҫ РәР°Рә СӮРөРјР°, РІ РҪём Р·Р°СӮСҖагиваРөРјР°СҸ, РәР°СҒР°РөСӮСҒСҸ РіР»СғРұРҫРәРёС… лиРҪРіРІРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёС… РјР°СӮРөСҖРёР№: РёРҪРҪРҫРІР°СҶРёРҫРҪРҪРҫ фиРәСҒРёСҖСғРөРјСӢС… РёРјРөРҪРҪРҫ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ, СҒРөР№СҮР°СҒ. РҹРҫ-РҝСҖРҫСҒСӮРҫРјСғ вҖ” СҸР·СӢРә (Рё РұСӢСӮРҫРІРҫР№, Рё лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢР№) РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РјРҫРҙифиСҶРёСҖСғРөСӮСҒСҸ, РјРөРҪСҸРөСӮСҒСҸ. Рҳ РҝСҖавилСҢРҪРҫ РҙРөлаРөСӮ: В«вҖҰСҖР°СҒСҲРёСҖСҸР№СӮРө СҒР»РҫРІР°СҖСҢ, СғРІРөлиСҮивайСӮРө СҒРІРҫРё РҙРёРІРёРҙРөРҪРҙСӢВ» (Р‘СҖРҫРҙСҒРәРёР№).
РӯСӮРҫ Рё СҖРөСҮРөРІСӢРө РҝСҖР°РәСӮРёРәРё, СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖРёСҖРҫРІР°РҪРёРө СӮРөРәСҒСӮР°, СҒРёРҪСӮРөР·-Р»РөРәСҒРёРәР° РәРҫРјРјСғРҪРёСҶРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РІ РёРҪСӮРөСҖРҪРөСӮРө Рё СҖРөалСҢРҪРҫР№ жизРҪРё, Р»РөРәСҒРёСҮРөСҒРәРёРө РҪРөРҫР»РҫРіРёР·РјСӢ, РіСҖаммаСӮРёСҮРөСҒРәРёРө СҒРҙРІРёРіРё, РҪРө СҒСҮРөСҒСӮСҢвҖҰВ
РҹРҫСӮРҫРјСғ РҝРҫСҒСӮР°СҖалСҒСҸ СғРҝСҖРҫСҒСӮРёСӮСҢ РјР°РҪРөСҖСғ РёР·Р»РҫР¶РөРҪРёСҸ, РҝСҖРёРҙав РөР№ РҪР°СғСҮРҪРҫ-РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРҪСғСҺ РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ. Р§СӮРҫ РҝРҫР»СғСҮРёР»РҫСҒСҢ вҖ” СҒРјРҫСӮСҖРёСӮРө.В
РҳСӮР°РәвҖҰ
Р’РҙСҖСғРі РІСӢСҸРІРёР» Сғ СҒРөРұСҸ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢР№ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖСҒРәРёР№ РҝСҖРёРәРҫР»: РёР· СҖазСҖСҸРҙР° СҚСҖСҖР°СӮРёРІР°СҶРёРё вҖ” РҪамРөСҖРөРҪРҪРҫРіРҫ РёСҒРәажРөРҪРёСҸ СҒР»РҫРІ, С„СҖаз.В
РӨРҫРәСғСҒ СҒРІСҸР·Р°РҪ СҒ СӮРөРј, СҮСӮРҫ РІРөР·РҙРө РІ СҒРҫСҶСҒРөСӮСҸС…, РјРөСҒСҒРөРҪРҙР¶РөСҖах, РәРҫРјРјРөРҪСӮах СҸ РҪР°СҖРҫСҮРҪРҫ В«РҝРөСҲСғ СҒ Р°СҲРёРҝРәами». Рҳ СҚСӮРҫ РҪРөСҒРҝСҖРҫСҒСӮР°.В
Р’РөРҙСҢ СҮСӮРҫРұСӢ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖСғ, СӮРөРј РұРҫР»РөРө РәРҫСҖСҖРөРәСӮРҫСҖСғ, СҮРөР»РҫРІРөРәСғ Р°РҝСҖРёРҫСҖРё РіСҖамРҫСӮРҪРҫРјСғ Рё РІ СӮРөРәСҒСӮах СҒРәСҖСғРҝСғлёзРҪРҫРјСғ, РҪР°РҝРёСҒР°СӮСҢ РәРҫСҖСҸРІРҫ вҖ” РҪР°РҙРҫ РөСүС‘ Рё РҝРҫРҝСӢСӮР°СӮСҢСҒСҸ! РқР°РҙРҫРұРҪРҫ РҝСҖРёРјРөРҪРёСӮСҢ СӮРөС…РҪРёРәСғ: В«вҖҰСғРјРөРҪРёРө СҒРҫР·РҙаваСӮСҢ СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ Рё РҫСҖРіР°РҪРёР·РҫРІСӢРІР°СӮСҢ РІСҖРөРјСҸВ», вҖ” РіРҫРІРҫСҖРёР» РңР°СҸРәРҫРІСҒРәРёР№ РҫРұ В«РҫРұСҒСӮСҖСғРіРёРІР°РҪРёРёВ» СҒСӮРёС…РҫРІ вҖ” РәР°Рә РұСӢ РІ РҫСӮРҙалРөРҪРёРё РҫСӮ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ В«СҸРјРұР° Рё С…РҫСҖРөСҸВ». вҖ” РҹРҫСҒСӮР°СҖР°СӮСҢСҒСҸ СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫ СҒСӮавиСӮСҢ РҪРөРҝСҖавилСҢРҪСӢРө РұСғРәРІСӢ. РҡРҫРІРөСҖРәР°СҸ, РёСҒРәСҖРёРІР»СҸСҸ «хРҫСҖРҫСҲРёР№В» РІРҫРәР°РұСғР»СҸСҖ.
Р§СӮРҫ СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ СҮРёСҒСӮРҫ РәРҫСҖСҖРөРәСӮРҫСҖСҒРәРҫР№ РјСғР»СҢРәРҫР№. Рҳ РҝРҫ С…РҫРҙСғ РҪРө СҸ РҝРөСҖРІСӢР№ РөС‘ РІСӢРҙСғмал, РҪРҫ СӮРөРј РҪРө РјРөРҪРөРөвҖҰ В«РһРұСҒСӮСҖСғМҒРіРёРІР°РҪРёСҺВ» СҖРөРҙР°РәСӮРёСҖСғРөРјРҫРіРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёСҸ вҖ” СҒРҝРҫСҒРҫРұСҒСӮРІСғРөСӮ. РқРөРәРҫРө СғРҝСҖажРҪРөРҪРёРө РҙР»СҸ глаз: РҝСҖРҫРәР°СҮРәР° СҶРөРҝРәРҫСҒСӮРё РІР·РіР»СҸРҙР°, «лиРҪРіРІРҫР·СҖРөРҪРёСҸВ» вҖ” РІ РҝРҫРјРҫСүСҢ РІРёР·СғализаСҶРёРё РјР°СӮРөСҖиала. РЎРҝСҖРҫСҒРёСӮРө, РҝРҫСҮРөРјСғ, Р·Р°СҮРөРј?
РһСӮРІРөСҮСғвҖҰ
Р РҫРҙРҪРҫР№ В«РҫР»РұР°РҪСҒРәРёР№В»
В«РӯСӮРҫ РҫСҮРөРҪСҢ СӮРҫРҪРәР°СҸ РіСҖР°РҪСҢ. <вҖҰ> Р’ СҚСӮРҫРј Рё РөСҒСӮСҢ СҒамСӢР№ РҝСҖРёРәРҫл».
Дм.РЎРҫРәРҫР»РҫРІСҒРәРёР№, «УРҙав»1В
Р’РҫРҫРұСүРө В«РҪРөРҝСҖавРөР»СҢРҪРҫРө РҝРөСҒР°РҪРёРөВ», СҸР·СӢРә В«РҝР°РҙРҫРҪРәРҫРІВ» вҖ” РұСӢли РҫСҒРҪРҫРІРҫР№ РҫСҒРҪРҫРІ, С„СғРҪРҙамРөРҪСӮРҫРј Р·Р°СҖРҫР¶РҙРөРҪРёСҸ Р СғРҪРөСӮР°: СҒ СҒРөСҖРөРҙРёРҪСӢ 90-С… Рё РҙалРөРө. РҡР°Рә РңайРәР» ДжРөРәСҒРҫРҪ РІ 80-С… СҒРҫСҖРёРөРҪСӮРёСҖРҫвал Рё РәлаСҒСҒифиСҶРёСҖРҫвал (СҒСӮРёРіРјР°СӮРёР·РёСҖРҫвал СҒ РҝРҫР»РҫжиСӮРөР»СҢРҪСӢРј РҪР°РәР»РҫРҪРөРҪРёРөРј) РҝРҫРҝ-РјСғР·СӢРәСғ РҪР° РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёСҸ РІРҝРөСҖС‘Рҙ, СӮР°Рә В«РҫР»РұР°РҪСҒРәРёР№ СҖСғСҒСҒРәРёР№В» РІРҝРёСӮал, РІРјРөСҒСӮРёР» РІ СҒРөРұСҸ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёР№ РҝСҖРҫРҙРІРёРҪСғСӮСӢС… (Рё РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ) СҺР·РөСҖРҫРІ. Рҳ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ, РәСҒСӮР°СӮРё, СҒ РҪРҫСҒСӮалСҢРіРёСҮРөСҒРәРёРј СғРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРёРөРј РҝРҫСҒРөСүР°СҺСүРёС… Р»СҺРұРёРјСӢРө «УРҙавРәРҫРјСӢВ» (СҲРөфф Дм.РЎРҫРәРҫР»РҫРІСҒРәРёР№, РҝРҫ СҒРёСҺ РҝРҫСҖСғ В«СҖСғМҒР»РөСӮВ»), В«РӣРёСӮРҝСҖРҫРјСӢВ» (Рӯ.БагиСҖРҫРІ, РҰР°СҖСҒСӮРІР° РқРөРұРөСҒРҪРҫРіРҫ), В«РҹРёРәР°РұСғВ»-В«РҗРҪРөРәРҙРҫСӮСӢВ» Рё СӮ.Рҙ.
РӣРёСҮРҪРҫ СҸ, СҮРөСҒСҒРіРҫРІРҫСҖСҸ, РҪРө РұСӢР» РҝРҫСҮРёСӮР°СӮРөР»РөРј В«РҝР°РҙРҫРҪРәавСҒРәРҫРіРҫВ» РҪРҫРІРҫСҸР·Р°. РҹРҫСҒРөРјСғ СҒРІРөРҙРөРҪРёСҸРјРё Рҫ РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРөР№ РәСғС…РҪРө СӮРөС… СҖРөСҒСғСҖСҒРҫРІ РҫРұлаРҙР°СҺ РҝРҫРІРөСҖС…РҪРҫСҒСӮРҪРҫ.
РқРҫ РҝСҖРҫРҙРҫлжимвҖҰ
РўРҫ Р¶Рө СҒамРҫРө РұСӢР»Рҫ РІ Р°РҪглийСҒРәРҫРј. РўРҫСҮРҪРөРө, СҒРҪР°СҮала вҖ” РІ СҒР»РөРҪРіРҫРІРҫРј В«РҪРёР·РҫРІРҫРјВ» Р°РҪглийСҒРәРҫРј. Р—Р°СҖРҫРҙРёРІСҲРөРјСҒСҸ РІ СғРІРөСҖСӮСҺСҖРө XIX РІ., вҖ” РәРҫРіРҙР° Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ РҳРјРҝРөСҖРёСҸ СӮРҫР»СҢРәРҫ РөСүС‘ Р·Р°СҮРёСӮСӢвалаСҒСҢ РҝРөСҖРөС„РҫСҖРјРҫРІРәРҫР№(СҖифмРҫРІРәРҫР№) Р Р°РҙРёСүРөРІСӢРј РҪР° СҖСғСҒСҒРәРёР№ лаРҙ СҒРөРҪСӮРёРјРөРҪСӮалСҢРҪРҫ-РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРөРҪРҪРёСҮРөСҒРәРёС… С„СҖР°РҪСҶСғР·СҒРәРёС… СҖРҫРјР°РҪРҫРІ.В
РҘРҫСӮСҸ СӮРҫР»СҮРҫРә, РјРҫР¶РҪРҫ СҒРәазаСӮСҢ, СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ СҚСҖСҖР°СӮРёРІР°СҶРёРё Рҙал РёРјРөРҪРҪРҫ Р Р°РҙРёСүРөРІ, РҪРё СҒ СӮРҫРіРҫ РҪРё СҒ СҒРөРіРҫ (РҝРҫ РҪаиСӮРёСҺ) СҒР»Рҫмав СҶРөСҖРәРҫРІРҪРҫРө РҝСҖРёСҮР°СҒСӮРёРө РјСғР¶СҒРәРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° «лаСҺСүРёР№В». [РҹРҫ-СҶРөСҖРәРҫРІРҪРҫСҒлавСҸРҪСҒРәРё РұСӢР»Рҫ РұСӢ «лаСҺСүВ».]В
РҹРҫРјРҪРёСӮРө Р·РҪамРөРҪРёСӮСӢР№, СҖР°СҒСӮРёСҖажиСҖРҫРІР°РҪРҪСӢР№ РІ РұСғРҙСғСүРөРј СҒлавиСҒСӮами РІСҒРөС… РјР°СҒСӮРөР№ СҚРҝРёРіСҖаф Рә В«РҹСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёСҺвҖҰВ»: «ЧСғРҙРёСүРө РҫМҒРұР»Рҫ, РҫР·РҫМҒСҖРҪРҫ, РҫРіСҖРҫРјРҪРҫ, СҒСӮРҫР·РөРІРҪРҫ Рё лаМҒСҸР№В» [РҝРөСҖРөРҝРөРІРәР° В«РӯРҪРөРёРҙСӢВ» Р’РөСҖгилиСҸ]. вҖ” РӯСҖСҖР°СӮРёРІ «лаСҸР№В» вҖ” СҚСӮРҫ СҒР»РҫРјР°РҪРҪРҫРө «лаСҺСүРөВ»: «ЧСғРҙРёСүРө лаМҒСҺСүРөВ» вҖ” РҝСҖРёСҮР°СҒСӮРёРө СҒСҖ. СҖРҫРҙР°.
Сам СӮРҫРіРҫ РҪРө РІРөРҙР°СҸ (РҪРҫ РұСғРҙСғСҮРё РҪРөСҒРҫРјРҪРөРҪРҪСӢРј РіРөРҪРёРөРј), РҪР° РІРөРәР° Рҙав СҒРөР№ «лРҫРјР°РҪРҫР№В» СҒРөРјР°РҪСӮРёРәРҫР№ СҚР»РөРјРөРҪСӮ РіР»РҫРұалСҢРҪРҫРіРҫ РҪРөРІРөСҖРёСҸ Рә РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙСҸСүРөРјСғ, Рә РҫРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ-РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫРјСғ СҖРөжимСғ РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө. Р’ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, РҫСҒСғРҙРёРІ СҒамРҫРҙРөСҖжавРҪРҫРө РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРҪРёСҮРөСҒСӮРІРҫ.
В
РўСғСӮ РұСӢР»Рҫ РұСӢ РәСҖайРҪРө СғРІР»РөРәР°СӮРөР»СҢРҪРҫ СҚСӮРёРјРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРё РҝСҖРҫСҒР»РөРҙРёСӮСҢ СҖазвиСӮРёРө СӮР°РәР¶Рө РҝалСҢСҶРөРІРҫМҒР№, РұлаСӮРҪРҫР№ (СӮСҺСҖРөРјРҪРҫР№) РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РҫРұСүРөРҪРёСҸ. РҹРөСҖРөРҝР»СӢРІСҲРөР№ СҮРөСҖРөР· РҫРәРөР°РҪ РёР· ЕвСҖРҫРҝСӢ Рё Р‘СҖРёСӮР°РҪРёРё РІ РқРҫРІСӢР№ РЎРІРөСӮ Рё РҝСҖРёРҫРұСҖРөСӮСҲРөР№ СҒРІРөР¶РөРәСҖРёРјРёРҪалСҢРҪСӢРө РәРҫРҪРҪРҫСӮР°СҶРёРё. Р§СӮРҫ РҝРҫСӮРҫРј РІРҝРёСӮал РІ СҒРөРұСҸ СғР¶Рө СҖСғСҒСҒРәРёР№ РұлаСӮРҪРҫР№ СӮСҺСҖРөРјРҪСӢР№ Р»СҺРҙ XX РІРөРәР°.В
РқРҫ вҖ” СҒлиСҲРәРҫРј СғР¶ РҫРұСҲРёСҖРҪР°СҸ Р·Р°РҙР°СҮР°, СӮСҖРөРұСғСҺСүР°СҸ РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢС… РёР·СӢСҒРәР°РҪРёР№. Р§СғСӮСҢ РҫСӮлиСҮР°СҺСүР°СҸСҒСҸ РҫСӮ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёР№ В«РҙРҪР° жизРҪРёВ» Р”РҫСҒСӮРҫРөРІСҒРәРҫРіРҫ, РҡСҖРөСҒСӮРҫРІСҒРәРҫРіРҫ, РҹСҖСӢР¶РҫРІР°. РўР°РәР¶Рө РҫСӮ СҸР·СӢРәР° (РұРөСҒСҒРҝРҫСҖРҪРҫ СҸСҖРәРҫРіРҫ, фаРҪСӮазийРҪРҫРіРҫ) РҪР°СҖРәРҫРјР°РҪРҫРІ Рё РіРҫРҝРҪРёРәРҫРІ.В
РҹСҖРёСӮРҫРј СҮСӮРҫ Рә РҪР°СҲРөР№ СӮРөРјРө вҖ” РҝСҖРҫРұР»РөРјРө РҙРёСҒРұалаРҪСҒР° РёРҪСӮРөллРөРәСӮР° СҒ РіСҖамРҫСӮРҪРҫСҒСӮСҢСҺ вҖ” РёРјРөРөСӮ РҝСҖСҸРјРҫРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө!
Р—СҚРәРё, влаРҙРөСҸ СҮСҖРөР·РІСӢСҮайРҪРҫ РҪРёР·РҫРІРҫР№, В«РҝРҫРҙРјР°СӮСҖР°СҒРҪРҫВ»-РјР°СҖРіРёРҪалСҢРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРҫР№ Р»РөРәСҒРёРәРё (РёРҪР°СҮРө СӮам РҪРёРәР°Рә, РҪРө РҙРҫ СҒР°РҪСӮРёРјРөРҪСӮРҫРІ) СҖР°СҒРҝРҫлагали РҝРҫСҖРҫР№ РҪРөР·Р°СғСҖСҸРҙРҪСӢРј РёРҪСӮРөллРөРәСӮРҫРј, РІРёРҙРөРҪРёРөРј СҒРҫСҶиалСҢРҪСӢС… РҝРөСҖСҒРҝРөРәСӮРёРІ Рё СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРҫРҪРҪСӢС… РҙРІРёР¶РөРҪРёР№. РқРөРІР·РёСҖР°СҸ РҪР° РұР°РҪРҙРёСӮСҒРәРҫ-РІРҫСҖРҫРІСҒРәРёРө РҪР°РәР»РҫРҪРҪРҫСҒСӮРё.
РһСӮРІР»РөРәлиСҒСҢвҖҰВ
РҹСҖРҫлиСҒСӮРҪём В«РҝРҫ-РұСӢСҖРҫРјСғВ»
РӨРҫРҪРөСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РҝСҖРёРҪСҶРёРҝ РҫС„РҫСҖРјР»РөРҪРёСҸ СҖРөС„РөСҖРөРҪСӮРёРәРё В«РҝР°РҙРҫРҪРәРҫРІВ» РҪРө СҒСӮСҖР°Рҙал СҚСӮРёРјРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫР№ РҝСҖРёРІРөСҖР¶РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢСҺ: РұСӢР» РҝСҖРҫСҒСӮ, РҝРҫРҪСҸСӮРөРҪ СҲРёСҖРҫРәРёРј СҒР»РҫСҸРј РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ, РІ РҝСҖРёРҫСҖРёСӮРөСӮРө РјРҫР»РҫРҙСӢРј. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ СҒ СғРІРөСҖСӮСҺСҖСӢ 2000-С… вҖ” РІРөСҒСҢРјР° РҝРҫРҝСғР»СҸСҖРөРҪ.В
Р’РҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРё СғР¶Рө РҪР°СғРәР° РӣРөРәСҒРёРәРҫРіСҖафиСҸ РјРөСӮРҫРҙРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРё СҒРәСҖРөРҝила В«РҝР°РҙРҫРҪРәРҫРІСҒРәРёРөВ» РІРёСҖСҲРё РјРҫРҙСғР»СҢРҪСӢРјРё СҒСӮР°РҪРҙР°СҖСӮами. РҹСҖРёСҮРөСҒала РёС…, РҝСҖРёРІРөРҙСҸ РІ В«РҝСҖилиСҮРҪСӢР№В» филРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёР№ РІРёРҙ. РҹРҫСҒРөРјСғ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫ РҝРҫ-РұСӢСҒСӮСҖРҫРјСғ РҝСҖРҫлиСҒСӮРҪСғСӮСҢ РҪР°СҖСҖР°СӮРёРІРёР·Р°СҶРёСҺ СҖРөРөСҒСӮСҖР°.В
РЎРјРҫСӮСҖРёСӮРөвҖҰ
- РӯСӮРҫ Рё (РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫ) РҪРҫРІРҫРјРҫРҙРҪСӢРө «лиСӮСғСҖР°СӮРёРІСӢВ» (РјРҪРёРјСӢРө СӮРөРәСҒСӮСӢ), Рё «хСҚСҲСӮРөРіРё-Р°РұРұСҖРөРІРёР°СҶРёСҸВ». (РҳРҪРөСӮ-РҝСҖиёмСӢ)
- Рҳ «маРәР°СҖРҫРҪРёР·Р°СҶРёСҸВ» вҖ” СӮСҖивиалСҢРҪРҫРө Р·Р°СҒРҫСҖРөРҪРёРө СҸР·СӢРәР°: РјРөРҪСӮалСҢРҪРҫРіРҫ СҖСҸРҙР°.В
- Р’СҒСҸСҮРөСҒРәРёРө «агРҪРҫРҪРёРјСӢВ» вҖ” РҙиалРөРәСӮРёР·РјСӢ-Р°СҖхаизмСӢ-С„СҖазРөРҫР»РҫРіРёР·РјСӢ.
- Рҳ СҖРёСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРё-алРҫРіРёСҮРҪСӢРө «аРҪР°РәРҫР»СғМҒС„СӢВ» вҖ” РұлизРәРёРө С„СғСӮСғСҖРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ Р·Р°СғРјРё, СҮРөС…РҫРІСҒРәРҫРјСғ СҺРјРҫСҖСғ Рё СӮРөРј Р¶Рө В«СҚСҖСҖР°СӮивам»-РёСҒРәажРөРҪРёСҸРј.В
- РҹРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө СҒРҫСҖРҪСҸРәРҫРј РҝСҖРҫСҖР°СҒСӮР°СҺСӮ РІРҫ РІСҒРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢРө В«РҝР»РөРҫРҪазмСӢВ» (РҝРҫРІСӮРҫСҖСӢ), Р°РҪСӮРёСҮРҪСӢРө В«СҒРҫР»РөСҶРёР·РјСӢВ» (РәСҖРёРІРҫРұРҫРәРёРө РҝРҫСҒСӮСҖРҫРөРҪРёСҸ), «амфиРұРҫлии-СҚллиРҝСҒРёСҒСӢВ» (РҙРІСғСҒРјСӢСҒР»РөРҪРҪРҫСҒСӮРё-РҝСҖРҫРҝСғСҒРәРё), РҪРө СҒСғСӮСҢвҖҰ
РҹСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪРҫ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… филРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёС… СӮРөСҖРјРёРҪРҫРІ СҒРҫРҪРјСӢ.
РҜ Р¶Рө вҖ” РІРөСҖРҪСғСҒСҢ Рә СҒРІРҫРөРјСғ «изРҫРұСҖРөСӮРөРҪРёСҺВ»: СҒРҝРөСҶиалСҢРҪРҫРјСғ «иСҒРәСҖРёРІР»РөРҪРёСҺВ» РІ РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪРҫ-РәРҫСҖСҖРөРәСӮРҫСҖСҒРәРҫР№ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё. Р§СӮРҫ СҚСӮРҫ РҙаёСӮ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖСғ?
Рҡ СҒР»РҫРІСғ, СӮРөСҖРјРёРҪРҫР»РҫРіРёРё, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪРҫР№ СҒ РјРҫРёРј лиРҪРіРІРҫ-В«РҝСҖРёРәРҫР»РҫРјВ», РҪРө РҪР°СҲёл РІ РҪР°СғСҮРҪРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРө. (РҹР»РҫС…Рҫ РёСҒРәал?) РўР°Рә СҮСӮРҫ РІРҝРҫР»РҪРө РјРҫР¶РҪРҫ СҒРҫРҫСҖСғРҙРёСӮСҢ РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮСҒРәСғСҺ РҙРёСҒСҒРөСҖСӮР°СҶРёСҺ СҒ РҪазваРҪРёРөРј:В
В«РҡР°Рә РҪамРөСҖРөРҪРҪР°СҸ РұРөР·РіСҖамРҫСӮРҪРҫСҒСӮСҢ РҝРёСҒСҢРјР° СҒРҫРҙРөР№СҒСӮРІСғРөСӮ СғРІРөлиСҮРөРҪРёСҺ РҝСҖРҫРҙСғРәСӮРёРІРҪРҫСҒСӮРё СҒСҖРөРҙРҪРөРіРҫ РјРҫР·РіР° Рё СҶРөРҝРәРҫСҒСӮРё лиРҪРіРІРҫСҖРөР°РәСҶРёРё РІ РҝСҖРҫРіСҖРөСҒСҒРёРёВ».
РқРҫ вҖ” РҝСҖРөР¶РҙРө СҮРөРј РҙР°СӮСҢ РҝРҫСҸСҒРҪРөРҪРёРө «хиСӮСҖРҫРјСғВ» СӮСҖСҺРәСғ СҒ РұСғРәвами, РҙавайСӮРө РҝСҖРҫРұРөжимСҒСҸ РҝРҫ РіР»РҫРұалСҢРҪРҫР№ РәСғР»СҢСӮСғСҖРө «вСҒСӮСҖРҫРөРҪРҪРҫСҒСӮРёВ», СӮР°РәР¶Рө СҒРҫСҶРёРҫлиРҪРіРІРёСҒСӮРёРәРө. РӯСӮРҫ СҒРҫРҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪСӢРө СҒ РјРҫРёРј РҪРөРұРҫР»СҢСҲРёРј Р°РҪализРҫРј РІРҫРҝСҖРҫСҒСӢ.
РўРҫСӮалСҢРҪРҫ-РІРөСҖРұалСҢРҪСӢРө РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ
РқР°СҲ РјРҪРҫРіРҫРҫРұСҖазРҪСӢР№ РҝРҫлиСҚСӮРҪРёСҮРөСҒРәРёР№ СҒРҫСҶРёСғРј РІСӢРҪСғР¶РҙР°РөСӮ РҪР°СғСҮРҪРҫРө СҒРҫРҫРұСүРөСҒСӮРІРҫ СғСҒРҫРјРҪРёСӮСҢСҒСҸ РІ РҙалСҢРҪРөР№СҲРөРј СғРәСҖРөРҝР»РөРҪРёРё СҸР·СӢРәРҫРІРҫРіРҫ РҝРҫР»СҸ. Рҳ РҙажРө СҒРҫРІСҒРөРј РҪР°РҫРұРҫСҖРҫСӮ, СғРІСӢ. РҡРҫРҪС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪР°СҸ РҪР°СҒСӢСүРөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ, РҝРөСҖРөСҖР°СҒРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРө СӮСҖР°РҙРёСҶРёРҫРҪРҪСӢС… СҖРөлигиРҫР·РҪСӢС… РҝРөСҖСӮСғСҖРұР°СҶРёР№ СӮРҫРјСғ РҝРҫСҖСғРәР°.В
РӯСӮРҪРҫСҒ РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ СҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҒСҸ РҪРө СҖавРөРҪ фаРәСӮРҫСҖСғ СҚРәРҫРҪРҫРјРёСҮРөСҒРәРёС… РҝСҖРёРІРёР»РөРіРёР№. РҹСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө РҪРҫСҖРјСӢ РҪРө РәРҫСҖСҖРөлиСҖСғСҺСӮ СҒ «мСғР»СҢСӮРёРәСғР»СҢСӮСғСҖРҫР№В» РІ РәавСӢСҮРәах СҚСӮРҪРёСҮРөСҒРәРёС… РіСҖСғРҝРҝ. [ЗамРөСҮали, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, СҮРөРіРҫ РіСҖРөС…Р° СӮаиСӮСҢ.]
РўРҫ РөСҒСӮСҢ РҝРҫ-СҒРІРҫРөРјСғ В«РҫРҪРёВ» вҖ” СғРјРҪСӢ Рё СӮалаРҪСӮливСӢ. РқР° РҙРөР»Рө Р¶ вҖ” РҪР° РұСғмагРө: РІ СҲРәРҫР»Рө, РҪР° СҖР°РұРҫСӮРө, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪРҫР№ СҒ СғРјСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРј СӮСҖСғРҙРҫРј, СҒРәСҖРөРҝлёРҪРҪСӢРј СҒ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёРјРё(!) СҖРөалиСҸРјРё, вҖ” РұР°РҪалСҢРҪРҫ РұРөР·РіСҖамРҫСӮРҪСӢ. [Р РөСҮСҢ Рҫ РҝРҫлиСҚСӮРҪРҫСҒРө.]
РҳС… РҪРёРәСӮРҫ РҪРө РҫРұРІРёРҪСҸРөСӮ РІ РҫСӮСҒСғСӮСҒСӮРІРёРё РёРҪСӮРөллРөРәСӮР°. РһРҪ Сғ РҪРёС… РөСҒСӮСҢ, Рё РҫСҮРөРҪСҢ РҙажРө РҪРөРҝР»РҫС…Рҫ СҒРөРұСҸ СҮСғРІСҒСӮРІСғРөСӮ РІ РҫРҝСҖРөРҙРөлёРҪРҪСӢС… РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮвах. Р“СҖамРҫСӮРҪРҫСҒСӮРё Р¶Рө вҖ” РҪР°СҮРёРҪР°СҸ СҒ РҪР°РҝРёСҒР°РҪРёСҸ СҒР»РҫРІ, РҝСҖРөРҙР»РҫР¶РөРҪРёР№, РҙР° СҚР»РөРјРөРҪСӮР°СҖРҪРҫ РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РҫРұСүРөРҪРёСҸ! вҖ” РҪСғР»СҢ.
РҹлавилСҢРҪСӢР№ РәРҫСӮёл, РІРҫСҒРҝСҖРёРҪимавСҲРёР№СҒСҸ РҝРҫР·РёСӮРёРІРҪРҫ РөСүС‘ РҝР°СҖСғ-СӮСҖРҫР№РәСғ РҙРөСҒСҸСӮРёР»РөСӮРёР№ РҪазаРҙ, СғР¶Рө РҪРө РјРҪРёСӮСҒСҸ РұлагРҫРј. РҗСҒСҒРёРјРёР»СҸСҶРёСҸ РјРөСӮСҖРҫРҝРҫлиСҸРјРё СҲРёСҖРҫРәРёС… РјРёРіСҖР°СҶРёРҫРҪРҪСӢС… РјР°СҒСҒ РҙРҫСҒСӮигла РҝСҖРөРҙРөла. РўРҫР»РөСҖР°РҪСӮРҪРҫСҒСӮСҢ вҖ” СҒСӮала СҖавРҪР° Р‘РөР·СҖазлиСҮРёСҺ. Р’ СҚСӮРҫРј СҒРҫР»СҢ РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ.
Рҳ (РҝРҫ СҒСӮР°СӮРёСҒСӮРёРәРө) РөСҒли СҮРёСҒР»РөРҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҪРөСӮРёСӮСғР»СҢРҪРҫРіРҫ СҚСӮРҪРҫСҒР° РұСғРҙРөСӮ РҝСҖРөРІСӢСҲР°СӮСҢ РҙРөРјРҫРіСҖафиСҮРөСҒРәРёРө РҪРҫСҖРјСӢ, РіРөСӮРөСҖРҫРіРөРҪРҪРҫРө (СҖазРҪРҫСҖРҫРҙРҪРҫРө) РҫРұСүРөСҒСӮРІРҫ СҒСӮР°РҪРөСӮ РҪРөСғРҝСҖавлСҸРөРјСӢРј. Рҳ РІ РҝРөСҖРІСғСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ вҖ” РҪРөСғРҝСҖавлСҸРөРјСӢРј РІ РәРҫРіРҪРёСӮРёРІРҪРҫРј РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё. РңРөжвиРҙРҫРІРҫРј. РҳРҪСӮРөСҖРҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪРҫРј, вҖ” РёР·СҖРөРәали РІ РЎРЎРЎР .
The Final
РўРөРҝРөСҖСҢ РҪРөРҝРҫСҒСҖРөРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ Рҫ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖСҒРәРҫРј «фРҫРәСғСҒРөВ»вҖҰ
РҜ РәРҫРІРөСҖРәР°СҺ Р·РІСғРәРҫСҖСҸРҙ РІ РұСӢСӮРҫРІРҫРј (СҒРөСӮРөРІРҫРј) РҝРёСҒСҢРјРө. РЎРҝРөСҶиалСҢРҪРҫ (РҪРөРҝСҖРёР·РІРҫР»СҢРҪРҫ-СҖРөфлРөРәСӮРёРІРҪРҫ) фиРәСҒРёСҖСғСҸ «аСҮРёРҝСҸСӮРәСғВ» РІР·РіР»СҸРҙРҫРј, РІ РҝамСҸСӮРё, РҝРҫРҙРәРҫСҖРәРө: РҝалиСӮСҖРө СҒРјСӢСҒР»РҫРІ. Р’РөРҙСҢ РөСҒли РҝРёСҒР°СӮСҢ РҪамРөСҖРөРҪРҪРҫ РіСҖаммаСӮРёСҮРөСҒРәРё РІРөСҖРҪРҫ, РІ СӮРҫРј РәСҖРҫРөСӮСҒСҸ РҝРҫРҙРІРҫС… вҖ” РІСӢСҲР»Рҫ РұСӢ РҪР° авСӮРҫРјР°СӮРө, В«РҪРө РіР»СҸРҙСҸВ». РЈРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫ РҪРө РәРҫСҖСҖРөРәСӮРёСҖСғСҸ Рё РҪРө РІРҫР·РІСҖР°СүР°СҸСҒСҢ. [РҳР· РҝСҖРҫРіСҖаммСӢ В«СҒР»РөРҝРҫР№В» СӮРөС…РҪРёРәРё РҝРөСҮР°СӮР°РҪРёСҸ.]
Рҳ РІРҫСӮ замРөСӮРёР» Р»СҺРұРҫРҝСӢСӮРҪСғСҺ СҲСӮСғРәСғ, РҙРөСҒРәР°СӮСҢ, СҚСӮР° РІРҫСӮ РұСғРәРІРөРҪРҪР°СҸ СҚСҖСҖР°СӮРёРІРёР·Р°СҶРёСҸ (РҙРөРІРёР°РҪСӮРҪРҫСҒСӮСҢ) РҪРө Р°РұСҒСӮСҖагиСҖСғРөСӮ РјРөРҪСҸ РҫСӮ РҪР°РҝРёСҒР°РҪРҪРҫРіРҫ. Рҗ вҖ” Р·Р°СҒСӮавлСҸРөСӮ РҙСғРјР°СӮСҢ.В
РҹРҫСӮРҫРј, СҮРёСӮР°СҸ СӮРөРәСҒСӮСӢ РёР· Р¶СғСҖРҪалСҢРҪРҫРіРҫ В«СҒамРҫСӮС‘Рәа» (Сғ РјРөРҪСҸ СҲСӮСғРә РҙРөСҒСҸСӮСҢ СҖРөСҒСғСҖСҒРҫРІ), РҫРұРҪР°СҖСғжил, СҮСӮРҫ РҝРҫСҒР»Рө РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… СҚРәР·РөСҖСҒРёСҒРҫРІ РІР·РіР»СҸРҙ РҪамРҪРҫРіРҫ РІРөСҒРөР»РөР№, РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРөР№ СҶРөРҝР»СҸРөСӮ РұР»РҫСҲРәРё Рё «аСҲРёРҝРәРё-Р°РҝРёСҮР°СӮРәРёВ». Р’РҪРёРјР°СӮРөР»СҢРҪСӢР№ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖСҒРәРёР№ РІСӢСҒСӮСҖРөР»-РҝСҖРёСүСғСҖ РҪРө замСӢливаРөСӮСҒСҸ, РҪРө Р·Р°СҲРҫСҖРёРІР°РөСӮСҒСҸ.В
Р’РёР·СғализиСҖСғСҸ СҒРІРҫРё РҪРөСӮРҫСҮРҪРҫСҒСӮРё, СҸ РҝСҖРёРІСӢРәР°СҺ СҮС‘СӮСҮРө лиСҶРөР·СҖРөСӮСҢ В«РҪРҳСӮРҫСҮРҪРҫСҒСӮРёВ» РҙСҖСғРіРёС….В
РўР°РәРҫРө РІРҫСӮ физиРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРҫРө РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёРө, вҖ” РҝРҫР·РІРҫР»СҸСҺСүРөРө СҖРөРҪСӮРіРөРҪРёСҖРҫРІР°СӮСҢ СҮСғжиРө РҝСҖРҫРәРҫР»СӢ Рё Р»СҸРҝСӢ РұРҫР»РөРө РҙРҫСҒРәРҫРҪалСҢРҪРҫ, СҮРөРј СҖР°РҪСҢСҲРө.В
P.S. ДавҖҰ Рҳ РҪРө Р·Р°РұСӢвайСӮРө Рҫ В«СҲР®СӮРәРө СҺРјРҫСҖа». РҡРҫСӮРҫСҖРҫР№ авСӮРҫСҖ РҪРө РҝСҖРөРјРёРҪСғР» РІРҫСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢСҒСҸ РҝСҖРё РҫРұСҖР°РұРҫСӮРәРө РҙР°РҪРҪРҫРіРҫ В«РҪР°СғСҮРҪРҫРіРҫВ» РјР°СӮРөСҖиала. Р“СҖамРҫСӮРөР№ РҫРҪ РөСүС‘ СӮРҫСӮ, вҖ” РҪРө РіРҫРІРҫСҖСҸ Рҫ «вСӢСҒРҫРәРҫР№В» РёРҪСӮРөллРөРәСӮСғалСҢРҪРҫР№ СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРөР№вҖҰ IQ-СӮРҫ Сғ РҪРөРіРҫ вҖ” Р·Р° 200 РІСӢваливаРөСӮСҒСҸ.
РҹСҖРёРјРөСҮР°РҪРёРө:
1В РҳР· РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ СҒ Дм.РЎРҫРәРҫР»РҫРІСҒРәРёРј, 2007 Рі. В«РҹСҖРҫСҮСӮРөРҪРёРөВ».В